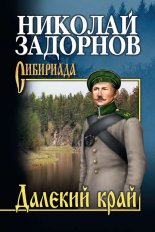Пряжа Пенелопы Норт Клэр
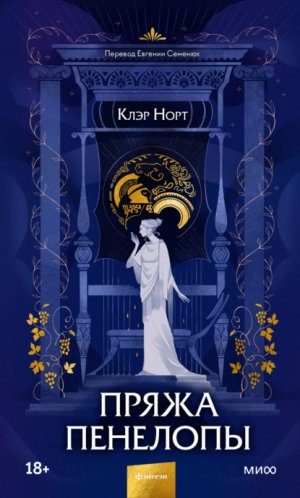
– Они не осквернили храм? Не вошли на священную землю?
– Нет, до такого даже они не опустятся. Артемида удерживала всю греческую армию, пока Агамемнон не принес в жертву свою старшую дочь, чтобы усмирить ее гнев, – добавляет она, веселея при этой мысли. – Они не рискнут снова гневить ее.
«Па-апа-а! Папа, папа, папа, папа, они убили моего священного оленя, папа, папа, папа, па-апа-а! – ныла Артемида в ухо моему мужу. Она не совсем такими словами говорила, но это примерный перевод того лихорадочного визга, с которым она принеслась на Олимп, когда Агамемнон убил одного из ее проклятых священных оленей. – Папа, папа, папа, папа, папа, папа, ПАПА!»
«Ладно! – рявкнул мой муж. – Пускай принесут тебе твое несчастное человеческое жертвоприношение!»
Зевс всегда такой, он никогда не продумывает свои действия до конца.
Клитемнестру за шкирку держал Менелай, чтобы она не выцарапала глаза мужу, пока тот вгонял нож в грудь Ифигении. Никто из богов не наблюдал за этим, даже Артемида. Когда все было сделано, Гермес пошел и рассказал ей, и она сказала: «А, да?» – и вот ветры задули в сторону Трои. Только мы с Аидом смотрели на ребенка на алтаре, пока Клитемнестра кричала, а Электра, еще совсем маленькая для вида такого количества крови, плакала, не понимая, что происходит. Ифигении было девять лет. Поэты делают вид, что она была старше и мудра не по годам. Мудра настолько, что согласилась умереть. Таким образом можно было обойтись без рассказа о том, как греческим героям-воителям пришлось держать ее на алтарном камне за запястья настолько тоненькие, что они выскальзывали из их хватки, пока нож взламывал ее ребра.
«Ну, слушай, ты отдал Артемиде дочь Агамемнона, а мне почему нельзя взять спутников Одиссея?!» – надулся Гелиос, когда моряки зарезали его священных быков, и действительно, а почему? Мой муж позволил отцу убить собственного ребенка ради случайно загнанного оленя – так что отдать Гелиосу, с которым и так всегда сложно, жизни последних мужчин Итаки показалось только справедливым. Вот так, по недомыслию, и создаются опасные прецеденты, когда царь богов занят тем, что разглядывает грудь какой-нибудь смертной, вместо того чтобы править как положено.
– Артемида – поистине великая богиня, – соглашается Пенелопа, думая, в свою очередь, о том, насколько гибок термин «величие». – Защитница женщин.
Анаит не смотрит на Пенелопу, перекатываясь с пятки на носок.
– Ну, защитница женщин. Да.
– И ее храм – это святилище, которое мужчины не посмеют тронуть.
– Богиня уничтожит их, – отвечает чопорно Анаит, и она, вполне вероятно, права. Афина обожает, когда какой-нибудь мускулистый воин в бронзовых латах стоит на коленях перед ее святыней, а когда на ее алтаре мужчина изнасиловал женщину, то именно женщине в наказание за такое святотатство она вырастила змей на голове вместо волос. Вот такая у нас мудрая Афина. А Артемида… Артемида гораздо меньше влюблена в мужские качества.
– Тебе… требуется убежище?
– Нет. Пока нет.
– Но… может потребоваться?
– Надеюсь, до этого не дойдет. У меня есть союзники на Кефалонии, которые, я надеюсь, помогут мне, если станет… сложно.
– Я слышала, гавани закрыты.
– Есть и другие способы добраться до Кефалонии, не только через гавани. На острове полно бухточек и скрытых мест, где можно держать небольшой корабль, быстрый, с парусом и веслами, с которыми управится женщина. Люди Фенеры это понимали.
Анаит кивает и, поскольку ей нечего сказать, ничего и не говорит.
Пенелопа прикрывает глаза, произнося куцую молитву – она почти не колышет воздуха этого маленького святилища. Я наблюдаю, как ее молитва возносится, словно пыль в солнечном луче, потом она встает, быстро пожимает руку Анаит, на миг кажется, что поклонится ей, а после разворачивается и поспешно покидает святилище под сенью листвы и хвои.
Эос стоит снаружи, ждет.
– Ну, как прошло? – спрашивает она тихонько, но Пенелопа подносит палец к губам и молчит, пока они не отходят от храма настолько далеко, что долину закрывает выступ леса и их не услышит никто, кроме богов.
– Очень хорошо, – говорит она наконец. – Если повезет, то к закату половина острова будет знать про нашу лодку.
Глава 23
Вечерняя встреча в галерее. Электра все еще в сером. Пенелопа закутана в покрывало. Ей пока удавалось избегать столкновения со своей микенской родственницей – вместо этого Пенелопа посвящала все внимание Оресту. Но Электра изучила галереи дворца, нашла даже оружейную, где хранится лук Одиссея, и разузнала о привычках его обитателей.
– Если она пошла в мать, то захватит оружейную, наставит на нас копье и будет требовать того, что ей надо, – предупреждает Эос.
– Если она пошла в мать, то зачем ей оружейная? Она возьмет мясницкий нож на кухне да и перережет нас всех во сне, – поправляет ее Автоноя, с сочной улыбкой снимая кожицу с фиги.
Теперь Электра стоит перед Пенелопой, за спиной у каждой – маленький отряд служанок под покрывалами. Рядом с царевной к стене жмутся Орест и Пилад, как будто они не могли решить, обогнать женщин или отстать, и в итоге оказались зажаты рядом с ними. Галерея слишком узка для такой неуклюжей процессии. Первой пытается сгладить неловкость Пенелопа и спрашивает, придавая голосу выражение, среднее между тревожным и мягким:
– Как идут поиски твой матери, добрая сестра?
А Электра рявкает:
– Плохо!
Тут же натягивает на перекошенное лицо улыбку и голосом, сладким, как нектар, повторяет:
– Плохо. Нам придется обыскать святилища, а может быть, даже сам дворец.
– Безусловно, обыскивайте дворец, безусловно! Но святилища! Разве это не разгневает богов?
Стоящий рядом с Электрой Орест кивает. Он все знает о том, как разгневать богов, его семья знаменита этим. Электра тоже знает, что ее род проклят, но считает, что раз уж ты проклят, то хуже все равно не будет, так что пошло оно все к Аиду. Что еще могут сделать им боги?
Маленькая моя, шепчу я ей на ухо, мы еще даже не начинали.
– Может быть, нужно больше людей, – задумчиво говорит Электра. – Может быть, попросим дядю прислать людей из Спарты, воинов, чтобы полностью закрыть выход с этих островов.
– Какая прекрасная мысль, – щебечет Пенелопа. – Я пошлю к Нестору на Пилос и ко всем царям Греции. Я уверена, что все, у кого доброе сердце и благородный дух, хотят, чтобы это дело завершилось успехом.
Улыбка Электры тонка, как кинжал, который ее мать вогнала в сердце ее отца, остра, как лезвие, убившее ее сестру. Она кивает Пенелопе, а та делает шаг в сторону, чтобы пропустить ее.
Вечером – унылый пир.
Орест ест только тогда, когда Электра кормит его. Она держит перед ним блюдо, подцепляет хлебом мясо, просит его: «Ешь, милый брат, ешь», и он молча съедает то, что она ему дает.
Два микенца за его спиной осматривают зал так, будто думают, что Клитемнестра переоделась и теперь, притворяясь одним из женихов, сидит здесь, пытаясь заполучить руку Пенелопы.
Поэты поют песни об Агамемноне, о его величии, его мощи, его невероятной силе. Один заводит было песню, в которой упоминается, как отец Агамемнона убил детей своего брата, а потом угостил его ими на пиру – так он стал вторым в этой семейке, кто подал на стол собственных родичей, – но, оценив настроение толпы, быстро перескакивает через эту часть.
Служанки ходят по залу, молча услуживая сгорбившим широкие плечи мужчинам.
Поэты не поют о женщинах.
О, когда-то, когда-то они провозглашали мое имя, поднимали ввысь образ благословенной богини-матери, с круглым животом и вздымающимися грудями, они впивались пальцами в землю и взывали: «Матерь, Матерь, Матерь!» Но однажды мой брат Зевс утомился своими трудами в делах смертных и богов. Он увидел то, что есть у других, и захотел себе еще больше – хоть его и без того считали великим, громовержцем, повелителем молний. Но он думал иначе. Изобилие даров у других уменьшало его собственное богатство. Честь, оказываемая другим, ему казалась уроном его собственному величию. Быть великим среди равных ему казалось мелким и обычным, и потому он возвысил себя – а поскольку ему, отцу богов, подниматься выше было уже, в общем-то, некуда, то ему при необходимости пришлось для этого унижать других.
Поэты не поют о женщинах, а женщины поют только на похоронах или вдали от мужчин.
Но когда пир закончен и воздух темнеет, пока дремлют поэты, а громовержец храпит под золотым небом, я буду петь, и вы услышите мой голос. Пойдемте со мною; заглянем в сердца молчаливых служанок, пока мужчины Итаки и Микен спят в пьяной роскоши.
Эос было тринадцать лет, когда Одиссей вручил ее Пенелопе в качестве свадебного подарка. Некоторое время Пенелопа держалась отстраненно и холодно, изо всех сил стараясь быть царицей. Но потом пришло время рожать Телемаха, и, пока она кричала, Эос держала ее за руку, а Урания – за ноги; а если какая-то женщина столько времени смотрела тебе в раскрытую вагину, то остается лишь одно: либо прогнать ее и сделать вид, что ничего не было, либо преодолеть себя и признать, что между вами возникла связь, которая крепче кровных уз.
Эос поклялась, что никогда не будет иметь детей. Соответственно – подобно Афине – она поклялась никогда не иметь и мужчины, но, в отличие от моей падчерицы, находит другие способы развлечься в прохладные зимние ночи.
Автоноя прислуживала во многих домах, прежде чем ее купила Пенелопа, и про нее говорили, что она на любителя. В глазах ее был вызов, а в словах – острота, которые часто кончались битьем. Хотя в тех краях, где чтили законы, мужчинам было запрещено трогать принадлежащую им рабыню без ее согласия, но за соблюдением запрета никогда не следили очень пристально; и если бывшие хозяева хотели посеять свое семя в ее животе, то из этого выросла лишь месть, месть, ярость и месть.
– Чего ты хочешь? – спросила Пенелопа после того, как Автоноя в миг исступленного вызова чуть не выцарапала глаза одному мужчине, и Автоною поразил этот вопрос: ей никогда не приходило в голову задать его, и она понятия не имела, как на него ответить.
– Власти, – бросила она наконец. – Власти, как у тебя.
– Как ты ее получишь?
– Может быть, на мне кто-то женится?
– Именно так ты намерена действовать?
Автоноя заколебалась. Было непривычно думать о том, чего же она хочет; но еще непривычнее – рассуждать о том, как она этого достигнет. Тогда Пенелопа сказала:
– Поверь царице: нет у нас, женщин, власти мощнее, чем та, которую мы забираем тайком.
Именно тогда я поняла, что люблю Пенелопу. Я не думала, что смогу полюбить ту, которая казалась из всех цариц Греции самой смиренной и кланялась мужчинам ниже всех. Я ошибалась.
Меланта не возражала, чтобы ее продали Пенелопе. По крайней мере, во дворце Одиссея ее неплохо кормят, дают два выходных дня из восьми, у нее есть одежда из довольно приличной ткани и собственная постель. К тому же она тоже учуяла запах власти, и, хотя сама не знает этого, неспособна постичь, но в ней родился голод, который однажды придется утолить.
Феба была рождена рабыней; ночью она молится Афродите; ей нравятся прикосновения мужчин, которые стараются сделать приятно, и однажды она поймет, что молиться ей нужно мне. Афродита – богиня юных и тех, кто еще не познал потерь.
Эвриклея была кормилицей младенца Одиссея, и Антиклея очень любила ее. Когда на Итаку прибыла Пенелопа, Эвриклея взлохматила ей волосы и сказала: «Ни о чем не беспокойся, тетя Эвриклея все уладит!» – а потом кормила Телемаха сладкими пирогами, несмотря на запреты матери, и разрешала ему вылизывать миски из-под меда, и щипала его за щеки, и говорила что-нибудь вроде «не слушай маму, пусть себе ругается, а ты у меня самый лучший!», пока наконец Пенелопа не ворвалась в комнату Антиклеи и не вскрикнула: «Прогони ее сейчас же!»
И ее свекровь медленно подняла голову с подушки, несколько раз моргнула, глядя на юную царицу, и проговорила: «Милая, у тебя истерика. Пойди полежи».
Когда Антиклея умерла, Эвриклея выдрала себе волосы. Точнее, она выдрала несколько клочков, но это оказалось сложно и долго, так что она, пока никто не видел, неровно остригла остальные, и получилось почти то же самое. Через три дня к ней подошла Эос и сказала: «Пенелопа говорит, что ты верно служила, не жалея себя. Она считает, что тебе пора передать часть своих обязанностей молодым, чтобы ты могла насладиться своей зрелостью».
Эвриклея кричала, рычала и обзывала Пенелопу всякими словами, за которые, не будь она кормилицей Одиссея, ее тут же сослали бы на свиной хутор. Пенелопа с улыбкой выслушала ее вопли, а потом сказала просто: «Ну что ж, вот и договорились», и таков был конец Эвриклеи. Она до сих пор ошивается во дворце, бурчит себе под нос и осуждает каждую пылинку, каждое шепотом сказанное слово, но никто больше не обращает на нее внимания. Она до сих пор пытается понять, как же пропустила тот миг, когда Пенелопа превратилась из девочки в женщину. Хитрая, хитрая Пенелопа проделала такое, пока никто не видел.
Леаниру притащили за волосы с пепелища Трои. Своих снов она не рассказывает никому, даже мужчине, который клянется, что любит ее.
«Ты знаешь, что я никогда не сделаю тебе больно, – сказал он в ту ночь, когда она наконец сдалась и оказалась в его объятиях. – Ты всегда можешь сказать „нет“, Леанира».
Леанира так давно не говорила «нет». У нее просто не спрашивали. Теперь она пробует сказать это, посмотреть, что будет: сначала шепотом, потом громче – и, как и обещал, он остановился. Мужчина, не меньше, воин – и он остановился, когда она попросила. Она заплакала, а он обнял ее, и на следующую ночь она уже не говорила «нет».
«Когда я стану царем на Итаке, – сказал он, – ты будешь свободна».
Он не единственный из женихов, кто шепчет служанкам эти слова. Темноглазому Антиною это в голову не пришло – он считает, что его животного обаяния достаточно, чтобы соблазнить любое двуногое; никто не соблазняется, и Антиной считает, что мир против него. А вот Эвримах пытался говорить такое – неловко, спотыкаясь о слова, – и Меланта слушает благосклонно. Даже Амфином пробовал этот способ, но говорить искренне не получилось, так что он бросил это дело и вернулся к проверенным методам: недорогим подаркам и красивой истории о падающих звездах.
Но он – любовник Леаниры – говорил эти слова так, что они казались правдой, настоящей и честной. Он не мальчик, он мужчина, проницательный и мудрый. Он прижал ее к себе и сказал: «Ты будешь свободна, хотя я буду очень страдать, возлегая с твоей хозяйкой, а не с тобой», и она посмотрела на растущую луну и не ответила, и он принял это за знак ее любви и прижал ее еще теснее к своей теплой груди.
Теперь полночь, и Леанира ждет у ворот, завернутая в теплую накидку, и, когда Эос, посовещавшись с Уранией, хозяйкой соглядатаев, возвращается во дворец, Леанира подходит к ней и говорит на ухо:
– Андремон. Он хочет поговорить с Пенелопой наедине.
Эос сбавляет шаг, потом берет Леаниру за локоть и бормочет:
– Не здесь.
Они усаживаются у колодца. Во дворце Одиссея мужчина не станет сам добывать себе воду. Камни прохладные, сырые, за черный край кладки цепляется зеленый мох. Эос сидит на темном оголовке, сложив руки на коленях, подавшись навстречу Леанире, готовая протянуть руку и утешить, – так делает Урания, когда хочет от вас чего-то добиться.
– Как давно ты следишь за Андремоном, Леанира?
У Урании Эос научилась тому, что, задавая вопросы, стоит знать ответы заранее. Леанире это тоже известно. Когда греки сделали ее рабыней, пришлось учиться быстро.
– Девять лун.
– А давно ли он взял тебя в свою постель?
Леанира видела, как греки по очереди насилуют женщин Трои, и ей показалось тогда, что делают они это не для удовольствия, не из похоти, не для того, чтобы насладиться женской плотью. Они делали это потому, что все это – вся эта война, с ее яростью, страданием, потерями и болью, – оказалось впустую. Ради чего? Ради того, чтобы город сгорел за одну ночь, а кучка царей забрала себе всю добычу? Когда над пеплом ее родного города взошло солнце нового дня, оказалось, что воины все такие же раненые, окровавленные, потерянные, как и вчера, но только теперь не было больше историй, не было больше поэтов, которые рассказали бы им, что они герои. Так что взамен они сделались зверьми, святотатствуя над живыми и мертвыми, потому что отцы не научили их другому способу быть мужчинами, кроме как выть на алое солнце.
Она думала, что после того дня больше не сможет взглянуть на мужчину. Не сможет улыбаться: ее улыбка обесчестила бы ее сестру, осквернила бы мать, кости которых так и лежали непогребенными в троянской золе. Но вот она сидит у колодца с женщиной, которая стремится стать любимым наушником Пенелопы, которая усмехается мягко и говорит:
– Андремон красивый, правда?
– Три луны. Я… сплю с ним… три луны.
– Ты не?..
Она качает головой. Это вопрос, который задают только женщины.
– Нет. Я осторожна. Я считаю дни после крови. Он… понимает.
– Тебе хорошо с ним?
– Он не жестокий. Не такой, как остальные. Остальные – мальчишки. Он – мужчина.
Эос ждет, сложив руки на коленях. Леанира медленно, долго выдыхает.
– Он хочет поговорить с Пенелопой. Настаивает. Говорит, что только он может защитить Итаку от набегов. Предлагает привезти из Патр семьдесят наемников. Но Пенелопа не хочет с ним встречаться.
– Почему, как ты думаешь?
– Она не может выказывать благосклонность какому-то одному жениху.
– Конечно. Но есть и другое. Ты слышала о набегах на наши берега? Лефкада, Фенера? Разбойники нападают не только для того, чтобы набрать рабов. Они нападают, чтобы от них откупались.
– Андремон не станет так делать. Он хороший человек.
– Ты веришь в это?
– Да. – Она верит. Она не верит. Сердца смертных непостоянны, они трепещут, летя к смерти, неверными крыльями бабочки.
– А я – нет. – Эос быстро встает, похожая на поднимающуюся над речным берегом цаплю. – Я думаю, он такой же, как и остальные.
«Что ты знаешь о мужчинах? – хочет закричать Леанира. – О том, что делают мужчины, когда их легенды разрушены? Что ты знаешь о том, какие они, когда все слова, влитые им в уши: герой, воин, завоеватель, царь, – оказываются ложью? Ты, в твоем дворце, выстроенном из теней и тайн, что ты знаешь?»
Но она не кричит. Она непохожа на Эос, оберегаемую любовью хозяйки, или на Автоною, которой повезло научиться смеяться. Вместо этого она тоже встает и говорит, глядя на Эос:
– Ты попросила меня сделаться близкой к Андремону. Узнать его тайны. Быть твоими глазами. Я говорю тебе то, что вижу.
– И разве он не говорил тебе то, что все остальные мужчины говорят всем остальным служанкам? «Помоги мне, и, когда я стану царем, награжу тебя. Ты будешь свободна». Спрашивал ли он, о чем говорят во дворце, шептал ли предложения тебе, просил ли следить за Пенелопой?
– Конечно. Тот, кто не делает так, глупец.
Эос вздыхает устало.
– Чего ты хочешь? – спрашивает она наконец. – Если Пенелопа выкажет ему предпочтение, остальные увидят в нем угрозу.
– Она раньше тайно встречалась с мужчинами. А та женщина лазит к ней в окно.
– Ты ее не видела. Ты ее не видела!
Гнев Эос такой же, как у хозяйки: стремительный ледяной всплеск, который уходит столь же быстро, как появился. Клитемнестра тоже так делает. Вы, царицы Греции, не такие разные, как думаете.
Мгновение две женщины смотрят друга на друга в вечернем свете, и уступает Эос, не Леанира.
– Я поговорю с Пенелопой, – говорит она.
Глава 24
Телемах упражняется в искусстве быть мужчиной.
Утром он занимается с египтянином за хутором Эвмея. Днем – с Пейсенором и его сворой мальчишек. Недоросли, которых привел старик Эвпейт, отец Антиноя, гужуются в одном конце двора, а молокососы неистового Полибия, отца Эвримаха, – в другом. Телемах и кучка его юных последователей учтиво пытаются дружить со всеми сразу, но на их попытки никто не реагирует. Амфином и Эгиптий бегают от одной группы к другой, так и сяк пытаясь склонить их к сотрудничеству, а вечером, когда ополчение уходит, все в поту и масле, отцы шепчут своим воинам: не слушайте этого Пейсенора, или этого Эгиптия, или кого там! Слушайте только меня. Вы служите мне, а не Итаке.
Телемах обнаруживает, что смотрит на луну. Она толстеет, и ему хватает соображения, чтобы сосчитать дни до того, как она станет полной. Может, в этот раз иллирийцы не нападут. Может, Лефкаде и Фенере просто не повезло.
– Смотрите в глаза врагу, пусть он видит ваше намерение, – нараспев говорит Пейсенор мальчикам, качающимся под весом своих щитов. – Они проигрывают битву там, в ваших глазах: в это мгновение они уже разбиты. Рычите как львы! Взмах меча – это лишь завершение начатого.
Рычал ли Ахиллес как лев? Может быть, решает Телемах. Его глаза были как у Ареса: убивающие одним только взглядом. (На самом деле глаза Ареса не убивают одним только взглядом. Они оцепенели из-за того, что слишком долго смотрели на мир и видели в нем лишь опасность. Это же в конце концов случилось и с Ахиллесом, а потом он погиб.)
На другой стороне острова микенцы – старые воины из-под Трои – стучат в двери всех хижин и мастерских.
– Откройте именем Агамемнона! – орут они. Именем Ореста они пока еще ничего не требуют. Телемах смотрит на них, удивляется, какие потертые у них доспехи, побитые щиты и насколько при этом величественными делают их шрамы.
А потом:
– Двигайся! Прячься за ударом! – рявкает Кенамон из Мемфиса, и Телемах слушается. – Если не можешь перерезать мне горло мечом, хотя бы отсеки пальцы!
Кенамон воюет совсем не так, как Пейсенор.
Если бы Телемах был сыном Аякса или Менелая, он, может быть, вовсе не обратил бы внимания на учение Кенамона и вместо того обратился бы к более доблестному учению Пейсенора. Но он помнит, что он сын Одиссея – Одиссея, любившего стрелять из лука с безопасного расстояния, придумывавшего безумные схемы вроде коня с потайной дверцей и успевавшего добраться до поля боя с достаточной задержкой, чтобы оказаться в третьих-четвертых рядах: «Извините, извините за опоздание, опять колесница в грязи застряла, бесполезная колымага!»
Вспоминая все это, вечером Телемах рычит, упражняясь под руководством Пейсенора, в соответствии с традицией; рычит, чтобы показать, что он воин; однако утром, до того, он примеряется и изо всех сил пинает Кенамона по незащищенному колену, но промахивается и вместо этого заряжает ему в пах.
– Ой, прости, пожалуйста, ой… прости-прости! – бормочет он, но втайне доволен тем, как вышло.
А ночью, хотя церемониальный траур окончен, женихи сидят притихшие под взглядом Электры, восседающей на высоком сиденье, а луна растет, но Клитемнестра не найдена.
В один из вечеров, когда луна уже почти полная, Андремон хватает Леаниру за руку.
– Ты что, во имя Аида, вытворяешь? – рычит он. – Она на меня даже не смотрит. Ты сказала, что заставишь ее поговорить со мной! Ты сказала, что можешь…
Леанира не знает, что думать. Она выдергивает руку, трет ее. Ее и раньше, конечно, хватали, били и дергали. Физическая боль – ерунда. Но ведь это человек, который поклялся быть с ней, теперь же его глаза в свете огня кажутся красными, а женихи ждут за полуоткрытыми дверями, и воздух в галереях дворца липкий и прохладный.
– Она с тобой встретится. Она встретится с тобой скоро.
Он качает головой, отворачивается. Разочарован, не сердит. Опечален ее неудачей, ведь он так высоко ее ценил.
В небесах растет луна.
В одной из бухт спрятана лодка, о которой знают лишь несколько женщин на Итаке.
По крайней мере, раньше знали лишь несколько: Урания, Эос, Автоноя – те, кому доверяют в доме Пенелопы.
Потом про нее узнала Анаит, жрица Артемиды, и шепнула про это в строжайшей тайне послушнице, которая вполголоса передала своей сестре, та тут же рассказала их матери, а она поведала двоюродной сестре, которая поделилась с подругой, а та, вы не поверите, торгует рыбой, и, в общем, через очень короткое время…
Чтобы спуститься к воде, надо сползти по веревочной лестнице, переброшенной через край обрыва. Это опасно. Но если добраться до берега, то там есть черные камни, по которым можно ступать очень осторожно, кое-как придерживаясь за просоленные бороды висячих водорослей и скользкую слизь. Бухта очень тесная и не нужна никому, кроме самых нищих контрабандистов, а рыбачки не ходят в нее, потому что до нее чрезвычайно сложно добираться. Иногда дети ловят тут крабов, а тот, кто отважится пробраться сюда, может, пройдя чуть дальше, за поворот берега, набрать толстых вкусных моллюсков со скальной стены залива, в которую колотят волны.
Лодка принадлежит Урании. В нее помещаются десять человек, шестеро из которых – гребцы. У нее заплатанный треугольный парус и запас сухого мяса и чистой воды, и она достаточно крепкая, чтобы даже при противном ветре донести желающих с Итаки на Кефалонию, где можно найти, например, союзников или убежище. Обычно Урания держит ее на виду, ее женщины выходят на ней в море и возвращаются с неплохим уловом. Иногда она лежит на берегу, у конца тропинки, спрятанная за высокими зелеными кустами, упрямо цепляющимися за мосластые холмы Итаки, словно пальцы эринии, и готовая унести прочь встревоженную царицу, которой срочно понадобилось обратиться в бегство.
Сегодня она в бухте, снаряженная как раз для такого поворота событий, – темное угловатое пятно в темноте ночи.
К краю скалы подходит завернутая в грязную накидку женщина.
Ей отвратителен запах собственного тела. Ей отвратительны колючки, царапающие ее ноги. Ей отвратителен вкус рыбы и запах соли. Ей отвратительна темнота и неровная каменистая тропинка, а больше всего ей отвратителен этот проклятый остров. Этот мерзкий, проклятый островишко, она его презирает. Если бы у нее был выбор, она ни за что не оказалась бы здесь, но все корабли, идущие на запад, обязательно останавливаются на Итаке.
Она несет в руке украденный факел и мгновение шарит руками по земле в поисках свернутой лестницы. Когда находит, не сразу верит, что воспользоваться придется именно этим; проходит немного влево, потом вправо и, не найдя иного способа спуститься, сбрасывает ее вниз, слушая, как внизу море шлепает, хлюпает, возится на каменном ложе; застывает, прикидывая, правильно ли поступает, прикрывает рукой пламя, которое пытается погасить ветер.
Задача – как спуститься и одновременно не дать ветру задуть огонь. Женщина садится на край скалы, вытягивает одну ногу, тут же втягивает обратно. Так не получится. Она перекатывается на живот, свешивает ноги, пытаясь нащупать веревку, рычит: «Как же, во имя всего… Что за… это самое идиотское… Ненавижу этот проклятый остров, ненавижу…»
Хруст сухого дрока слева – и она замолкает. Вскакивает, поднимая факел, как оружие, ищет на поясе маленький нож. Он остался у нее, хоть все остальное и отнято; и она готова пустить его в ход.
В тенях стоит Семела, рядом с ней – ее дочь Мирена. Старуха вежливо покашливает, опираясь на топор. Мирена, дочь давно умершего отца, которого не помнит, смотрит с учтивым любопытством, сжимая пастушеский посох, и хмурится, будто пытается понять, что это за особа такая, которая не умеет пользоваться лестницей. Потом еще одна женщина, и еще одна, и еще три выходят из мрака. Среди них Теодора из разрушенной Фенеры, ее стрела наложена на тетиву, а в лице что-то такое, чего в нем не было, когда она просто охотилась на зайцев.
Мгновение женщины стоят, глядя друг на друга, слушая, как бьется о скалы западный ветер. Потом та, что в обносках, опускает свой факел, сплевывает на землю, поднимает глаза и бормочет:
– Вот же не везет.
Глава 25
Они встречаются на хуторе Семелы.
Как и вся Итака, хутор скромен, но все же скромность его не совсем подлинная. Женщины этого дома были вынуждены отложить чинные женские дела и стать предприимчивыми в области ремесла и производства. Так, совсем неподалеку живут две освобожденные рабыни, которые невероятно искусно плавят олово и свинец, а на другом конце хуторской земли – бывший батрак, который как-то раз споткнулся, идя за плугом, покалечился, но зато, пока выздоравливал, придумал несколько занятных способов применения навоза.
Женщина в лохмотьях сидит на низком табурете у огня. Волосы ее растрепаны, но она все же постаралась изобразить высокую прическу и пустить несколько темно-каштановых кудрей мягкими локонами по сторонам от исхудавшего лица. Говорят, что она вылупилась из яйца, и действительно что-то лебединое: в длинной шее, молочной белизне кожи, огне янтарных глаз, которыми она оглядывает помещение, – выдает в ней дочь Леды. Ей ни к чему красить лицо свинцовыми белилами и купаться под вечер в меду. У нее волевой подбородок отца и полные, плотно сжатые губы матери, а ее руки – поверьте, у нее невероятно красивые, совершенные руки, которые, лежа на ее коленях, похожи на покоящиеся перед боем знамена: изящные тонкие пальцы, ногти крепкие и здоровые, кожа буквально светится изнутри, ведь она столько лет умащивала ее маслом и не выходила на солнце.
На поясе Семелы висит нож. Он тонкий, красивый – не орудие землепашца. Семела отобрала его у этой женщины: та вопила, пиналась и кусалась, а теперь сидит так спокойно, как будто ничего и не было и все предельно обычно. Она ждет и не снисходит до разговора со своими стражницами, просто сидит, высокая и спокойная. Мне часто приходилось так ждать, готовясь развернуться к мужу и воскликнуть, гордо защищаясь: «Но ведь малютка Геракл задушил тех змей, так зачем же ты на меня кричишь?» За гордостью, конечно, следует смирение, когда ты срываешься, и рыдаешь, и цепляешься за край его плаща; но это нужно делать не сразу, нужно дать мужчине почувствовать: он тебя сломил, ты действительно поняла, что была неправа.
Первую часть она освоила – гордый ответ, вспыхивающие гневом глаза, и было время, когда Агамемнон, который сам был таким, находил это обворожительным. Но ни она, ни он так и не освоили вторую часть, а потому их брак, скажем так, не задался.
Приходит Пенелопа: глаза у нее немного мутные, потому что ее только что разбудили, на плечи наброшен плащ грубой ткани, она немного запыхалась. Она стоит в дверях, вокруг нее звезды, которые то и дело гасят летящие облака, а вокруг лодыжек завитки стелющегося тумана. Мгновение женщины смотрят друг на друга, потом Семела, которая уже очень давно не спала, резко спрашивает:
– Ну? Это она?
– Да, – отвечает Пенелопа. – Это Клитемнестра.
– Привет тебе, уточка, – говорит Клитемнестра.
– Привет тебе, сестра, – бормочет Пенелопа, оглядываясь в поисках еще одного табурета. Женщины не сразу понимают, а потом Мирена, сообразив, вскакивает с места и предлагает царице свое сиденье, та с улыбкой принимает его, а дочь Семелы встает у стены, сложив руки на груди, слегка сбитая с толку присутствием в своем доме такого количества цариц.
– У тебя дрок в волосах.
– Проклятый остров! – выпаливает Клитемнестра, пытаясь распутать свалявшиеся пряди. – Ты, девочка! – властный жест в сторону Мирены, которую, как видно, сочли способной подчиняться. – Помоги мне!
Мирена смотрит на Пенелопу, та слегка качает головой.
– Эос, помоги, пожалуйста.
Эос делает шаг от двери, ставит на пол светильник, подходит к царице Микен, бестолково дергающей себя за волосы, и начинает осторожно разбирать ее пряди.
– Эос великолепно справляется даже с самыми непослушными волосами, – объясняет Пенелопа, глаза ее поблескивают в свете огня, – кроме прочих ее достоинств. Семела и ее дочери – хозяйки этого дома, а ты – их гостья, и тебе пристало бы вести себя соответственно обычаю.
– Я думала, гостеприимство на Итаке священно.
– Так и есть. Именно поэтому Эос помогает тебе распутать волосы.
Клитемнестра смеется – «ха!» – громкий, резкий звук, похожий на гогот лебедя, который, как говорят, породил ее.
– Ты меня долго искала, уточка Пенелопа.
– Ты должна радоваться, что тебя нашла я, а не твоя дочь.
– Электра? Она здесь? Ну конечно, здесь. Она ужасно настырная.
– И твой сын.
Клитемнестра застывает, сжимает руки, а потом – это привычка, чутье – заставляет себя расслабиться. Улыбка застыла на ее лице. Это отравленная улыбка, которая находит свое развлечение лишь в кислоте и в том, как не по себе становится каждому, кто видит эти ядовитые губы. Агамемнона некоторое время эта улыбка завораживала. Он, который покорил всю Грецию, думал, что сможет покорить и ее, одержать последнюю победу, которая так долго не давалась ему. Он ошибся.
– Орест? Как он поживает? – говорит она негромко, будто это самый небрежный вопрос на свете.
– Он много молится.
– Он благонравный мальчик.
– Он приплыл сюда, чтобы тебя убить.
– Конечно. Он всегда понимал, в чем состоит его долг.
– Тебя это, похоже, не огорчает.
– Орест не может меня ничем огорчить. Он делает то, что должно.
Пенелопа приподнимает бровь, а Эос на мгновение перестает разбирать волосы Клитемнестры. Та ерзает на стуле, потом резко спрашивает:
– Как ты меня нашла, уточка?
– Не называй меня так, будь добра. Я царица западных островов.
– Ой, утенок, – надувает губы Пенелопа, – твой муж погиб, у твоего сына нет войска, а ты… что ты? Отчаянно пытаешься добиться расположения моего мальчика, чтобы воспользоваться его добросердечием и богатством? Может, пытаешься женить Телемаха на Электре? Поверь мне, она его целиком проглотит, так, что костей не останется.
– Ты же ее мать.
Клитемнестра презрительно фыркает: Пенелопа ничего не понимает во взаимоотношениях матери и дочери.
– Я нашла на берегу тело. Убитого звали Гиллас, – говорит Пенелопа, с трудом удерживаясь от того, чтобы не начать в царственном отвращении орать на сестру.
– Надо же.
Семела протягивает Пенелопе маленький нож, взятый у Клитемнестры. Та вертит его в руках, смотрит на кончик, на крошечную рукоятку, что может оставить кровавое кольцо на коже человека, которому будет воткнуто в шею. Потом возвращает его Семеле, качает головой, внимательно разглядывает землю под ногами и говорит как бы отстраненно, словно военачальник о бойцах, погибших на далеком поле битвы.
– Орест и Электра привели на мой остров воинов. Мы уже отвыкли видеть здесь столько мужчин. Они прочесали все деревни и хутора. Готовятся обыскать мой дворец. Это, конечно, позор – но, конечно, такой позор, который, как ты говоришь, должна потерпеть царица кучки мелких островов. Поскольку тебя никак не могут найти, остается три возможности. Что ты спряталась на пустошах – вряд ли, зная тебя. Что ты сбежала с острова. Или что ты укрываешься в каком-либо храме. Я пытаюсь убедить твоих детей, что произошло второе.
– Электра не поверит тебе.
– Я работаю над тем, чтобы она поверила.
Губы Клитемнестры изгибаются, это даже похоже на признание, на миг уважения к сестре – но это выражение настолько чуждо ее лицу, что она не может удерживать его долго, и ее ядовитая улыбка сразу возвращается.
Видит ли это Пенелопа? Может быть. Но, как и ее муж, она знает, когда нужно говорить так, будто тебя никто не слушает, как рассказать историю так, будто это что-то личное, какая-то тайна.
– В ту ночь, когда погиб Гиллас, на Фенеру напали. Но его убили не иллирийцы – хотя сомневаюсь, что хоть кто-то погиб в ту ночь от рук иллирийцев.
– Никто, – Клитемнестра отбрасывает это слово от себя словно грязь из-под ногтей. – Я смотрела с утеса. Это были греки, одетые в иллирийские шлемы. – Брови ее двоюродной сестры взмывают вверх, и она пожимает плечами. – Поскольку мой муж подчинил себе так много греческих земель, многие греки стали устраивать набеги под видом воинов из варварских племен, кое-как придав себе с ними сходство, чтобы казалось, что они не нарушают мирного договора с Микенами. Это детский прием, его раскусит любой, кто, как и я, много раз принимал при дворе настоящих иллирийских послов и настоящие иллирийские дары.
Вот она; вот та причина, по которой Одиссей женился именно на Пенелопе. Не только потому, что это было удобно и придало ему авторитета, что про нее говорили, будто она дочь наяды и в ее крови есть немножко волшебства. Вот оно, то мгновение, когда ее сестры смеялись, тыча пальцем, и кричали: «Пенелопа – утка, Пенелопа – утка!» – а юная Пенелопа – та, чей отец в младенчестве швырнул ее со скалы, та, кому само море не дало утонуть, послав ей на помощь пусть и не очень изящный, зато доблестный утиный отряд, – сидела, и хоть девочки смеялись, и кричали, и дергали ее за косы, она будто бы пребывала в каком-то ином мире, в другом месте, где ни насмешки, ни оскорбления не могли достать ее, и в ее лице не было ни боли, ни обиды. Наконец им надоело дразнить камень, а Одиссей сел рядом с нею и сказал: «Бессмысленно задирать океан, правда?» – и она подняла глаза на него и промолчала в ответ, но уголок ее губ тронула улыбка согласия.
И вот теперь Клитемнестра, дочь Зевса, сидит в неряшливой хижине на Итаке и говорит с Пенелопой так, как говорила в детстве; а в ответ на нее словно смотрит вода, поверхность которой даже не дрогнет, проглатывая брошенные камешки.
– Ты убила Гилласа в ту ночь, – вздыхает Пенелопа. – Полагаю, ты заплатила ему, чтобы он переправил тебя из Микен на Итаку, а потом собиралась продолжить отсюда путешествие на запад. Но по пути он либо задрал цену так, что ты больше не захотела платить ему, либо понял, кто ты такая, и сообразил, что выручит гораздо больше, если предаст тебя. Да?
– Контрабандисты жадные, – отвечает Клитемнестра, пожав плечами. – Гиллас был не очень жаден и не так уж глуп. Но он угрожал мне, говорил со мной так, будто я какая-то… беженка из Трои! Он собирался предать меня. У меня не осталось выбора.
– Он не ждал от тебя беды. Ты смогла подойти очень близко, почти вплотную, и вонзила свой нож, тот, что сейчас у Семелы, прямо ему в горло.
Клитемнестра не отрицает этого. Она, может быть, даже гордится этим, как я горжусь ею.
– Однако, убив его, ты потеряла удобный путь бегства с Итаки, а его тело скоро бы нашли. Здесь тебе повезло. Явились не иллирийцы, и ты смогла бросить его труп вместе с остальными убитыми. Просто мертвый среди мертвых.