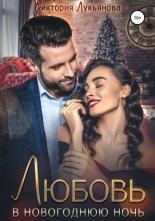Седьмая функция языка Бине Лоран

Laurent Binet
La septime fonction du langage
Editions Grasset & Fasquelle
Paris
2015
© Editions Grasset & Fasquelle, 2015
© А. Б. Захаревич, перевод, 2019
© Ирене Сушек, статья, 2019
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2019
© Издательство Ивана Лимбаха, 2019
Часть первая
Париж
1
Жизнь – не роман. Во всяком случае, вам хочется в это верить. Ролан Барт бредет по рю де Бьевр, от Сены – вверх. Величайший критик XX века сам не свой – и не удивительно. Умерла его мать, а отношения у них были поистине прустовские[1]. К тому же курс в Коллеж де Франс, который он назвал «Подготовка романа», терпит фиаско, и ему трудно себе в этом не признаться: целый год он рассказывает студентам о японских хокку, о фотографии, об означающих и означаемых, о Паскалевой философии развлечения, об официантах в кафе, о халатах и распределении мест в аудитории – обо всем, кроме романа. И так почти три года подряд. Конечно, он понимает, что этот курс – лишь способ оттянуть время, прежде чем он сядет за настоящий литературный опус и воздаст должное самому утонченному из романистов, который в нем дремлет, но, по общему мнению, уже начал пробуждаться во «Фрагментах любовной речи» – этой новой библии для тех, кому нет двадцати пяти. Из Сент-Бёва в Прусты – настало время переродиться и занять причитающееся ему место в писательском пантеоне. Мама умерла: круг, начатый «Нулевой степенью письма», замкнулся. Час пробил.
Политика – ну да, будет видно. После поездки в Китай ярым маоистом его не назовешь. Да и не этого от него ждут.
Шатобриан, Ларошфуко, Брехт, Расин, Роб-Грийе, Мишле, Мама (для него – с большой буквы). Золото, а не ребенок.
Я вот думаю: был ли квартал уже тогда усеян магазинами «Бывалый турист»?
Через четверть часа он будет мертв.
Уверен, что на рю де Блан-Манто кормили на совесть. Мне представляется, что по части еды там у всех губа не дура. В «Мифологиях» Ролан Барт разбирает современные мифы, созданные буржуазией для самовозвеличивания: благодаря этой книге он стал по-настоящему знаменит; то есть, в некотором смысле, буржуазия и его вознесла. Правда, это мелкая буржуазия. Солидный буржуа, вздумавший служить народу, – это особый случай, достойный анализа; стоит написать статью. Вечером? Можно и прямо сейчас. Хотя нет, сначала надо разложить диапозитивы.
Ролан Барт ускоряет шаг, но совершенно не воспринимает внешний мир; а ведь он прирожденный наблюдатель, его дело – наблюдать и анализировать, и всю жизнь он занят тем, что гоняется за всевозможными знаками. Он практически не замечает ни деревьев, ни тротуаров, ни витрин, ни машин на бульваре Сен-Жермен, который знает, как свои пять пальцев. Здесь не Япония. Он больше не чувствует покалывающего холода. И едва слышит уличный гул. Чем не аллегория: пещера наоборот[2] – мир идей, в котором он себя запер, затуманивает восприятие мира чувственного. Вокруг себя он видит лишь тени.
Причины, о которых я упомянул, объясняя тревоги Ролана Барта, подтверждены Историей, но мне хочется рассказать вам, что же произошло в действительности. Да, в этот день его мысли витают где-то далеко, однако дело тут не только в смерти матери, в неспособности написать роман или даже во все более очевидном и, как он сам полагает, необратимом охлаждении к юношам. Я не говорю, что он об этом не думает, – характер его маниакальных неврозов мне предельно ясен. Но сегодня есть кое-что еще. Заметив отсутствующий взгляд человека, погруженного в свои мысли, внимательный прохожий узнал бы признаки того состояния, которое, как казалось Барту, к нему уже не вернется: он крайне возбужден. Тут вам не только мать, юноши или роман-фантом. Тут еще и libido sciendi, жажда знания, а с ней – вновь наметившаяся и дорогая сердцу тщеславца перспектива совершить переворот в человеческом сознании и, быть может, изменить мир. Уж не мнит ли себя Барт Эйнштейном, вынашивающим знаменитую теорию, пока переходит рю дез Эколь? Очевидно одно: он невнимателен. До рабочего кабинета остается несколько десятков метров, когда его сбивает грузовик-полуторка. Глухой стук, характерный и страшный, – удар тела о листовое железо, и вот оно катится по мостовой, как тряпичная кукла. Прохожие вздрагивают. Но откуда им было знать тогда, среди бела дня, 25 февраля 1980 года, что именно произошло у них на глазах, если мир не ведает этого до сих пор?
2
Семиология – штука очень странная. Фердинанд де Соссюр, отец лингвистики, первым ухватил ее суть. В своем «Курсе общей лингвистики» он предлагает «представить себе науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества»[3]. Всего-то навсего. И вместо подсказки добавляет для тех, кто уже готов дерзнуть: «Такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее семиологией (от греч. smeon – знак). Она должна открыть нам, что такое знаки и какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, а ее место определено заранее. Лингвистика – только часть этой общей науки: законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике, и эта последняя, таким образом, окажется отнесенной к вполне определенной области в совокупности явлений человеческой жизни». Как бы я хотел, чтобы Фабрис Лукини[4] перечитал для нас этот фрагмент, выделяя слова, как он это умеет, чтобы весь мир воспринял если не смысл, то хотя бы их красоту. Гениальное наитие, практически недоступное пониманию современников (курс был прочитан в 1906 году), спустя целый век не утратило грандиозности и не стало яснее. Многие семиологи с тех пор попытались предложить более прозрачные и при этом более подробные определения, но начали противоречить друг другу (порой сами того не осознавая), все запутали и в итоге лишь расширили (да и то незначительно) свод знаковых систем, не относящихся к языку: правила дорожного движения, международный морской кодекс, нумерация автобусов, нумерация комнат в отеле дополнили систему воинских званий, азбуку жестов у глухонемых… да, в общем-то, и все.
Небогато, учитывая изначальный замах.
Если так посмотреть, то семиология, – которая не просто расширяет сферу лингвистики, – сведется к изучению грубых протоязыков, гораздо менее сложных и отсюда более ограниченных, с чем их ни сравни.
Но вообще-то – нет.
Не случайно Умберто Эко, этот болонский мудрец, один из последних семиологов, живущих на этом свете[5], так часто обращается к великим открытиям, поворотным в истории человечества: колесо, ложка, книга – все это для него совершенный инструментарий, дающий небывалые возможности. В самом деле, есть основания считать семиологию фундаментальным изобретением человечества и одним из мощнейших инструментов, созданных человеком, но это как огонь или атом: поначалу не всегда понятно, зачем это нужно и что с этим делать.
3
А ведь через четверть часа он был еще жив. Ролан Барт лежит там, где проходит водосточный желоб, неподвижно, только свистящий хрип вырывается из легких, и пока его разум погружается в бессознание в вихре хокку, расиновских александрийских строф и Паскалевых афоризмов, он слышит – и это, быть может, последнее, что уловит слух, мелькает у него мысль (мелькает, определенно) – крики перепуганного мужика: «Он сам бр-росился! Сам бр-росился!» Что это за акцент? Вокруг него прохожие – вышли из ступора, столпились, наклоняются над его почти трупом, спорят, прикидывают, оценивают:
– Надо вызвать «скорую»!
– А толку? Он уже того.
– Он сам бр-росился, вы свидетели!– Как его шмякнуло.
– Бедняга.
– Нужно найти телефонную будку. У кого есть монетки?
– Я даже затор-рмозить не успел!
– Не трогайте его, надо дождаться «скорой».
– Отойдите! Я врач.
– Не переворачивайте его.
– Я врач. Он еще жив.
– Надо сообщить родным.
– Бедняга.
– Я его знаю!
– Самоубийца?
– Надо бы выяснить его группу крови.
– Это мой клиент. Каждое утро заходит опрокинуть маленькую.
– Больше не придет.
– Он пьян?
– Спиртным несет.
– Стаканчик белого за стойкой, каждое утро, год за годом.
– Группу крови это нам не проясняет.
– Он пер-реходил и не смотр-рел!
– Водитель не должен терять контроль над транспортным средством, что бы ни случилось, здесь такой закон.
– Ничего, старик, лишь бы страховка была нормальная.
– Зато потом страховая три шкуры сдерет.
– Не трогайте его!
– Я врач!
– Я тоже.
– Тогда помогите ему. А я – за «скорой».
– Мне гр-руз надо р-развезти…
В большинстве языков мира «р» – апикально-альвеолярный звук, так называемое раскатистое «р», в отличие от французского, в котором «р» вот уже лет триста – дорсально-велярное. Нет раскатистого «р» ни в немецком, ни в английском. Ни в итальянском, ни в испанском. Может, португальский? Да, слегка гортанный, но произношение у мужика не назальное и недостаточно певучее, можно сказать – монотонное, так что даже модуляции страха едва уловимы.
Как будто русский.
4
Как же семиология, родившись из лингвистики и чуть не оставшись недоношенным уродцем, обреченным изучать самые бедные и неразвитые языки, в последний момент умудрилась превратиться в настоящую нейтронную бомбу?
Без Барта метаморфоза не обошлась.
Вначале семиология предалась изучению нелингвистических коммуникационных систем. Сам Соссюр учил своих студентов: «Язык есть система знаков, выражающих понятия, а следовательно, его можно сравнивать с письменностью, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами вежливости, с сигналами у военных и т. д. и т. п. Это всего лишь наиважнейшая из этих систем». Что правда, то правда, но при условии, что мы будем называть знаковыми только те системы, которые предназначены для коммуникации, эксплицитной и интенциональной. Бюиссанс[6] определяет семиологию как «изучение способов коммуникации, то есть средств, которые служат для влияния на других с условием, что те, на кого влияние оказывается, эти средства признают».
Барт гениален, потому что не ограничился коммуникационными системами и расширил поле исследования до систем значений. Вкусив измы языка, довольно быстро утрачиваешь интерес к прочим языковым формам: лингвиста, увлекшегося изучением системы дорожных знаков или военных уставов, можно сравнить с шахматистом или игроком в покер, пристрастившимся к тароку и рами[7]. Как сказал бы Умберто Эко: язык – самое то для коммуникации, лучше не придумаешь. Между тем язык не может выразить все. Говорит также тело, говорят предметы, история говорит, судьбы частные и собирательные, жизнь и смерть беспрестанно говорят с нами тысячью разных способов. Человек – интерпретирующий механизм, и при малой толике воображения он всюду видит знаки: будь то цвет пальто жены, царапина на двери автомобиля, гастрономические предпочтения соседей по площадке, месячные показатели безработицы во Франции, банановый вкус божоле нуво (это всегда либо банан, либо, реже, малина. Отчего так? Неизвестно, но объяснение должно быть, и непременно семиологическое), гордая поступь и прямая стать чернокожей женщины, которая перед его носом мерит шагом переходы метро, привычка соседа по кабинету не застегивать две верхние пуговицы рубашки, ритуальные танцы футболиста, радующегося голу, стоны его подружки, сообщающей тем самым, что у нее оргазм, дизайн скандинавской мебели, логотип генерального спонсора теннисного турнира, музыка на титрах фильма, архитектура, живопись, кухня, мода, реклама, оформление интерьера, западный образ женщины и мужчины, любви и смерти, неба и земли… Знаки у Барта перестали быть сигналами: они стали признаками. Огромная разница. Они повсюду. Теперь семиология готова завоевать этот необъятный мир.
5
Комиссар Байяр прибыл в отделение интенсивной терапии госпиталя Питье-Сальпетриер, где ему сообщили номер палаты Ролана Барта. В деле, которое у него на руках, следующая информация: мужчина шестидесяти четырех лет, сбит легким грузовиком, обслуживающим прачечные, на рю дез Эколь, в понедельник днем, на пешеходном переходе. Водитель грузовика – некто Иван Деляхов, болгарин, в его крови найдена небольшая доза алкоголя, в пределах нормы: 0,6, ниже разрешенных 0,8. Он признал, что должен был доставить рубашки и опаздывал. Правда, заявил, что ехал со скоростью, не превышавшей 60 км/ч. Пострадавший был без сознания, и когда прибыла «скорая», при нем не нашлось документов, однако его опознал коллега, некий Мишель Фуко, профессор Коллеж де Франс и писатель. Выяснилось, что это Ролан Барт, также профессор Коллеж де Франс и писатель.
Нет пока в этом деле ничего такого, что требовало бы срочной отправки следователя, и тем более комиссара Управления безопасности. Появление Жака Байяра объясняет, в сущности, всего одна деталь: 25 февраля 1980 года Ролан Барт попал под машину, возвращаясь после обеда с Франсуа Миттераном на рю де Блан-Манто.
Никакой связи между обедом и несчастным случаем априори нет, как и между кандидатом от социалистов на президентских выборах, которые должны пройти в следующем году, и водителем-болгарином, нанятым прачечной компанией, но на то оно и Управление безопасности, чтобы обеспечивать безопасность, особенно сейчас, в преддверии избирательной кампании, и выяснять все о том, что связано с Франсуа Миттераном. Хотя, судя по настроениям, Мишель Рокар[8] намного популярнее (опрос «Софр»[9], январь 1980-го: «Кто лучший кандидат от социалистов?» Миттеран – 20 %, Рокар – 55 %); правда, наверху явно считают, что перейти Рубикон он не решится: социалисты чтут порядок, а Миттеран переизбрался на место главы партии. Шесть лет назад он уже собрал 49,19 % голосов против 50,81 %, доставшихся Жискару, и это наименьший разрыв, зафиксированный на президентских выборах после введения всеобщего прямого голосования. В общем, есть риск, что впервые в истории Пятой республики президента выберут от левых, вот почему управление поспешило направить следователя. Перед Жаком Байяром изначально стоит задача – выяснить, не перепил ли Барт у Миттерана и не участвовал ли, часом, в садомазохистской оргии с собаками. В последние годы скандалы редко касались лидера социалистов – он как будто осторожничал. Мнимое похищение в саду Парижской обсерватории[10] было забыто. Что до перехода к Виши и полученной франциски[11], на этом – табу. Нужно что-то новенькое. Жаку Байяру официально поручено проверить обстоятельства происшествия, но он-то прекрасно знает, чего от него ждут: надо разведать, нет ли возможности подмочить репутацию кандидата социалистов – покопаться и, если получится, очернить.
Подходя к палате, Жак Байяр видит в коридоре очередь в несколько метров. Все хотят навестить пострадавшего. Хорошо одетые старики, плохо одетые юнцы, плохо одетые старики, хорошо одетые юнцы, вид разномастный, патлатые и стриженые, какие-то магрибские типажи, мужчин больше, чем женщин. Ждут очереди и о чем-то спорят, громко говорят, ссорятся, другие читают или курят. Байяр еще не успел понять, насколько Барт знаменит, и, вероятно, задается вопросом, из-за чего такой хипеж. Пользуясь своим положением, он огибает очередь и, бросив на ходу: «Полиция», попадает в палату.
Сразу же отмечает: необычно высокая кровать, трубка вставлена в горло, гематомы на лице, грустный взгляд. В помещении еще четверо: младший брат, издатель, ученик и эдакий молодой арабский принц, весь лощеный. Принц – это Юсеф, общий друг мэтра и ученика, Жана-Луи, которого мэтр считает самым блестящим своим студентом – во всяком случае, питает к нему самые нежные чувства. Жан-Луи и Юсеф живут в одной квартире в тринадцатом округе, где устраивают вечеринки, озаряющие жизнь Барта радужным светом. Кого там только нет – студенты, актрисы, разные знаменитости, часто Андре Тешине, иногда Изабель Аджани и постоянно – толпа молодых интеллектуалов. Комиссара Байяра эти подробности пока что не волнуют, его дело – выявить обстоятельства происшествия. В госпитале Барт очнулся. «Глупо! Как глупо!» – повторял он сбежавшимся близким. Несмотря на множество ушибов и несколько сломанных ребер, его состояние большой тревоги не вызывало. Но у Барта, по словам его брата, есть ахиллесова пята: легкие. В юности он подхватил туберкулез, а еще любит дымить сигарой. Отсюда – хронические проблемы с дыханием, сказавшиеся и в эту ночь: он задыхается, его приходится интубировать. Когда появляется Байяр, Барт в сознании, но не может говорить.
Байяр осторожно обращается к пострадавшему. Он хочет задать несколько вопросов, в ответ достаточно будет кивать – да или нет. Барт смотрит на комиссара глазами грустного спаниеля. И едва заметно кивает.
«Когда вас сбило транспортное средство, вы возвращались к себе на службу, верно?» Барт кивает – да. «Машина ехала с большой скоростью?» Барт медленно наклоняет голову сначала в одну, потом в другую сторону, и Байяр понимает, что ответа не будет. «Вы рассеянный человек?» Да. «Ваша невнимательность была как-то связана с обедом, на котором вы побывали?» Нет. «С подготовкой к лекции?» Пауза. Да. «За обедом вы встречались с Франсуа Миттераном?» Да. «Было ли во время встречи что-нибудь особенное или необычное?» Пауза. Нет. «Вы пили алкоголь?» Да. «Много?» Нет. «Бокал?» Да. «Два?» Да. «Три?» Пауза. Да. «Четыре?» Нет. «Были ли у вас с собой какие-либо документы, когда случилось происшествие?» Да. Пауза. «Вы уверены?» Да. «Когда за вами приехали, документов при вас не нашлось. Могли вы забыть их дома или еще где-нибудь?» Более долгая пауза. Внезапно взгляд Барта словно вновь загорается. Он качает головой – нет. «Не помните ли вы манипуляций, которые, возможно, производили с вами, пока вы были на земле, до приезда „скорой“?» Барт как будто не понимает вопроса или не слушает. Показывает – нет. «Нет – вы не помните?» Снова пауза, но на этот раз Байяр, кажется, сумел расшифровать выражение лица: недоверие. Барт показывает «нет». «Были ли в вашем бумажнике деньги?» Барт неподвижно смотрит на собеседника. «Месье Барт, вы меня слышите? Были ли у вас деньги?» Нет. «Ценные вещи?» Ответа нет. Взгляд настолько неподвижный, что если бы не странный огонек в глубине зрачков, можно было бы подумать, что Барт мертв. «Месье Барт? Были ли у вас при себе ценности? Могли ли у вас что-нибудь украсть?» Тишину в палате нарушает только хриплое дыхание Барта через трубку. Еще несколько долгих секунд. Барт медленно показывает – нет; потом отворачивается.
6
Что-то здесь не так, – думает комиссар Байяр, выходя из госпиталя; похоже, видевшееся ему рутинным расследование на поверку окажется не таким уж формальным; исчезновение документов – любопытная загадка для банального, казалось бы, происшествия; надо разобраться что к чему, придется допросить больше народу, чем он поначалу предполагал; поиски стоит вести от рю дез Эколь – там, где Коллеж де Франс (о существовании этого учреждения он раньше не подозревал и не совсем понял, что там такое); начнет он с Фуко, «профессора, специалиста в области истории философских систем» (sic); потом надо будет опросить толпу косматых студентов, плюс – свидетелей происшествия, плюс – друзей жертвы. Он одновременно озадачен и раздосадован навалившейся работой. Но точно знает, как понимать увиденное в госпитальной палате. В глазах Барта был страх.
Комиссар Байяр погружен в свои мысли и не замечает черный «Ситроен DS»[12], припаркованный на другой стороне бульвара. Он садится в свой казенный «Пежо 504» и едет в сторону Коллеж де Франс.
7
В вестибюле вывешен перечень курсов, которые здесь читают: «Ядерный магнетизм», «Нейропсихология развития», «Социография Юго-Восточной Азии», «Христианство и гностицизм на Востоке в доисламский период»… Немного растерявшись, комиссар идет в преподавательскую и спрашивает, как найти Мишеля Фуко. Ему отвечают, что он сейчас на лекции.
В аудитории народу битком. Байяру даже не протиснуться внутрь. При попытке пробиться вперед его рикошетит от плотной стены возмущенных слушателей. Какой-то снисходительный студент шепотом объясняет ему, как тут принято: хочешь сесть в зале – приходи за два часа до начала. Если мест нет, довольствуйся аудиторией напротив: там идет радиотрансляция. Фуко не видно, но хотя бы слышно. Байяр направляется в аудиторию B, которая тоже заполнена, но места все же есть. Толпа самая пестрая: молодые и старики, хиппи, яппи, панки, готы, англичане в твидовых жилетах, итальянки с декольте, иранки в чадрах, старушки с собачками. Он садится рядом с двумя близнецами – парнями в костюмах астронавтов (разве что без шлемов). Атмосфера рабочая, народ строчит конспекты и сосредоточенно слушает. Время от времени раздается кашель: как в театре, только на сцене никого. Голос из динамиков звучит гундосо – напоминает манеру сороковых: не Шабан-Дельмас[13], конечно, но, скажем так, нечто среднее между Жаном Маре и Жаном Пуаре[14], и тембром повыше.
«Проблема, о которой я хотел бы поговорить, – вещает голос, – такова: в чем в контексте понятия спасения – то есть в контексте понятия озарения или понятия искупления, обретенного людьми при первом крещении, – в чем может быть смысл повторяющегося покаяния или даже повторяющегося греха?»
Очень умно: что-что, а это Байяр чует. Он пытается уловить, о чем речь, напрягается, но в этот момент Фуко как назло произносит: «Таким образом индивид, стремящийся к истине и проникнутый к ней любовью, в собственной речи выражает истину, которая есть не что иное, как проявление в нем самом истинного присутствия Бога, изрекающего только истину, ибо сам он никогда не лжет, он правдив».
Если бы Фуко в тот день говорил о тюрьмах, о системе контроля, об археологии, о биовласти или генеалогии – кто знает… Но голос беспощадно ведет свою линию: «Даже если некоторые философы и школы космологии допускают, что мир и правда может вращаться в том или ином направлении, то в жизни индивида время однонаправленно». Байяр слушает, не вникая, его убаюкивает дидактичное и при этом хорошо поставленное звучание, можно сказать – мелодичное, выстроенное на мастерском владении ритмом, паузами и акцентами.
Интересно, этот тип зарабатывает больше, чем он?
«Между системой, в которой закон распространен на действия и соотносится с субъектом волеизъявления, а следовательно, между бесконечной повторяемостью греха, с одной стороны, и моделью спасения и совершенства, которая распространяется на субъекты, имплицируя темпоральность и необратимость, с другой, нет, как я полагаю, возможности соединения».
Да ясен перец! Байяру не сдержать безотчетной злобы, которая заставляет его заранее ненавидеть этот голос. Вот с кем полиции приходится конкурировать, претендуя на средства налогоплательщиков. С такими же функционерами, с одной лишь разницей: он-то, комиссар, заслужил, чтобы общество вознаградило его за работу. А этот Коллеж де Франс – что вообще такое? Основан Франциском I – ну да, это он на входе прочел. И что? Эти лекции, на которые заходи кто хошь, интересны только безработным левакам, пенсионерам, блаженным и преподам, дымящим трубками; какие-то невероятные дисциплины, о которых он слыхом не слыхивал. Ни дипломов, ни экзаменов. Таким, как Барт и Фуко, платят за то, что они пудрят людям мозги. Одно Байяру ясно как день: ремеслу здесь не учат. Эпистема, дьявол ее забодай!
Голос прощается до следующей недели, Байяр снова идет в аудиторию А и, пробравшись сквозь встречный поток слушателей, хлынувший из двустворчатых дверей, попадает наконец в амфитеатр, где в самом низу видит лысого очкарика в водолазке, надетой под пиджак. С виду сильный, рослый, волевая чуть выступающая челюсть, гордая осанка – как у тех, кто понимает, что мир признал их заслуги, – и совершенно гладкий череп. Байяр подходит к кафедре: «Месье Фуко?» Лысый долговяз собирает свои записи: типичный препод, расслабившийся после лекции. Он доброжелательно поворачивается к Байяру – знает, какую робость порой приходится побеждать его почитателям, чтобы с ним заговорить. Байяр достает удостоверение. Ему ведь тоже хорошо известно, какое впечатление оно производит. Фуко на миг замирает, смотрит на документ, изучает полицейского взглядом, после чего вновь возвращается к своим записям. Произносит театрально, как будто обращаясь к публике, которая начала расходиться: «Я против, чтобы власти устанавливали мою личность». Байяр делает вид, что не слышал: «Это по поводу несчастного случая».
Лысый долговяз запихивает записи в портфель и молча спускается с кафедры. Байяр бежит за ним: «Месье Фуко, вы куда? Я должен задать вам несколько вопросов!» Фуко широкими шагами взбирается по ступеням амфитеатра. Отвечает, не оглядываясь, в сторону, чтобы донеслось до ушей еще оставшихся слушателей: «Я против, чтобы власти ограничивали мою свободу передвижения!» В зале смех. Байяр хватает его за руку: «Я только хочу узнать вашу версию событий». Фуко встает на месте и молчит. Все его тело напряглось. Он смотрит на руку, схватившую его за локоть, как если бы речь шла о самом возмутительном покушении на права человека со времен геноцида в Камбодже. Байяр не отпускает. Вокруг – перешептывание. Проходит не меньше минуты, Фуко соглашается говорить: «Моя версия – его убили». Байяр не уверен, правильно ли он понял:
– Убили? Кого?
– Моего друга Ролана.
– Но он не умер!
– Он уже мертв.
Фуко изучает собеседника напряженным близоруким взглядом из-под очков и медленно, почти по слогам, выговаривает, точно формулируя вывод из длинного рассуждения, тайная логика которого известна ему одному:
– Ролан Барт мертв.
– Но кто его убил?
– Система, разумеется!
Слово «система» подтверждает худшие опасения полицейского: он понимает, что нарвался на леваков. Ему по опыту известно, что у них одно на языке: прогнившее общество, классовая борьба, «система». Байяр с интересом ждет, что будет дальше. Фуко великодушно соглашается его просветить:
– Над Роланом жестоко насмехались в последние годы. У него была парадоксальная способность видеть истинную суть вещей, обнаруживать в них необычайную новизну, и поэтому его ругали за специфический язык, выставляли в гротескном, пародийном, карикатурном, сатирическом свете…
– Вам известны его враги?
– Конечно! С тех пор как он в Коллеж де Франс… это я его привел… завистников стало вдвое больше. Кругом одни враги: реакционеры, обыватели, фашисты, сталинисты, а главное – все эти старперы, замшелые критиканы, которые так и не простили ему…
– Чего не простили?
– Что он посмел думать! Посмел усомниться в их старперских буржуазных методах, высветил их вонючие нормативные принципы, показал их истинное лицо старой проститутки, уродливое в своей глупости и беспринципности!
– Но кто конкретно?
– Нужны имена? Вы что, смеетесь? Все эти Пикары, Поммье, Рамбо, Бюрнье! Будь их воля, они бы своими руками всадили в него дюжину пуль во дворе Сорбонны у статуи Виктора Гюго!
Фуко резко срывается с места и, поскольку Байяр этого не ожидал, сразу оказывается на несколько метров впереди. Он выходит из аудитории, идет по лестнице, комиссар спешит следом, не отстает, их подошвы гулко шлепают по каменным ступеням, Байяр окликает:
– Месье Фуко, кто все эти люди?
Фуко, не оборачиваясь:
– Псы, шакалы, дураки набитые, ослы, ничтожества, но главное, главное, главное!.. раболепные слуги существующего порядка, старорежимные бумагомаратели, сутенеры мертвой идеи, которые своим похабным зубоскальством норовят передать нам неизбывный запах трупа.
Байяр, повиснув на перилах:
– Какого трупа?
Фуко, перешагивая через ступеньки:
– Мертвой идеи!
И разражается сардоническим хохотом. Байяр шарит по карманам плаща, ищет ручку и, пытаясь не сбавлять темп, просит:
– А можно Рамбо[15] по буквам?
8
Комиссар заходит в книжный магазин, хочет купить книг, но дело это непривычное, и ему никак не сориентироваться среди стеллажей. Работ Реймона Пикара не найти. Похоже, продавец более или менее в теме: он на ходу сообщает, что Реймон Пикар умер, – Фуко сообщить об этом не соизволил, – но можно заказать его «Новую критику, или Новый обман»[16]. Зато есть «Хватит декодировать!» Рене Поммье[17], ученика Реймона Пикара, ополчившегося против структуралистской критики (так продавец умудряется втюхать Байяру неходовое издание, от которого, впрочем, мало толку), но еще лучше – «Ролан-бартский для начинающих» Рамбо и Бюрнье[18]. Довольно тонкая книжка в зеленой обложке с фотографией сурового Барта в овальной рамке, на оранжевом фоне. Из рамки вылезает нарисованный человечек в стиле Крамба[19] и произносит «хи-хи!»: вид ехидный, рот до ушей, прикрыт ладошкой. Кстати, проверил: оказалось, это действительно Крамб. Но Байяру ни о чем не говорит название «Приключения кота Фрица»[20] – мультика в духе шестьдесят восьмого, где вместо негров на саксофонах наяривают вороны, а главный герой – кот в водолазке, он курит косяки и трахает все, что движется, прямо в «кадиллаке» (привет Керуаку), на фоне уличных стычек и горящих мусорных баков. Впрочем, прославился Крамб манерой изображения женщин – плечистых, как грузчики, с мощными ляжками, снарядами-сиськами и задами, как у племенных кобылиц. Байяр мало знаком с эстетикой комиксов, для него картинка ни с чем не связывается. Однако книгу он покупает – и Поммье в придачу. Пикара не заказывает, поскольку мертвые авторы на этом этапе расследования его не интересуют.
Комиссар усаживается в кафе, берет кружку пива, закуривает «Житан»[21] и открывает «Ролан-бартский для начинающих». (В каком кафе? Согласитесь, чтобы передать атмосферу, важны детали. Могу представить его в баре «Ле Сорбон» напротив «Ле Шампо», тесного зальчика, где крутят авторское кино, в конце рю дез Эколь, но если честно, мне без разницы, посадите его куда хотите.) Он читает:
Р. Б. (что на ролан-бартском означает «язык Ролана Барта») в своей архаичной форме возник двадцать пять лет назад, с выходом книги, получившей название «Нулевая степень письма». С тех пор он постепенно обособился от французского, дериватом которого отчасти является, и утвердился как самостоятельный язык с собственными грамматикой и словарным составом.
Байяр смолит сигарету, потягивает пиво, листает. В баре слышно, как официант объясняет посетителю, почему Франция погрязнет в гражданской войне, если выберут Миттерана.
Урок первый: из разговорной речи.
1 – Как ты себя обозначаешь?
Французский: Как вас зовут?
2 – Я обозначаю себя Л.
Французский: Меня зовут Уильям.
Байяр замечает сатирический тон и понимает, что в принципе хорошо бы поймать общую волну с авторами этой пародии, но что-то его настораживает. Почему на Р. Б. «Уильям» – это «Л.»? Неясно. Долбаные мудрилы.
Официант – посетителю: «Когда к власти придут коммунисты, все толстосумы выведут свои бабки из Франции и разместят где-нибудь еще – там, где не надо платить налоги и есть гарантия, что не отберут!»
Рамбо и Бюрнье:
3 – Какого рода стипуляция в твоем случае ограничивает, охватывает, организует, упорядочивает прагматическое, вуалируя твою экзистенцию и/или пользуясь ею?
Французский: Кто вы по профессии?
4 – (Я) выталкиваю миниатюрные коды.
Французский: Я машинистка.
Забавно, ничего не скажешь, – усмехается он про себя, но подсознательно чувствует, что по отношению к нему тут имеет место вербальный снобизм, и его это бесит. Хотя он прекрасно знает, что пишут такие книги не для него, а для всяких мудрил, высоколобых паразитов, чтобы они между собой посмеялись. Ерничать друг над другом – ах, как круто! Байяр не идиот: он, сам того не зная, уже повторяет Бурдье[22].
За стойкой продолжается ликбез: «Как только все деньги перетекут в Швейцарию, зарплату платить станет нечем, начнется гражданская война. И социал-коммунисты победят!» Официант прерывается, чтобы кого-то обслужить. Байяр продолжает читать:
5 – Мой дискурс обретает/реализует собственную текстуальность через Р. Б. в зеркальных рефракциях ((ре) – фракциях).
Французский: Я свободно говорю на ролан-бартском.
Главное Байяр просек: язык Ролана Барта хрен поймешь. Но тогда зачем тратить время на чтение? И тем более писать о Барте книгу?
6 – Его «сублимация» (интеграция) в качестве моего кода () представляет «третичный разрыв» редупликации влечения, моего желания.
Французский: Я тоже хотел бы выучить этот язык.
7 – Не является ли Р. Б. как макрологическая система в своем роде «охраняемой зоной», формой замкнутого поля (по(ля)) по отношению к галльской интерпелляции?
Французский: Ролан-бартский не слишком сложен для француза?
8 – Бартовский стиль «опоясывает» определенный код, однако фиксируется в повторяемости/множественности.
Французский: Нет, он довольно прост. Но нужно потрудиться.
Час от часу не легче. Он даже не знает, кто его больше бесит: Барт или два эти клоуна, вздумавшие Барта пародировать. Он откладывает книгу, давит сигарету. Официант возвращается за стойку. Посетитель, держа бокал красного, спорит: «Да, но Миттеран остановит их на границе. Деньги конфискуют». Официант в ответ хмурится и недовольно ворчит: «Думаете, богатые – идиоты? Они наймут опытных челноков. Организуют каналы, чтобы сплавить наличку. Перейдут Альпы и Пиренеи, как Ганнибал! Как во время войны! Если евреев можно переправить, то капусту тем более, вам не кажется?» Похоже, посетителю так не кажется, но, видимо, ответить ему нечего, и он просто качает головой, опустошает бокал и просит еще. Официант, почувствовав себя на коне, достает початую бутылку красного: «Да-да, а вы как думали! Мне-то плевать, победят коммуняки – я свалю, подамся на заработки в Женеву. Моих бабок им не видать, еще чего, ни за что на свете, я на красных не работаю – вы еще меня плохо знаете! Я ни на кого не работаю! Я свободный человек! Как де Голль!..»
Байяр пытается вспомнить, кто такой Ганнибал, и непроизвольно замечает, что на левом мизинце официанта не хватает фаланги. Он прерывает оратора и заказывает еще пива, затем открывает книгу Рене Поммье, насчитывает семнадцать повторов слова «чушь» на четырех страницах, закрывает. Официант между тем сменил тему: «Ни одно цивилизованное общество не может обойтись без смертной казни!..» Байяр расплачивается и уходит, оставив сдачу.
Он, не глядя, минует статую Монтеня, пересекает рю дез Эколь и входит в здание Сорбонны. Комиссар понимает, что ничего не понимает в этих глупостях… ну или почти ничего. Вот бы кто-нибудь ему все растолковал – специалист, переводчик, медиатор, наставник. Препод, в общем. В Сорбонне он спрашивает, где находится кафедра семиологии. Дежурная, поджав губы, отвечает, что такой здесь нет. Во дворе он обращается к студентам в темно-синих куртках и матросских ботинках, чтобы ему показали, где можно поприсутствовать на лекции по семиологии. Большинство о таком без понятия или где-то «слышали звон». Наконец косматый недоросль, который дымит косяком под статуей Луи Пастера, сообщает, что за «сёмой» надо ехать в Венсен[23]. Байяр не знаток университетской среды, но ему известно, что Венсен – левацкий факультет, кишащий профессиональными подзуживателями, которые не желают работать. Из любопытства он спрашивает юнца, почему тот сам туда не пошел. На парне широкий свитер с воротником по горлу, черные брюки, закатанные, словно он собрался за мидиями, и высокие фиолетовые «док мартенсы»[24]. Он пыхает косяком и отвечает: «Я был там до второго курса. Но входил в троцкистскую группу». Объяснение кажется ему исчерпывающим, однако вопросительный взгляд Байяра подсказывает, что это не так, и он добавляет: «Ну, в общем… возникли проблемы».
Байяр больше не допытывается. Он снова садится в свой 504-й и отправляется в Венсен. Остановившись на светофоре, комиссар замечает черный DS и думает: «Вот это авто… легенда!..»
9
504-й выезжает на кольцевую возле Порт де Берси, съезжает у Порт де Венсен, катит по бесконечно длинной авеню де Пари, мимо военного госпиталя, не уступает дорогу блистающему новизной синему «Рено-Фуэго», в котором сидят японцы, огибает замок, проскакивает Парк Флораль, углубляется в лесную зону и паркуется перед смахивающим на барак сооружением – вроде гигантского коллежа, какие строили в спальных районах в семидесятые: едва ли не худший образчик архитектуры, на который способно человечество. Байяр помнит далекие годы на факультете права в Ассасе[25] и чувствует себя не в своей тарелке: чтобы попасть к учебным аудиториям, ему надо пробраться через настоящий базар, наводненный африканцами, перешагивая через отключившихся прямо на асфальте торчков; пройти мимо пересохшего фонтана, заваленного мусором, и вдоль обшарпанных стен, облепленных плакатами и покрытых граффити, среди которых можно прочесть: «Профессора, студенты, администрация, персонал: сдохните, суки!»; «Нет закрытию продовольственного рынка»; «Нет переезду из Венсена в Ножан»; «Нет переезду из Венсена в Марн-ла-Валле»; «Нет переезду из Венсена в Савиньи-сюр-Орж»; «Нет переезду из Венсена в Сен-Дени»; «Да здравствует пролетарская революция»; «Да здравствует иранская революция»; «маоисты = фашисты»; «троцкисты = сталинисты»; «Лакан = легавый»; «Бадью = нацист»; «Альтюссер = убийца»; «Делез = пошел нахер»; «Сиксу = трахни меня»; «Фуко = падла Хомейни»; «Барт = прокитайский социал-предатель»; «Калликл[26] = эсэсовец»; «Запрещено запрещать запрещать»[27]; «Левое единство = в жопу»; «Заходи ко мне на хазу, почитаем „Капитал“!» с подписью «Балибар»[28]… Провонявшие марихуаной студенты агрессивно напирают, тоннами суют листовки: «Товарищ, ты знаешь, что творится в Чили? А в Сальвадоре? Тебя беспокоит Аргентина? А Мозамбик? Насрать на Мозамбик? Ты хоть знаешь, где это Рассказать о Тиморе? А еще мы тут средства собираем на борьбу с неграмотностью в Никарагуа. Купишь мне кофе?» Здесь ему все понятнее. Он был членом «Молодой нации»[29] и успел тогда начистить рыл этим грязным левакам. Он швыряет листовки в пересохший фонтан, ставший помойкой.
На кафедру «проблем культуры и коммуникаций» Байяр попадает по наитию. Он пробегает по списку о. д. («обязательных дисциплин»), вывешенному в коридоре на пробковой доске, и в конце концов находит примерно то, что искал: «Семиология образа», номер аудитории, расписание на неделю и имя препода – некто Симон Херцог.
10
«Сегодня мы поговорим о цифрах и буквах в бондиане. Когда вы вспоминаете Джеймса Бонда, какая буква приходит вам в голову?» В аудитории молчание, студенты думают. Кого-кого, а Джеймса Бонда сидящий в последнем ряду Жак Байяр знает. «Как зовут шефа Джеймса Бонда?» Байяр знает! И ловит себя на том, что готов выкрикнуть ответ, но его опережает целая ватага студентов, одновременно ответивших: М. «Что за М., почему М.? Что это означает?» Пауза. Ответа нет. «М. – мужчина в возрасте, но это женская фигура, М. как Mother, мать-кормилица, которая питает и оберегает, сердится, когда Бонд бедокурит, но в конечном счете всегда к нему снисходительна, и Бонд, выполняя задания, хочет, чтобы она осталась довольна. Джеймс Бонд привык действовать, но он не франтирер, не одиночка, не сирота (то есть на личном, биографическом уровне – да, но на символическом – нет: его мать – Англия; он не супруг отчизны, он ее любимый сын). За ним – иерархическая система, материально-техническое обеспечение, целая страна, которая поручает ему невыполнимые задания, а он, к ее большой гордости, их выполняет (М. как метонимическое олицетворение Англии, представитель королевы регулярно напоминает, что Бонд – лучший агент Ее Величества, то есть любимый сын); и страна обеспечивает его всеми материальными средствами для их выполнения. По сути, он всегда умудряется и рыбку съесть, и в пруд не лезть, не случайно этот образ так популярен, это мощнейший современный миф: Джеймс Бонд – авантюрист на госслужбе. Принцип: действовать наверняка. Он обходит правила, совершает проступки и даже правонарушения, но его покрывают, ему все можно, его не будут ругать, у него пресловутая „лицензия на убийство“, license to kill, право убивать, подкрепленное его номером – вспоминаем три магические цифры: 007.
Два ноля – шифр права на убийство, и здесь мы видим потрясающий пример проявления числовой символики. Каким числом выразить право на убийство? Десять? Двадцать? Сто? Миллион? Смерть неисчисляема. Она ничто, а ничто – это ноль. Но убийство – больше, чем просто смерть, это смерть, „причиненная“ другому. Смерть, помноженная на два: своя собственная, неизбежная, вероятность которой возрастает в силу опасной профессии (считается, что агенты „два ноля“ долго не живут – об этом нам часто напоминают), и чужая. Два ноля – это право убивать и быть убитым. Что касается семерки, то она явно выбрана потому, что ее традиционно называют одной из самых изящных цифр, магическим числом со своей историей и символикой, но в нашем случае она отвечает двум критериям: это, конечно же, нечетное число, как количество роз, которое дарят женщине, и простое (простое число делится только на единицу и само на себя) – чтобы передать сингулярность, единственность, индивидуальность и преодолеть впечатление заменимости, безличности, обусловленное номером как таковым. Вспомните сериал „Заключенный“[30], где главного персонажа зовут Шестой, и он с отчаянием и гневом повторяет: „Я не номер!“ Джеймс Бонд прекрасно сжился со своим номером, тем более что этот номер принес ему неслыханные привилегии и сделал из него аристократа (как и положено на службе Ее Величества). 007 – антипод Шестого: он доволен сугубо элитарной ролью, отведенной ему обществом, и не щадит себя во имя сохранения установленного порядка, никогда не задумываясь о характере и побудительных мотивах врага. Насколько Шестой – бунтарь, революционер, настолько консервативен 007. Реакционер с цифрой 7 противостоит здесь революционеру Шестому, а поскольку в значении слова „реакционер“ заложена апостериорная идея (консерваторы „реагируют“ на революцию и принимаются действовать ради возвращения старого режима, то есть установленного порядка), логично, что реакционное число следует за революционным (иначе говоря, Джеймс Бонд – не 005). Собственно 007 и должен обеспечить возврат к порядку в королевстве, нарушенному опасностью, пошатнувшей порядок мировой. Кстати, конец каждой истории всегда совпадает с возвращением к „норме“, следует понимать – „к старому режиму“. Умберто Эко считает Джеймса Бонда фашистом. Но, в сущности, нам хорошо видно, что он прежде всего реакционер…»
Студент тянет руку: «Но есть еще Q., который отвечает за технические прибамбасы. Эта буква тоже что-нибудь означает?»
Препод сориентировался мгновенно, чем немало удивил Байяра:
«Q. олицетворяет отеческое начало, ведь это он вооружает Бонда и учит, как пользоваться своими приспособлениями. Передает ему знания. В связи с этим его следовало бы назвать F., как Father… Но если внимательно посмотреть сцены с участием Q., что вы увидите? Джеймс Бонд отвлекается, ведет себя бесцеремонно, паясничает, не слушает (или делает вид). А в конце Q. всегда уточняет: „Questions?“[31] (или как-нибудь иначе: „Все ли понятно?“). Но у Джеймса Бонда вопросов не бывает; это он только с виду разгильдяй, а объяснение усвоил на отлично, соображает как никто. Так что Q. – это questions; вопросы, которых Q. требует и которые Бонд не задает или обращает их в шутку и никогда не спрашивает о том, чего ожидает Q.».
Голос подает еще один студент: «Q. по-английски произносится как „кью“, похоже на французское queue, „очередь“. Поход в магазин: мы стоим в очереди, ждем, когда нас обслужат, – это пауза, развлекательная пауза между двумя эпизодами экшена».
Молодой препод с энтузиазмом взмахивает рукой: «Именно! Удачно подмечено! Хорошая мысль! Помните, что одной трактовкой знак не исчерпывается, полисемия – бездонный колодец, из которого до нас долетает непрерывное эхо: слово неисчерпаемо. Даже буква, если на то пошло».
Смотрит на часы. «Спасибо за внимание. В следующий вторник поговорим о том, как одевается Джеймс Бонд. Жду вас, естественно, в смокингах, господа. (Смешки в аудитории.) А девушек в бикини а-ля Урсула Андресс. (Девушки свистят и пытаются возмущаться.) До следующей недели!»
Пока студенты покидают аудиторию, Байяр подходит к молодому преподу с вкрадчивой улыбкой, которую тот не может истолковать, но в ней читается: «Ты-то мне за все и заплатишь».
11
– Чтобы внести ясность, комиссар: я не специалист по Барту и семиологии как таковой. У меня диплом по современной литературе – исторический роман, пишу диссертацию по лингвистике, о речевых актах, и курирую практические занятия. В этом семестре веду спецкурс по семиологии образа, а в прошлом году отвечал за введение в семиологию. Первокурсники писали по этому предмету работу; я изложил им основы лингвистики, поскольку она составляет базис семиологии, говорил о Соссюре, Якобсоне, немного об Остине[32] и Сёрле[33], но в основном мы занимались Бартом: это доступнее, и потом, он часто рассматривал явления массовой культуры, которые больше привлекут студентов, чем, скажем, его же работы по Расину или Шатобриану, ведь здесь учатся специалисты по коммуникациям, а не по литературе. Обращаясь к Барту, можно было часами обсуждать гамбургеры, последнюю модель «ситроена», Джеймса Бонда – в таком подходе к анализу гораздо больше игры, но он отчасти и определяет семиологию: это дисциплина, в которой принципы литературной критики применяются к предметам, не имеющим отношения к литературе.
– Он не умер.
– То есть?
– Вы сказали «можно было» – вы говорите в прошедшем времени, словно теперь это невозможно.
– Да нет, я не это имел в виду…
Симон Херцог и Жак Байяр идут по факультетскому коридору. Молодой препод одной рукой тащит портфель, другой удерживает громоздкую кипу ксерокопий. Мотает головой, когда попавшийся навстречу студент пытается всучить ему какой-то флаер; студент обзывает его фашистом, Херцог отвечает виноватой улыбкой и оправдывается перед Байяром:
– Вообще-то, даже если бы он умер, его научные методы по-прежнему были бы применимы…
– С чего вы взяли, что он может умереть? Я не сообщал вам, опасно ли его состояние.
– Ну, хм… подозреваю, что не каждое дорожное происшествие поручают расследовать комиссару, и отсюда делаю вывод, что ситуация серьезная, а обстоятельства неясны.
– Обстоятельства довольно ясны, а состояние пострадавшего почти не внушает опасений.
– Да? Ну что ж, я очень рад, комиссар…
– Я не говорил, что я комиссар.
– Вот как? Я решил, что Барт достаточно знаменит, и поэтому прислали комиссара…
– Я о нем до вчерашнего дня не слышал.
Молодой диссертант замолкает, осекшись, Байяр доволен. Студентка в босоножках и носках протягивает ему флаер, на котором написано: «В ожидании Годара, пьеса в одном действии». Он запихивает флаер в карман и спрашивает Симона Херцога:
– Что вы знаете о семиологии?
– Ну, скажем – это наука, изучающая жизнь знаков в рамках жизни общества…
Байяр вспоминает «Ролан-бартский для начинающих». Стискивает зубы.
– А человеческим языком?
– Но… это определение де Соссюра…
– Этот Дососюр знает Барта?
– О… нет, он умер, это основоположник семиологии.
– А, ясно.
Ни черта Байяру не ясно. Они проходят через кафетерий. Заведение похоже на разграбленный склад, здесь все пропахло сосисками, блинами и травкой. На один из столов влез здоровый расхлябанный тип в лиловых сапогах из кожи ящерицы. Во рту бычок, в руке пиво, вешает что-то на уши молодняку, а те рты поразевали. Своего кабинета у Симона Херцога нет, он предлагает Байяру присесть и машинально протягивает сигарету. Байяр отказывается, достает свой «Житан» и продолжает:
– Для чего именно нужна эта… наука?
– Ну, э… чтобы понимать действительность…
У Байяра едва заметно играют желваки.
– То есть?
Молодой диссертант на мгновение задумывается. Оценивает явно ограниченную способность собеседника к абстрактному восприятию, корректируя свой ответ, иначе ходить им кругами не один час.
– Вообще это просто: нас окружает масса вещей, которым есть, э… практическое применение. Понимаете?
Собеседник злобно молчит. На другом конце зала тип в лиловых сапогах рассказывает юным адептам, какой был хипеж в шестьдесят восьмом, – в его изложении картина напоминает нечто среднее между «Безумным Максом» и Вудстоком. Симон Херцог старается максимально упрощать:
– Стул – чтобы сидеть, стол – чтобы за ним есть, кабинет – чтобы работать, одежда – чтобы не замерзнуть, et cetera. Понятно?
Мертвая тишина. Поехали дальше:
– Только помимо утилитар… кроме практической пользы, эти предметы наделены и символическим значением… как если бы у них был дар речи: они о чем-то нам сообщают. Например, стул, на котором вы сидите, своим фуфлыжным дизайном, крашеной фанерой и ржавым каркасом сообщает, что мы находимся в среде, где плевать на комфорт, эстетику и нет денег. Вдобавок к этому тошнотный букет столовских запахов и конопли подтверждает, что мы в университетском учреждении. Точно так же ваша манера одеваться указывает на профессию: костюм выдает административного служащего, но он дешевый, а значит, зарплата у вас невелика и/или нет желания выделяться внешне, то есть в вашем деле показуха совсем или почти не нужна. Обувь у вас сношенная, хотя приехали вы на машине, это означает, что на работе вы не сидите на месте, а передвигаетесь. Служащий, который много передвигается, с большой вероятностью имеет отношение к профессиональным расследованиям.
– А, ясно, – отзывается Байяр. (Долгая пауза, во время которой Симон Херцог слышит обращенный к зачарованным слушателям рассказ типа в лиловых сапогах о том, как он, будучи предводителем «Вооруженной фракции спинозистов», отметелил «Молодых гегельянцев».) – То есть так я могу ориентироваться: при входе есть табличка «Университет Венсен-Париж 8». А еще на удостоверении с триколором, которое я вам показал, когда подошел после лекции, большими буквами написано «ПОЛИЦИЯ», но я все равно не понимаю, к чему вы клоните.
Симон Херцог начинает покрываться испариной. Разговор будит болезненные воспоминания об устных экзаменах. Не паниковать, сосредоточиться, не зацикливаться на секундах, отсчитываемых в тишине, не обращать внимания на притворно-благодушный вид садиста-экзаменатора, который тихо кайфует от формального превосходства, видя, как кто-то мучается из-за него, ведь и ему в прошлом пришлось помучиться. Молодой диссертант начинает быстро соображать, внимательно разглядывает сидящего перед ним субъекта, обдумывает ответ последовательно, шаг за шагом, как учили, и, когда чувствует, что готов, выжидает еще пару секунд, а затем выдает:
– Вы участвовали в Алжирской войне, дважды были женаты, со второй женой вместе не живете, у вас есть дочь, которой лет двадцать, не меньше, отношения у вас плохие, на последних президентских выборах в обоих турах вы голосовали за Жискара и снова проголосуете через год, вы потеряли напарника, находясь при исполнении, и, возможно, это случилось по вашей вине, по крайней мере, вы вините себя, или это бередит вам душу, но начальство сочло, что вашей личной ответственности здесь нет. Вы ходили в кино смотреть последнего Джеймса Бонда, но вам больше нравится старый добрый Мегре по телику или фильмы с Лино Вентурой.
Долгая-долгая пауза. На другом конце зала новоявленный Спиноза под одобрительное улюлюканье рассказывает, как вместе со своей бандой разогнал группу «Розовый Фурье». Байяр чуть слышно шепчет:
– Как вы это узнали?
– Да элементарно! – Снова молчание, но на этот раз у молодого препода все под контролем. Байяр и бровью не ведет, только слегка подрагивают пальцы правой руки. Чувак в лиловых сапогах выдает а капелла что-то из «The Rolling Stones». – Когда вы подошли ко мне после лекции, только что, вы машинально встали так, чтобы не поворачиваться спиной ни к двери, ни к окну. Такому учат не в школе полиции, а в армии. У вас это вошло в привычку, значит, ваш армейский опыт не ограничивается обычной службой и не прошел бесследно, подсознательные навыки сохранились. То есть вы могли участвовать в военных действиях, но не в Индокитае – возраст еще не тот, так что, думаю, вас отправили в Алжир. Вы служите в полиции и, очевидно, сочувствуете правым, что подтверждает принципиальная враждебность к студентам и интеллектуалам (это было заметно с самого начала), а как ветеран Алжира вы сочли предательством объявленную де Голлем независимость и, следовательно, не стали голосовать за Шабана, голлистского кандидата, однако вы слишком рассудительны (профессия обязывает), чтобы поддержать кандидата вроде Ле Пена, – пустое место, без шансов попасть во второй тур, – а потому ваш голос, естественно, достался Жискару. Пришли вы сюда один, что противоречит правилам французской полиции, в рядах которой предписано перемещаться как минимум вдвоем, значит, добились особого положения, привилегии, получить которую можно только на очень веских основаниях, как, например, потеря напарника. Травма так болезненна, что вы и слышать не желаете о замене, и начальство позволило вам работать в одиночку. Так что вы можете почувствовать себя Мегре – судя по вашему плащу, вы ему подражаете, вольно или невольно (комиссар Мулен[34] в своей кожанке, разумеется, слишком молод, чтобы вы себя с ним отождествляли, ну а… м-да… одеваться, как Джеймс Бонд, вам не по карману). Вы носите обручальное кольцо на правой руке, но след от кольца есть и на левом безымянном пальце. Очевидно, вам хотелось уйти от ощущения, будто все повторяется, и, женившись снова, вы поменяли руку, чтобы, так сказать, обмануть судьбу. Но, похоже, этого оказалось недостаточно, поскольку мятая с самого утра рубашка свидетельствует о том, что гладить у вас дома некому; иначе, следуя мелкобуржуазной модели, характерной для вашей социокультурной среды, жена, живи она еще с вами, не позволила бы вам выйти в неглаженой одежде.