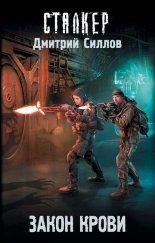Искальщик Хемлин Маргарита

И таким образом по моим мыслям получалось после спокойного размышления, что не кудлатый меня на посылки взял. А я его.
И мы еще посмотрим, кто и где разведчик и следопыт.
Именно следопыт.
Окрепшим шагом подходил к хате Доры. И шагал я ради жизни на земле. Ради хорошей светлой жизни. А не смерти. Тем более в мучениях.
Вести Марика к кудлатому я не имел в виду. План был такой: выманить придурка с нагляда Доры, выпытать известное про Шкловского, самому бегом бежать до того места, где находится Шкловский, разведать, как он и что, а уже потом – в зависимости – принять важное решение по дальнейшему выбору, кто мне приходится друг.
По одному шагу. Только по одному.
Как отвязаться от Марика – не думал, всегда можно его в пузо ткнуть, он и отстанет. Шмулик поганый, недорезанный!
И тут меня кольнуло прямо в сердце. Марик в будке сидел, потом из будки вывалился, как навоз с вил.
И там, там, там, на земле, чернющей от мокрого льда, могло лежать кольцо. И не могло, а точно лежало. Я его прямо увидел своими открытыми зрачками. Живое кольцо.
Не знаю, какая сила развернула меня и бросила назад.
Только в ранней юности такая сила является в неокрепшем организме человека. Просто-таки безрассудная и неодолимая сила.
Свет уже установился полностью, туда-сюда прохожих людей прибавилось.
Еще в начале Святомиколаевской я различил знакомую спину. Рувим. Он шел в одном направлении со мной – трохи впереди. Решение толкнуло меня в голову мгновенно: выждать дальнейший поступок Рувима и в зависимости от него действовать и действовать.
Рувим в калитку не тыркнулся, а стал обходить дом с правой стороны, где между одним забором и другим – следующего дома – имелась крошечная прогалина в досках. Ее прикрывал жасминовый куст. Эту самую прогалину я лично разведал в свое время – в целях борьбы с Шкловским. Но это ж надо знать. Рувим, получается, знал. И туда именно прошмыгнул.
В моей горячей голове кипело удивление и зажглось любопытство. Даже кольцо отступило.
Тихонечко и я пролез за кустом на двор.
Рувим стукнул в окно без слов, потом пошел к двери. И так же без возгласов и шума скрылся в доме.
Я сам всегда смеялся внутри, когда еще в романах, притащенных Рувимом для моего развития, читал, как герой что-то подслушал и подсмотрел, и от этого все у него в мозгах перевернулось на дальнейшее. Подобная картина казалась мне придуманной плохо, для легкости. Но с годами пришло понимание: открытые тайны на дорогах в воздухе не валяются. Тайну могут рассказать исключительно люди, которые и сделали ее в некое время для собственных нужд.
Так и тут.
Через открытую форточку до меня долетали слова и выражения следующего порядка.
Рувим и кудлатый друг дружку знали, говорили спокойно. Хоть Рувим вроде наступал голосом. Кудлатый соглашался, как виноватый. Потом кудлатый наступил на Рувима с какими-то вопросами. До меня долетали слова: Шкловский, хлопчик, хлопчик, Шкловский. На всякие разные лады. Рувим отрицательно мотал головой.
Были вопросы про что-то мне совсем непонятное. Это кудлатый спросил. Рувим пробубнил какие-то слова сомнения.
При этом от окна они совсем отдалились и видно их почти не стало, и не слышно ничего тем более.
Пока такое дело, я вприсядку бросился к будке.
Что говорить. Проводил глазами от солнца до земли, проводил взгляд за лучами весеннего яркого света до самой-самой земли, искал отблески драгоценных камней в самой-пресамой грязюке.
Нету. Нету и нету.
Если б не голоса на дворе, я б руками перетер каждую грудочку земли до самого-пресамого скончания веков.
Рувим заметил шевеление в кустах.
– Кто там? Выходь сюда! Не бойся!
От неожиданности я гавкнул собачьим манером. Еще и подвыл трохи, как Шмулик обычно.
Больше вопросов не последовало.
Ушли.
Для меня оказалось ясным: хлопчик, про которого говорили Рувим с кудлатым, – не я. Другой. Потому что я ж – вот, и кудлатый меня видел спкойно, и Рувиму я не новость. И не Марик вонючий, як смерть. Они б так и говорили – Марик. Рувиму известно, что Марик у Доры, не может он не знать. Им что я, что Марик больной и несчастный – грязюка под ногами. Гады. Бесчеловечные гады. Ладно Марик. Он – никто. Но я…
И вот они пошли до другого какого-то хлопчика, им нужного.
Нужного! Вот в чем вопрос. А я им не нужен. Я им довесок шкловский.
И такая обида меня покрыла беспросветная, такая обида…
А я ж был родной Рувиму сквозь испытания, сквозь буквально смертельные опасности. И вот. Все им забыто. Все покинуто.
Я обводил затуманенными глазами окрестность, дом, забор, двор, крутился всем своим телом и не находил, за что зацепиться в открывшейся мне пустоте жизни.
Возле дровяного сарайчика стоял Марик. Перебирал ногами в каких-то обмотках, душегрейка бывшая моя была расхристана, рубашка, порванная окончательно, мотылялась на легком ветру.
– Лазарь, шо крутишься, як собака за хвостом? – Голос Марика звучал звонко и весело. – А я ж такой замерзлый, такой замерзлый! Пошли, шось дашь мне пожрать. А, Лазарь? Дашь? Як вечному другу?
Я задвигал ногами, как деревянный. Марик обогнул меня сбоку, заглянул в самые глаза. Тряхнул головой и вприпрыжку первый забежал в дом.
Внутренняя моя обида кипела и кипела. Аж пузырьки лопались.
Марик скакал на месте, крутился кругом себя с ором:
– Ой-ой-ой, а шо я знаю! А шо я-я-я! Ой-ой-ой, а шо я зна-а-а-ю! Гы-гы-гы! Дай хлебца! Да-а-а-а-а-а-ай!
Подобная картина довела меня до полного отвращения.
– Не дам! Нема! Пусто! Шо ты приперся, шо ты меня дергаешь, гидота ты приблудная! Шо, Дорка тебя не вытерпела, прогнала с твоим гидотством поганым вместе? Прибежал? А ну, геть звидсы! Я тебе нихто! И ты сам нихто! Знаешь ты!.. Ты ж не имеешь смысла ничего знать! Геть!
Веселье Марика порвалось, как ниточка. Как волосиночка.
Он протянул в мою сторону руки и шею с головой, и сам весь протянулся стрункой ко мне:
– Шо-о-о-о-о? А Шкловского хочешь? Хочешь Шкловского? Папу моего хочешь? Он меня до себя берет! Как опять сына! Как навек родненького! От так! А тебя не берет! Моя и хата, и все! А ты геть! Геть! Геть! Зараз геть! А то порубаю тебя шаблюкой отак, отак, отак! – Марик показал, как рубает меня. Морда его стала красная, страшенная морда.
И мысли, и слова стали во мне острым и болючим колом.
– Не веришь? Ага! Не веришь!
Марик от приступившей усталости бухнулся на стул возле стола, положил голову на руки. Как он когда-то любил – боком, на одно ухо: положит, потрется трохи ухом об руку, голову приподнимет, ухо поправит, опять примостится удобно, гы-гыкнет и давай завирать до бесконечности. Так и тут.
Голос его оказался уже спокойный. И даже не слишком дурной. Не по сути, конечно, а на слух.
А получилось вроде такое.
Марик убежал от Дорки. Поел у нее, она его одного дома оставила, пошла куда-то срочно, он и убежал.
И вот бежит он, бежит по направлению к базару, у него такое направление по привычке всегда. Бежит, а в уголке возле чайной, как раз где будка сапожная заброшенная, прячется человек. Именно прячется и что-то высматривает вдали. Марик подумал, пьяный. С целью поживиться приблизился и заголосил на свой беспризорный манер. Вроде чтоб создать невыносимые условия для того дядьки. Раз прячется и высматривает – значит, даст что-нибудь хлопчику, чтоб заткнулся и скорей отстал. Прием испытанный, и Марик с всей душой собрался провернуть верное дело.
И человек тот шикал секунду, потом даже в карман полез для откупа. Но вдруг побелел лицом и даже голосом побелел.
И сказал с хрипом:
– Марик? Ты?
Марик узнал Шкловского.
Перец наказал ему скрыться немедленно и назначил встречу в хате. Тут. И назвал Марика сыном, родненьким и тому подобное. И вот Марик явился и с минуты на минуту тут будет Шкловский. А если кто и может убираться пид тры чорты, так это я, Лазарь Гойхман, который показал свою свинячую суть только что и раньше тоже сильно показал. Или могу ползать на коленях и целовать ноги Марику, чтоб Марик простил.
Излагал историю Марик медленно, причем еле-еле двигал щекой по руке. А другую щеку себе хлопал ладошкой, вроде там муха крутилась и всему мешала.
Я Марику поверил. Всей своей душой поверил. Он по дурости такой случай мог пересказать только правдиво. А про Шкловского я ж и без Марика понимал, что он в Чернигове обязательно объявится. Очухается и объявится. Его ж не удержишь, у него в Чернигове интерес – и кольцо, и возле кольца. А у кого интерес – того ни за что ни на каком свете не удержишь.
А произнес я такое:
– Марик, ты сказал, шо хотел. А щас ты меня хорошо послушай… Первое такое: я тебя с скаутов выключаю. Другое такое: я сам, один, без тебя, обосцанца, пытать кого надо буду. Одному даже удобней… Потом делиться не надо будет… А папе своему родному и дорогому передай такое. Я ползать на своих коленях не буду. И проситься не буду. И ничего не буду. А вы оба-два знайте, что я многим кому нужен. Кому – зачем, а нужен.
Повернулся и пошел от Марика.
А Марик остался на месте камнем.
Ушел я, понятно, не сильно далеко. До первого угла.
Мне предстояло увидеть Шкловского и потом проследить, между прочим, скаутским образом за наступающими событиями.
Через сколько-то, но скоро, появился Шкловский. Вид чистый, в руках пусто. Шел он свободно, не оглядывался. Наверно, встретил, кого выглядывал возле базара, и в результате этой встречи освободился для жизни. Иначе б в дом, откуда уволокли, не вернулся.
В моей голове пронеслись барахольные узлы, которые я вязал, а потом разорял, и еда, которая оказалась съеденная с крупным запасом времени. И прочее кое-что тоже пронеслось – вплоть до горшков, вынесенных моими руками из-под Шкловского.
А пускай знает Перчик! Пускай почувствует мою месть за все!
Шкловский с своим сыночком Маричком вперлись в двери.
Потом я увидел в окошке свет. Не прячется Перчик, совсем даже и не прячется!
Я подкрался под самое это окно. Слышать – не слышал, но хорошо видел и различал лица с их выражениями. Главное – мне требовалось уяснить, или они расположатся. Если нет – пойдет совсем другое дело.
По всему выходило, что Шкловский собирался расположиться в доме, чужом, между прочим, опять по-хозяйски. А это значило, что страха у Перчика перед товарищем Раклом и правда не было. Может, Шкловский его возле базара и высматривал…
Наблюдал я на эту закоренелую парочку, и ни чуточки не было во мне жалости, что не я отныне шкловский сынок.
Что ж, я комсомолец, и не мне жалеть о предательском сытом куске.
Такими словами я думал и был честен перед собой и перед своей собственной совестью.
А Шкловский тем часом начал ходить по углам и растягивать по местам барахло. И уверенность моя про то, что он будет жить как ни в чем не бывало, вырастала и ширилась.
И тут я понял, что в настоящую минуту мне возле Шкловского делать нечего. И возле Доры – тем более нечего. И понял еще – перерешивать в свою пользу никогда не стыдно.
Получалось, что мне было что делать, наоборот, возле Розки, причем минуя Ракла.
И в ту минуту, между прочим, мои чувства к Розке как к женскому явлению находились в стороне.
Так я решил и настроился. Не-е-е-ет, Розалия Семеновна! Меня бабством не возьмешь!
До наробраза я бежал бегом. Боялся уже не застать Розку, потому что рабочий день близился к самому вечеру.
Внизу тетка с мокрющей тряпкой на мой вопрос ткнула локтем в дверь над лестницей.
Я эту дверь тихонечко тронул. Она открылась и нисколько не скрипнула.
Вошел, стою, себя не выдаю, накапливаю мысли вокруг нужного мне именно в сию минуту.
И между прочим, смотрю на Розку правильными глазами.
Розка сидела на стуле крепко. По времени года – пальто с меховым воротником красиво накинуто на плечи, под пальто – что-то бабское, хоть и на пуговицах, до самого горла, в шкуру ее сметанную упирается. Глазки ее ведьминые, черные, заманущие не поднимаются, только влево-вправо шныряют, рот ее заглоный в краснючей помаде читает буквы-циферки на бумажке. Пальчики с ногтями по столу стучат, на сукно потертое страх наводят.
А на стене наискось друг к другу товарищи Ленин Владимир Ильич и Крупская Надежда Константиновна. Наблюдают за товарищ Голуб Розалией Семеновной, смотрят, как она тут управляется с образованием трудового народа.
Я мысленно передал свои горячие комсомольские приветы товарищам вождям и вроде даже от этого утвердился в своем стремлении к справедливости.
И тут Розка подняла свою голову мне навстречу.
Ни удивления, ничего, как только-только расстались.
– Пришел, значит… Жизнь свою притащил? Или что?
– Может, Розалия Семеновна, и не жизнь, а притащил! – Я постановил себе не поддаваться, а следовать линии.
– Как комсомолец пришел или как шкловский прихвостень?
– Считайте, Розалия Семеновна, как хотите. Вот вы меня обзываете, а я к вам, Розалия Семеновна, с сообщением.
– Ну, сообщай уже…
– Перец. Вернулся. В хату. И сын Марик при нем. Не я, а совсем другой.
И я передал Розке все, до чего дошел сам, но передал в меру. Оставил и себе кое-что нужное.
Розка не сказала, а вроде жилу по воздуху протянула:
– У-у-х-х!
А потом еще и добавила:
– Иди на улицу. Жди. Скоро выйду. Пойдешь за мной… Не рядом… Смотри там…
Мы с Розкой еле шли, даже можно сказать – тащились. Розка останавливалась. Один раз в портфеле закопается, другой раз – в пальтовых карманах. Платок достанет – засунет обратно, ключи возьмет – переложит. И по сторонам, по сторонам… Прямо-таки шпионка нашего времени.
Я двигался точно, как наказала Розка. На самом ходу придумывал так и сяк, чтоб только не ударить собой в Розкину спину.
Совсем в темень пришли к бывшему офицерскому училищу, сбоку Вала. Чуть влево начинается улица – не улица, а полупуток. На первой хате свежей крейдой с нажимом написано: “провулок Товарищей мучеников Революции”. Пошли по указанному.
Розка остановилась у хорошего забора, при темноте и не разберешь, какого цвета. Калитку пихнула как своя, я – за ней.
Открыла замок на двери, сунулась дальше – и все без одного слова. И я тоже – без одного слова.
Верной ногой прошла в комнату. Чирканула спичкой, засветился слабый огонь. А следом – керосиновая лампа, уже посильней.
Розка хозяйничала как в личном имуществе.
Причем ясно, что хата эта была не ее. Я ж не думал по-другому. Но мне интересно было видеть и сравнивать. Я всегда сравниваю – так получается лучше усваивать то, что видишь. Как говорится, познавать все на свете в тесном сравнении.
Вот я и сравнивал Розку с хатой. И Розка в нее вроде не помещалась. Как бы сказать… Все Розкино было не тутошнее. И пальто с красиво кормленым туловищем, и шапочка с головой в волосах-кудельках, и помада ее жирнющая, и духи ее пахучие, аж вонючие…
Розка вроде услышала мои рассуждения.
Говорит:
– Эта хата не моя и не родственная. Тут одна близко знакомая партийка проживает, щас выехала на село по делам. Просила меня наведываться… Я и наведываюсь, по-товарищески…
Розка уселась на лавку возле стола. Пальто не сняла, а только расстегнулась до самого пупа. Я тоже потянулся к пуговицам, хотел для вежливости скинуть бушлат.
Розка меня остановила:
– Верхнее пока не того… Наморозило. В сенях сколько-то дров. Так ты давай печку растопи…
Я даже не обиделся, что Розка мне с ходу начала приказывать. Пускай думает, что я у нее нахожусь в подчинении. Между прочим, так всегда лучше проникать в чужие соображения.
Ну, принес, растопил. И воды принес, сам же напросился – чтоб показать общую готовность.
И вот мы с Розкой сидим в тепле, пьем вместе чай. Причем не с сдобной булкой, а с лежалыми бубликами. И сахар в мелкую обсыпку черт-те чем.
Розка молчит, только смотрит. Она и на стол молча ставила, рот свой скривила и ставила.
Я тоже молчу.
Выпили по чашке.
Тут Розка и заговорила:
– Что, хлопец, не сильно вкусно? Перец тебя по-другому кормил?
А я отвечаю:
– Было время, Розалия Семеновна, а теперь нету. И я, чтоб вы только это знали, минувшее время не жалею. Я могу и совсем не есть, если все так обернется. Мне еда – дурное дело.
– Ой! Еда ему – дурное дело!..
И Розка засмеялась мне буквально в самые глаза. Прямо артистка Вера Холодная, только с голосом.
Отсмеялась и опять:
– Значит, ты с этих дней больше уже не Марик будешь? Перейдешь на себя как на Лазаря Гойхмана? И думаешь, люди эту дурнину стерпят?
Объясняю Розке с терпением и без нервов и тому подобного:
– Я, Розалия Семеновна, всегда был и оставался Лазарем Гойхманом. Потому что я всегда за правду. А Мариком меня наименовал несчастный отец, утративший своего единственного родного сына на полях Гражданской войны. Так мог я ему отказать? Не мог! И вы, между прочим, Розалия Семеновна, знали про все про это. И меня как сочувственного человека за подобное решение хвалили. Так, Розалия Семеновна?
– Я-а-а-а? Т-т-тебя?
От моего напора Розкины буквы застревали возле самых ее губ, дальше никак не шли.
А я шел все дальше и дальше:
– Да! Вы, Розалия Семеновна, может, по своей занятости не помните, как указывали мне на мое доброе поведение… А я ж помню… И всем расскажу, если жизнь потребует. Про вашу, Розалия Семеновна, сердечную душу расскажу. А помните, Розалия Семеновна, вы потом меня, как проявившего себя и вступившего в комсомольскую ячейку, привлекли даже к широкой агитации?
Розка вроде уже совладала с буквами:
– Ну и сплел!
Я поднял голову выше прежнего, хотя и раньше держал высоко, гордо держал:
– Не сплел, Розалия Семеновна, а довел до вас бывшие события. Напомнил вам для памяти. Вы ж, Розалия Семеновна, сильно нагрузились по работе. Вам и то, и это… И с тем, и с другим…
Последние слова я специально сказал. Чтоб Розка стала на свое место.
И она это место поняла. И хорошо поняла.
– Вот ты к чему повел, сволота!.. А я ж тебя в хату привела!.. Пожалела!.. Думала, крышу дам сироте, кусок хлеба дам!..
– Ага, Розалия Семеновна… По доброте в чужую хату холодную привели, чужой черствый кусок дали… Спасибо ж вам, Розалия Семеновна! Ой, какое ж вам спасибо! Прямо комсомольское честное спасибо, Розалия Семеновна! А я ж сволота! А я ж голота немытая, нечесаная! Ага, Розалия Семеновна? Ага?
И не хотел я это лишнее произносить. Отошел от линии на спокойствие. Моя ошибка. Но хорошо известно – не ошибается тот, кто ничего не делает. А я ж делаю – всегда и ежечасно.
Перехожу к оставшемуся на тот момент.
Розка поперла на меня. И верхом, и низом своим поперла. Руки в стороны расставила – и поперла. А как доперла, навалилась с всей своей сытой силы и повалила на пол.
А я ж не ожидал такого. Тем более мне было не к лицу драться с Розкой как с женщиной.
Лежу. Руки по ребрам вытянул, ноги раскинул, спиной через щелястые доски слышу земляной холод. Принимаю на себя Розкины удары и тычки. И между прочим думаю: “Бей, гадина! Бей! Пускай я буду мученик Революции!”
Била меня Розка недолго. И, по правде сказать, не больно. Била больше для урока, а не для чего-нибудь. Я это, конечно, учел.
Полежал еще, подождал, чтоб Розка встала и отодвинулась на расстояние. Потом сам встал.
Стою, смотрю открытыми глазами. И Розка смотрит.
А только она первая сморгнула и говорит:
– Будешь пока тут квартировать. С вещичек того-сего принесу. В школе что надо скажу. Хватит уже там стены отирать… Научился… Пойдешь работать, куда определю. Вот гроши, завтра еду себе купишь. Меня слушай – и будет тебе польза.
Розка не дождалась моего ответного согласия, пальто накинула и сбежала. А я, между прочим, и не собирался ей перечить.
Я улегся на чужую постель – на мятую простыню с каймой из вышитых синим и красным цветов, на наволочку с лентами, под одеяло, какое обычным делом стегают монашки и по хатам носят-продают ради Бога. И пахло мне Розкиными духами и тому подобным.
Засыпал я спокойно, уверенно. Потому что вывернул-тки с Розкой на правильное. С одобрением к Розке подумал: “Если б, допустим, Розка прижилась в столице и стала б женой наркома, я б тогда…”
От этой мысли я пошел в развитии дальше и подумал много чего, о чем в настоящую минуту не помню. Но надо прямо сказать, что до сих пор помню сон, который мне приснился в ту самую ночь.
Вроде оказались мы с Розкой возле Волчьей горы.
Вроде я стою одетый, как одеваются в холодный период года. Неношеный бушлат, хорошая, нэпманская, шапка, чищеные ботинки – новейшие, с шнуровкой, с дырочками-крючочками… С одной стороны, форс, а с другой – все закономерно заслуженное разнообразным страданием. И вроде я эту заслуженность в сне понимаю полной мерой.
И вроде Розка стоит – совсем без ничего.
И вроде она держит двумя своими руками огроменный портфель с подвязанным поворозкой замком. И вроде Розка держит этот портфель так, что самое интересное я у нее не вижу. И, что удивительно, я вроде своим подрастающим глазом это самое у нее интересное и видеть не желаю.
А Розка портфель прижимает к самой себе и произносит следующее:
– Товарищ Гойхман Лазарь! Настал час! Щас перед твоим комсомольским лицом и лицом всех мучеников Революции я совсем раскроюсь!
И вроде с этими словами портфельная поворозка самостоятельно развязывается и портфельная крышка отлетает к чертовой матери, а из самого портфельного живота выпадает мотлох, спутанный между собой, как кишки на живодерне.
И вроде я всем своим умом осознаю ценность объявленного мотлоха и торжественно принимаю его на себя. Именно – накручиваю сверху, чтоб и щелочки с видом моей бывшей на мне одежки не осталось. Накручиваю и накручиваю… А конца нету и нету…
И вроде Розка произносит дальше следующее:
– Так, комсомолец! Так! Нам страх не присущ! И Шмулик, безвременно погибший, нас учит, и товарищ Крупская с товарищ Лениным! Ничего не бойся, комсомолец!
И вроде Розка сигает с всех сил и уже находится вместе с потрошеным портфелем возле меня, вплоть до самого моего нарождавшегося мужского нутра. И давит на это самое мое нутро, и давит…
Чтоб не уходить в ситуацию, получившуюся вследствие сна, скажу только, что проснулся я уже, когда солнце гуляло вовсю. Не разлеживался, как, между прочим, мог, а сразу – вперед-вперед!
Да! Передо мной раскрывалась трудовая деятельность, к которой я стремился с самых малых лет.
Конечно, в мои годы многие молодые товарищи уже имели позади мозолистую историю. У меня таковой не было. А только и учиться кому-то ж надо было, овладевать знаниями! А овладел – и хватит! Иди работай, строй социализм!
И так мне в голову ударил энтузиазм, что я и минуты не мог находиться в четырех стенах.
Глотнул, аж обжегся, кипятка и, не съевши и крошки хлеба, марш-марш на улицу!
Для начала ноги мои прямой дорогой двинули на базар. К людям, к народу, посмотреть, послушать, как говорится, суть минуты.
Хоть Розкины грошики по малости мой карман жгли не сильно, а тоже требовали участия.
Иду, слушаю, смотрю, между прочим, приценяюсь. Купил трошки хлебца, шматочек сала, картошки и пару леденцов для настроения на новый лад.
Вроде все ничего…
Дошел до товарных рядов. Чистое нэпманство! И пальто тебе, и рубахи, и штаны, и исподнее, и бабское на всякую материю и фасон! И сапоги-ботинки!
Ой!
Я прямо споткнулся…
Передо мной в всей своей красоте стояли мои бывшие, ныне украденные ботинки с скаутской шнуровкой.
Вроде смотрят они на меня своими шнурочными дырочками-глазками, выговаривают своими крючочками-зубчиками:
– Мы! Мы это!
Меня обдало той ночью, когда я сторожил больного, пораженного ударом Переца…
– Хлопэць, тоби тут шо, мэдом намазано? А гроши в тэбэ е на такэ? Шо мовчыш? Нэ по твоих карманах товар!
Только тут я насильно оторвал глаза от своих ботинок. А что скажешь? Ботинки ж сами по себе бездоказательные.
Тетка сельского вида, которая такое прокричала, начала проявляться полновластной хозяйкой над моими ботинками: совает с места на место, переставляет без малейшей необходимости. А на меня, между прочим, не смотрит.
Ну и я глаза скосил, бовкнул первое попавшее на язык и пошел себе дальше.
Задвинулся ряда за два после тетки и наблюдаю. Час наблюдаю. Может, и больше.
Не уходят мои ботинки. Нету на них требования.
А тетка тем временем начала сворачивать свои клунки. Увернула с другим и мои ботинки. Пошла по направлению с базара. Я – за ней. Иду, подстраиваюсь под ее шаг. Хорошо подстроился.
Добрались вместе почти до известного в Чернигове дома Глебова, уже на краю города, дальше – шлях. Думаю, замечу, куда тетка войдет, и – обратно.
Заметил я все, что надо. Повернулся.
И услышал такое:
– Ой, Марик! Шкловский Марик!