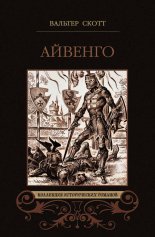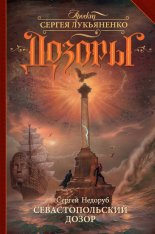Дальняя дорога Спаркс Николас
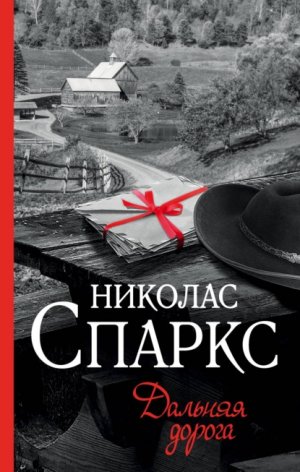
Я задумываюсь. Рут и раньше это говорила, но иногда я задаюсь вопросом, искренно ли.
– Спасибо, что ты тогда ко мне пришла.
– А как еще я могла поступить?
– Развернуться и уйти в спальню.
– Нет. Я мучилась, когда видела тебя в таком состоянии.
– Ты осушила мои слезы поцелуями.
– Да.
– А потом мы держали друг друга в объятиях, лежа в постели. Впервые за долгое время.
– Да, – повторяет Рут.
– И жизнь снова начала улучшаться.
– Да уж пора было, – говорит она. – Я устала грустить.
– И ты знала, как я тебя люблю.
– Я никогда не сомневалась.
В 1964 году, во время поездки в Нью-Йорк, мы с Рут устроили нечто вроде второго медового месяца. Мы не планировали его заранее и не делали ничего особенного. Скорее, мы каждый день радовались тому, что сумели пережить худшее. Мы держались за руки, бродили по галереям и смеялись. Я до сих пор считаю, что улыбка Рут никогда не бывала такой ослепительной, как тем летом. А еще оно прошло под знаком Энди Уорхола.
Его искусство, насквозь коммерческое и в то же время уникальное, меня не привлекало. Я не видел ничего интересного в изображении консервных банок. Рут тоже – но при первой же встрече Энди Уорхол ее очаровал. Думаю, это был единственный случай, когда она что-либо приобрела исключительно под воздействием харизмы художника. Она интуитивно поняла, что Энди станет мастером, который определит направление искусства в шестидесятые годы, и мы приобрели четыре оригинальных эстампа. К тому времени работы Энди уже стали дорогими – конечно, относительно, особенно по сравнению с их нынешней стоимостью, – и в результате у нас совсем не осталось денег. Проведя в Нью-Йорке всего неделю, мы вернулись в Северную Каролину и поехали на Аутер-Бэнкс, где сняли домик на пляже. Рут в том году впервые надела бикини, хотя и отказывалась появляться в нем где-либо, кроме нашей веранды, да и то занавешивала перила полотенцами, чтобы посторонним не было видно. Искупавшись, мы, как обычно, отправились в Эшвиль. Когда мы стояли у озера, я прочел Рут письмо.
Годы потекли своим чередом. Президентом стал Линдон Джонсон, приняли закон о гражданских правах, война во Вьетнаме набирала ход, в то время как мы больше слышали о «Войне с бедностью». «Битлз» обрели огромную популярность, а женщины толпами шли работать. Мы с Рут обо всем этом знали, но наши интересы, были преимущественно в сфере домашней жизни. Мы жили как обычно – оба работали, летом покупали картины, завтракали на кухне, делились историями за ужином. В доме появились картины Виктора Вазарели, Арнольда Шмидта, Фрэнка Стеллы, Элсуорта Келли, Джулиана Станчака и Ричарда Анушкевича. Никогда не забуду выражение лица Рут, когда она их выбирала.
Примерно в то же время мы начали пользоваться фотоаппаратом. До того момента, как ни странно, мы особенно не стремились запечатлеть нашу жизнь и за весьма долгий промежуток заполнили лишь четыре альбома. Но этого вполне достаточно, чтобы пронаблюдать, как мы с Рут постепенно старели. Там есть моя фотография, которую жена сделала, когда мне исполнилось пятьдесят, в 1970 году, и снимок Рут в 1972 году, когда она сама праздновала ту же дату. В 1973 году мы сняли первое хранилище, чтобы разместить там часть коллекции, а в 1975 году взошли на борт «Королевы Елизаветы II» и поплыли в Англию. Даже тогда я не желал летать. Мы провели три дня в Лондоне и два в Париже, прежде чем отправиться на поезде в Вену, где мы пробыли две недели. Рут одновременно радовалась и горевала при виде города, который она когда-то звала родным. Хотя обычно я угадывал ее чувства, в поездке большую часть времени я ломал голову над тем, что она испытывает.
В 1976 году Джимми Картера избрали президентом после Джеральда Форда, который, в свою очередь, сменил Ричарда Никсона. Экономика была в упадке, на автозаправках выстраивались длинные очереди. Но мы с Рут почти ничего не замечали, потому что влюбились в новое художественное течение под названием лирический абстракционизм, корнями уходивший в творчество Поллока и Ротко. В том году – когда Рут наконец перестала красить волосы – мы отпраздновали тридцатую годовщину свадьбы. Хотя это обошлось в целое состояние и пришлось даже взять кредит, я преподнес жене единственные картины, которые когда-либо выбрал сам, – две небольшие работы Пикассо, одну Голубого периода, другую Розового. Рут повесила картины в спальне, и после занятия любовью, мы лежали в постели и долго разглядывали их.
В 1977 году, когда в торговле наступило почти полное затишье, в свободное время я мастерил птичьи клетки при помощи наборов, которые покупал в магазине с товарами для досуга. Долго это не продлилось – всего три или четыре года: руки у меня так и остались неумелыми, и я в конце концов сдался, как раз когда началась эра Рейгана. Хотя в новостях твердили, что в долгах нет ничего страшного, я все равно постарался быстрее выплатить кредит, который взял, чтобы купить Пикассо. Рут растянула лодыжку и месяц проходила на костылях. В 1985 году я продал магазин и начал получать пенсию по старости. В 1987 году, проработав в школе сорок лет, Рут тоже ушла на покой. В школе и в квартале в ее честь устроили вечеринку. На протяжении своей карьеры она трижды получала звание «Учитель года». Мои волосы из черных сделались седыми, а потом и совсем белыми, редея с каждым годом. Морщинки на наших лицах стали глубже, и мы оба поняли, что плохо видим без очков. В 1990 году мне исполнилось семьдесят, и в 1996 году, на пятидесятую годовщину свадьбы, я преподнес Рут самое длинное письмо из написанных мною. Она прочитала его вслух, и я понял, что почти ничего не слышу. Через две недели я приобрел слуховой аппарат, но особенно не расстроился.
Пришло время. Я состарился. Хотя мы с Рут больше не переживали черных дней, как после исчезновения Дэниэла, наш путь не всегда был усыпан розами. В 1966 году у Рут умер отец, а через два года мать – от сердечного приступа. В 1970 году у жены обнаружилась опухоль груди. Рут боялась, что у нее рак, но опасения не подтвердились – опухоль оказалась доброкачественная. Мои родители умерли в конце восьмидесятых, в один и тот же год, и мы стояли над их могилами, печально размышляя о том, что мы – последние представители наших семей.
Я не мог предвидеть будущее – да и кто может? Не знаю, чего я ожидал в последние годы нашей совместной жизни. Я думал, что мы будем жить как прежде. Наверное, меньше путешествовать – ездить и ходить нам обоим становилось все трудней, – но, не считая этого, ничего не изменится. Ни детей, ни внуков, которых нужно навещать, ни желания бывать за границей. Рут много возилась в саду, а я кормил голубей. Мы принимали витамины, и у нас обоих пропал аппетит. Оглядываясь назад, я понимаю, что следовало вдумчивей отнестись к тому факту, что к моменту нашей золотой свадьбы Рут уже пережила родителей, но я слишком боялся этого факта. Я не представлял жизни без нее, да и не хотел представлять, но у Бога были свои планы. В 1998 году у Рут, как у ее матери, случился инсульт, повлекший частичный паралич. Хотя она еще могла ходить по дому, коллекционерству наступил конец, и мы больше не купили ни единой картины. Через два года, холодным весенним утром, когда мы сидели на кухне, она оборвала разговор на полуслове, не в состоянии закончить фразу, и я понял, что у жены второй инсульт. Рут провела три дня в больнице, и хотя она вернулась домой, с тех пор мы больше не вели бесед, которые текли бы плавно и непринужденно.
Левая сторона ее лица почти полностью утратила подвижность, и Рут начала забывать даже самые простые слова. Жену это огорчало больше, чем меня. В моих глазах она оставалась такой же прекрасной, как в день нашей первой встречи. Я-то, разумеется, уже был не тот, что прежде. Мое лицо покрылось морщинами и исхудало, и, смотрясь в зеркало, я ужасался размеру своих ушей на его фоне. Наша повседневная жизнь сделалась еще проще, один день просто перетекал в другой. Поутру я готовил завтрак, и мы ели вместе, читая газету, а после завтрака сидели во дворе и кормили голубей. Потом мы отправлялись вздремнуть, а вечером читали, слушали музыку или ездили за покупками. Раз в неделю я возил Рут в салон красоты, где ей мыли и укладывали волосы, – я знал, что это доставляло жене радость. В августе я сочинял письмо для Рут, часами сидя за письменным столом. Мы поехали в Блэк-Маунтинс на годовщину свадьбы, стояли у озера, как всегда, и она читала то, что я написал.
Время приключений для нас давно минуло, но пережитого мне хватило с лихвой, ведь самое долгое путешествие продолжалось. Даже когда мы лежали в постели, я держал Рут в объятиях и благодарил судьбу за лучшее, что было в моей жизни, – за эту женщину. В такие минуты я эгоистично молился о том, чтобы умереть первым, потому что даже тогда предчувствовал неизбежное.
Весной 2002 года, через неделю после того как во дворе расцвели азалии, мы провели утро как обычно, а вечером собирались отправиться в ресторан. Мы редко ужинали вне дома, но у обоих было подходящее настроение, и я помню, как позвонил в ресторан, чтобы заказать столик. Днем мы немного погуляли. Всего лишь до конца улицы и обратно. Рут как будто не замечала морозной свежести воздуха. Мы поговорили с одним из соседей – не с тем злюкой, который срубил дерево, – а вернувшись домой, стали заниматься самыми обычными делами. Рут не жаловалась на головную боль, но еще до ужина медленно побрела в спальню. Я ничего не заподозрил – я читал, сидя в удобном кресле, и, должно быть, на несколько минут задремал. Когда я проснулся, то позвал Рут. Жена не ответила, и тогда я встал и позвал снова, уже по пути в комнату. Когда я увидел Рут на полу рядом с кроватью, у меня оборвалось сердце. Я немедленно подумал про новый инсульт. Но случилось нечто более страшное. Когда я попытался вдохнуть в нее жизнь, то меня охватил ужас.
Врачи приехали через несколько минут – они сначала постучали, потом принялись колотить в дверь. Я держал Рут в объятиях и не хотел выпускать. Врачи вошли и прокричали. Я отозвался, и они вбежали в спальню, где обнаружили старика, обнимавшего женщину, которую он любил больше жизни.
Они были очень добры и деликатны, один из них помог мне подняться на ноги, другой начал возиться с Рут. Я умолял сделать что-нибудь, надеясь в ответ услышать заверения, что все обойдется. Рут, в кислородной маске, положили на носилки, и я сидел рядом с ней в машине «скорой помощи», пока жену везли в больницу.
Выйдя в приемную, врач заговорил очень мягко. Он держал меня за руку, пока мы шли по коридору, выложенному серой плиткой. От света флуоресцентных ламп болели глаза. Я спросил, как там моя жена, и попросил разрешения повидать ее. Но он не ответил. Мы вошли в пустую палату, и он прикрыл за собой дверь. Лицо у врача было серьезное, и, едва он опустил глаза, я сразу понял, что он сейчас скажет.
– Простите, мистер Левинсон, но мы ничего не смогли сделать…
При этих словах я ухватился за поручень кровати, чтобы не упасть. Комната словно завертелась вокруг оси, лицо врача приблизилось, точно я смотрел на него в телескоп, – я ничего не видел, кроме него. Голос звучал холодно, как жестяной, слова не имели смысла, да и что в них было проку? Я понял, что опоздал. Рут, моя милая Рут, умерла, лежа на полу, пока я спал в другой комнате.
Я не помню, как уехал из больницы, и следующие несколько дней прошли как в тумане. Мой поверенный, Гоуи Сандерс, наш с Рут близкий друг, помог устроить похороны в узком кругу. Потом, при зажженных свечах, среди разбросанных по дому подушек, я неделю сидел в позе Шивы. Люди приходили и уходили – те, кого я знал много лет. Соседи, в том числе злюка, срубивший клен. Постоянные клиенты из магазина. Три владельца Нью-йоркских галерей. Полдесятка художников. Женщины из синагоги заглядывали каждый день, чтобы приготовить еду и прибраться. А я не переставая молился, чтобы очнуться от кошмара, в который превратилась моя жизнь.
Но постепенно люди перестали приходить, и не осталось никого. Некому позвонить, не с кем поговорить. Дом погрузился в тишину. Я не знал, как теперь жить, и время сделалось беспощадным. Дни ползли медленно. Я не мог сосредоточиться. Читая газету, ничего не запоминал. Часами сидел, прежде чем понять, что оставил включенным радио. Даже птицы перестали меня веселить: я смотрел на них и представлял, что Рут сидит рядом со мной и наши руки соприкасаются, ныряя в пакет с зерном.
Все утратило смысл, да я и не искал смысла. Мои дни проходили в тихой агонии. Вечера были ничуть не лучше. Поздно ночью, лежа в пустой постели, не в силах заснуть, я чувствовал, как по щекам катятся слезы. Я вытирал их, снова и снова осознавая отсутствие Рут.
Глава 21
Люк
Все началось со скачек на Страхолюдине.
На быке, который снился ему в кошмарах. Который на полтора года вывел Люка из строя. Он рассказал Софии об этом злополучном выступлении – и отчасти о травмах, которые получил.
Но он кое-что утаил. В сарае, после ухода матери, Люк прислонился к механическому быку, вспоминая прошлое, которое так старался забыть.
Прошло восемь дней, прежде чем он очнулся и понял, что случилось. Хотя он знал, что пострадал, и помнил кое-какие подробности, Люк понятия не имел, что оказался на грани смерти. Он не знал, что бык не только проломил ему череп, но и сломал первый позвонок, и Люк получил кровоизлияние в мозг.
Он не сказал Софии, что врачи почти месяц тянули с пластической операцией, боясь нанести дополнительные повреждения. И умолчал о том, как они подсели к его койке и сообщили, что он никогда полностью не оправится от черепно-мозговой травмы и что часть черепа пришлось заменить маленькой титановой пластинкой. Врачи предупредили, что еще один удар по голове – будет он в шлеме или без – скорее всего окажется смертельным. Пластинка, которую вживили в разбитый череп, находилась слишком близко к мозговому стволу, чтобы обеспечить стопроцентную защиту.
После первого разговора с врачами Люк задавал гораздо меньше вопросов, чем они ждали. Он сразу решил отказаться от выступлений, о чем всех оповестил. Он знал, что будет скучать по родео и, наверное, до конца жизни не перестанет задаваться вопросом, каково это – выиграть чемпионат мира. Но завещание ему составлять не хотелось, да и потом, Люк тогда думал, что на счету у него достаточно денег.
Деньги были, но их не хватило. Мать заложила ранчо, когда брала кредит на покрытие чудовищного счета на медицинские услуги. Хотя Линда не раз повторяла, что судьба ранчо ее не волнует, Люк знал, что она кривит душой. Никакой другой жизни она не знала, и все попытки, которые мать предпринимала после случившегося, лишь убеждали в этом Люка. В прошлом году она работала до полнейшего изнеможения в попытке предотвратить неизбежное. Линда могла говорить что вздумается, но он-то знал правду…
Он пытался спасти ранчо. Да, в прошлом году – и за три года, вместе взятые, – он не сумел заработать достаточную сумму, чтобы выплатить долг целиком, но Люк выступал успешно, даже если ему не удавалось войти в высшую лигу, и Линда вносила проценты в срок. Он восхищался мамиными усилиями – продажа елок, тыквы, увеличение поголовья, – но оба знали, что этого мало. Люк неоднократно слышал, сколько стоит что-то починить, и понимал, что даже в лучшие времена они с трудом держались на плаву.
И что же оставалось делать? Либо притвориться, что все как-то наладится – хотя вряд ли, – либо найти способ решить проблему. Люк знал, каким образом ее решить. Выступать успешно.
Но даже в этом случае он мог умереть.
Люк сознавал риск. Поэтому руки у него дрожали всякий раз, когда он готовился к заезду. Он не то чтобы утратил сноровку или поддавался обычному волнению. Всякий раз, хватаясь за убийственную обвязку, он думал, что, возможно, выступает в последний раз. С таким страхом невозможно было добиться высоких результатов. Но на кону стояло нечто большее – ранчо и мать. Люк не хотел, чтобы из-за него Линда лишилась дома.
Он покачал головой, не желая думать об этом. Люк с таким трудом обрел уверенность, которая, как он понимал, ему понадобится, чтобы продержаться – и победить – в нынешнем сезоне. Любому ковбою меньше всего хочется представлять, что он не сможет выступать.
Или умрет во время заезда…
Люк не соврал врачу, когда сказал, что готов бросить родео. Он знал, какие последствия влекут за собой многолетние выступления. Он видел, как отец морщится по утрам, и сам чувствовал ту же боль. Он много тренировался и выкладывался на все сто, но ничего не получилось. И полтора года назад Люк вполне свыкся со своим решением.
Но теперь, стоя рядом с механическим быком, он знал, что выбора нет. Люк натянул перчатку, сделал глубокий вдох и взобрался на быка. На рогу висел пульт управления, и Люк взял его в свободную руку. Но то ли потому что сезон приближался, то ли потому что он рассказал Софии не все, Люк так и не нажал на кнопку.
Он вспомнил о возможных последствиях, и мысленно повторил, что готов. Готов выступать. Люк готовился – и не важно, что могло случиться. Он ковбой. Он объезжал быков, сколько себя помнил, и намеревался делать это и дальше. Он будет выступать, потому что у него это неплохо получается, и сможет решить проблемы…
Но если он неудачно упадет, то может умереть.
И тут руки начали дрожать. Но, собравшись с духом, Люк наконец нажал на кнопку.
На обратном пути из Нью-Джерси София заехала на ранчо, прежде чем вернуться в кампус. Люк ждал ее: он прибрал в доме и на веранде.
Уже стемнело, когда машина остановилась перед бунгало. Люк спустился с крыльца навстречу девушке, гадая, не изменилось ли что-нибудь с тех пор, как они виделись в последний раз. Но все тревоги исчезли, как только София вышла из машины и побежала к нему.
Он поймал ее в воздухе, и София обвила его ногами. Держа девушку в объятиях, он наслаждался ощущением, которое дарила уверенность в своих чувствах, и думал о будущем.
В тот вечер они занимались любовью, но ночевать София не осталась. Начинался новый семестр, и по утрам предстояли лекции. Когда свет фар исчез в конце дорожки, Люк повернулся и зашагал в сарай, на очередную тренировку. Настроения не было, но Люк напомнил себе, что первое выступление через две недели, и сделать предстояло много.
По пути в сарай он решил тренироваться меньше обычного – максимум час. Он устал, замерз и уже соскучился по Софии.
В сарае Люк быстренько размялся, чтобы разогнать кровь по жилам, и вскочил на быка. Ремонтируя эту штуку, отец наладил ее так, чтобы на максимальной скорости бык двигался интенсивней и вдобавок Люк мог держать пульт управления в свободной руке. По привычке он сжимал руку в кулак, даже когда сидел на живом быке, хотя никто не спрашивал отчего и, возможно, даже не обращал внимания.
Приготовившись, Люк запустил быка на небольшой скорости – в самый раз, чтобы размять мышцы. Потом перешел на среднюю. На тренировках Люк добавлял по шестнадцать секунд, вдвое увеличивая время, которое нужно было продержаться на арене. Отец утверждал, что после этого проще ездить на настоящих быках. Он не ошибался. Зато телу приходилось вдвое тяжелее.
После каждого захода Люк делал паузу, чтобы отдышаться, а после каждых трех – большой перерыв. Обычно в такие минуты из головы вылетали все лишние мысли, но сегодня он то и дело вспоминал про Страхолюдину. Люк сам не знал, отчего думает о нем, но остановиться не мог и чувствовал, как звенят нервы при взгляде на механического быка. Настало время для настоящей тренировки – для заездов на высокой скорости. Отец настроил пятьдесят различных вариантов в случайной последовательности, так что Люк никогда не знал, чего ожидать. Годами эта штука служила ему верой и правдой, но теперь он жалел, что вынужден полагаться на случай.
Когда мускулы кисти и предплечья отдохнули, Люк вернулся к механическому быку и вновь взобрался на него. Три захода, потом еще три. И еще. Из этих девяти он полностью завершил семь. Считая передышки, он тренировался больше сорока пяти минут. Люк решил сделать три захода и на этом закончить.
И не сумел.
Во время второго он понял, что теряет контроль. Люк не испугался. Он тысячу раз падал с механического быка, и в отличие от арены пол вокруг был выстлан мягкой пеной. Люку не было страшно даже при падении – он попытался приземлиться так, как на арене, на ноги или на четвереньки.
Он приземлился на ноги, и пена смягчила удар, как обычно, но отчего-то Люк потерял равновесие и запнулся, инстинктивно пытаясь удержаться. Он сделал три быстрых шага и упал ничком – верхняя часть туловища оказалась за пределами безопасной зоны, и он сильно стукнулся лбом о плотно утоптанный земляной пол.
В голове как будто загудела гитарная струна, вспыхнули золотые искры, мешая сосредоточиться. Все вокруг то погружалось в темноту, то вновь озарялось. Череп пронзила острая боль, медленно перерастающая в нестерпимую муку. Люку потребовалась минута, чтобы набраться сил и встать на ноги, держась за старый трактор, чтобы не упасть. Страх охватил его, когда он осторожно ощупал шишку пальцами.
Она была мягкой, но, потрогав кожу вокруг, Люк убедил себя, что ничего страшного не случилось. Череп, насколько он мог судить, не пострадал. Выпрямившись, Люк перевел дух и осторожно побрел к двери.
Едва он вышел, как желудок у него сжался, и Люк сложился пополам. Накатило головокружение, и его вырвало прямо на землю. После предыдущих сотрясений мозга Люка тоже рвало, и сомнений не оставалось – он заработал очередное. Врач непременно запретил бы ему тренироваться неделю или даже дольше.
Или, точнее, велел бы не ездить больше никогда.
Ничего страшного. Чуть было не произошла беда, но он все-таки уцелел. Он сделает перерыв на несколько дней, несмотря на то что сезон близко. Хромая к дому, Люк пытался увидеть в случившемся светлую сторону. Он усердно тренировался, и перерыв не принесет вреда. Когда он оправится, то будет еще сильнее. Но, невзирая на отчаянные попытки уверить себя, Люк ощущал леденящий ужас.
И что сказать Софии?
Спустя два дня Люк еще не решил, как быть. Он отправился в Уэйк, и, гуляя с Софией по дорожкам кампуса поздним вечером, не снимал шляпу, чтобы она не заметила синяк у него на лбу. Он собирался рассказать девушке про ушиб, но испугался вопросов, которые София могла задать. Да и к чему бы они привели?… На них у Люка не было ответов. Наконец, когда девушка спросила, отчего он такой молчаливый, Люк ответил, что устал после долгих часов работы на ранчо, и не покривил душой, потому что Линда решила отправить скот на рынок перед началом сезона и они провели несколько нелегких дней, загоняя коров в фургоны.
Люк подозревал, что София достаточно хорошо знала его, чтобы заметить перемены в его поведении. Когда на следующие выходные она приехала на ранчо – в шляпе, которую он подарил, и в теплой куртке, – то, казалось, внимательно присматривалась к Люку, пока они ездили верхом, хотя ничего и не говорила. Они проехали тем же путем, что и в первый день, – через рощу, к реке. Наконец София повернулась к молодому человеку.
– Ладно, хватит, – объявила она. – Я хочу знать, в чем дело. Ты всю неделю какой-то странный.
– Извини, я просто немного устал, – ответил тот.
Под ярким солнцем в мозг словно вонзались ножи, свет усиливал постоянную боль, которую Люк ощущал с тех пор, как упал с быка.
– Я уже видела тебя усталым. С тобой что-то случилось, но я не смогу помочь, если ты не скажешь, в чем проблема.
– Я просто думаю про следующие выходные. Все-таки первое выступление в году…
– Во Флориде?
Он кивнул:
– В Пенсаколе.
– Говорят, там красиво. Белые пляжи.
– Наверное. Я их все равно не увижу. Поеду домой в субботу, сразу после выступления.
Он подумал про вчерашнюю тренировку, первую после падения. Она прошла неплохо, чувство равновесия его не подводило, но тупая боль в голове заставила прерваться через сорок минут.
– Будет уже поздно.
– Выступление днем. Я вернусь часа в два.
– То есть… мы увидимся в воскресенье?
Люк похлопал себя по бедру.
– Если приедешь. Но скорее всего я буду как выжатый лимон.
София прищурилась, глядя на него из-под полей шляпы.
– По-моему, ты не особенно радуешься.
– Я хочу тебя видеть. Но, право, не думай, что ты непременно обязана приезжать.
– Может быть, сам приедешь в кампус? Посидим у нас.
– Как-то не очень хочется.
– Ну тогда давай поедем еще куда-нибудь.
– Не забывай про ужин с мамой.
– Значит, я приеду сюда.
София ждала ответа, но Люк ничего не сказал. Девушка, ощутив досаду, вновь повернулась в седле, чтобы взглянуть на него.
– Что с тобой такое? Ты как будто злишься на меня.
Вот она, прекрасная возможность обо всем рассказать. Люк попытался подобрать слова, но не знал, с чего начать. «Я могу умереть, если не брошу выступать».
– Я не злюсь, – уклончиво ответил он. – Я просто думаю о предстоящем сезоне и о том, что нужно сделать.
– Прямо сейчас? – сомневаясь, спросила София.
– Я всегда об этом думаю. И буду думать в течение всего сезона. Кстати, учти, начиная со следующих выходных, мне придется много ездить.
– Знаю, – с непривычной резкостью сказала София. – Ты уже говорил.
– Когда турне двинется на запад, я, может быть, вообще перестану бывать дома на неделе, разве что в воскресенье вечером.
– То есть ты имеешь в виду, что мы будем видеться реже, а приезжая, тебе будет не до встреч со мной?
– Да, наверное. – Люк пожал плечами. – Скорее всего.
– Жаль.
– А что поделаешь?
– Попробуй не думать прямо сейчас о том, как пройдут следующие выходные. Давай сегодня наслаждаться жизнью, ладно? Раз уж ты собираешься разъезжать и я буду реже тебя видеть. Возможно, мы в последний раз проводим время вместе перед долгим перерывом.
Люк покачал головой:
– Да нет…
– Что – нет?
– Я не могу не думать о том, что предстоит, – ответил он, повысив голос. – У нас разная жизнь. Я не занят лекциями, прогулками по кампусу и сплетнями с Марсией. Я живу в реальном мире, и на мне большая ответственность. – София вздрогнула, но Люк продолжал, чувствуя, как с каждым словом в нем все сильнее разгорается негодование: – У меня опасная работа. Я давно не тренировался и знаю, что на прошлой неделе потратил впустую много времени. Начиная со следующих выходных я любой ценой должен побеждать, иначе мы с матерью все потеряем. Поэтому, разумеется, я буду думать о выступлениях, и только о них.
София моргнула, застигнутая врасплох этой тирадой.
– Ого. Кто-то сегодня в плохом настроении.
– Нормальное у меня настроение, – огрызнулся Люк.
– Мог бы и притвориться.
– Чего ты хочешь?
Тут впервые лицо у нее напряглось, и Люк понял, что София изо всех сил старается говорить спокойно.
– Ты мог бы сказать, что будешь рад повидаться со мной в воскресенье, даже если приедешь уставшим. Мог бы сказать, что, если ты задумаешься о чем-то другом, я не должна принимать это на свой счет. Мог бы извиниться и сказать: «Ты права, София, давай сегодня радоваться жизни». А ты говоришь, что твоя жизнь – жизнь в реальном мире – не похожа на учебу в колледже.
– Колледж – это не реальный мир.
– По-твоему, я не знаю? – выкрикнула София.
– Тогда отчего ты обижаешься?
София дернула за повод, заставив Демона остановиться.
– Ты издеваешься? Я обиделась, потому что ты ведешь себя как полный придурок. Намекаешь на то, что ты ответственный, а я нет. Ты сам-то понял, что сказал?
– Я просто ответил на твой вопрос.
– Оскорблением?
– Я тебя не оскорблял.
– И все-таки ты думаешь, что твои дела важнее моих?
– Они действительно важнее.
– Для тебя и твоей матери – да! – закричала София. – Хочешь – верь, хочешь – нет, но я тоже люблю свою семью! Я думаю о родителях! О том, чтобы получить образование! У меня тоже есть обязанности! И я хочу добиться успеха, точь-в-точь как ты! Между прочим, и я кое о чем мечтаю!
– София…
– Что? Вспомнил про хорошие манеры? Знаешь что, не утруждайся. Потому что я приехала сюда, чтобы побыть с тобой, а ты пытаешься завязать ссору.
– Я не пытаюсь, – буркнул Люк.
Но София не слушала.
– Зачем ты это делаешь? – спросила она. – Зачем так себя ведешь? Что вообще с тобой происходит?
Люк не ответил. Он не знал, что сказать, а София смотрела на него и ждала, а потом неодобрительно покачала головой. Она потянула за повод, развернула Демона и поскакала галопом в сторону конюшен. Когда девушка исчезла, Люк остался один в роще, гадая, отчего ему не хватило смелости открыть Софии правду.
Глава 22
София
– Значит, ты просто взяла и уехала? – уточнила Марсия.
– Я не нашла другого выхода, – ответила София, опираясь подбородком на руки. Она лежала на кровати, а подруга сидела рядом. – Я так разозлилась, что даже видеть его не хотела.
– Хм… я бы тоже разозлилась, наверное, – сказала Марсия с наигранным сочувствием. – Мы ведь обе знаем, что без диплома по истории искусств в современном обществе делать нечего. Это очень, очень серьезно.
София нахмурилась.
– Замолкни.
Марсия словно не слышала ее.
– Особенно если ты еще не нашла работу, которая приносит доход.
– Я сказала, заткнись.
– Я просто шучу, – сказала Марсия, подталкивая подругу локтем.
– У меня неподходящее настроение для шуток.
– Да ладно, не обижайся. Хорошо, что ты здесь. А то я уже смирилась, что весь день до ночи проторчу одна.
– Я хочу с тобой поговорить!
– Конечно. Я так соскучилась. Мы уже сто лет ни о чем не говорили.
– И не поговорим, если ты не перестанешь нести чушь. Мне и так нелегко.
– Что ты от меня хочешь?
– Чтобы ты послушала. Я сама не могу разобраться.
– Я слушаю, – ответила Марсия. – Очень внимательно.
– И?
– Честно говоря, я рада, что вы наконец поссорились. Самое время. Я считаю, что отношения нельзя назвать серьезными, пока не случилось настоящей ссоры. До тех пор это просто медовый месяц. В конце концов, никогда не узнаешь, насколько отношения прочны, пока не испытаешь их. – Марсия подмигнула. – Мне так нагадали.
– Нагадали?
– Между прочим, я права. Хорошо, что вы поругались. Если выдержите испытание, то станете сильней. И секс после примирения всегда слаще.
София поморщилась.
– Ты думаешь только о сексе?
– Не только. Но Люк?… – Марсия сладко улыбнулась. – На твоем месте я бы постаралась помириться поскорей. Он такой красавчик.
– Перестань увиливать. Помоги мне разобраться!
– А что, по-твоему, я делаю?
– Ты меня бесишь!
Марсия состроила серьезную мину.
– Знаешь, что я думаю? Если судить по тому, что ты рассказала. По-моему, Люк нервничает из-за того, что должно случиться в ближайшем будущем. Большую часть выходных он будет в отъезде, а ты скоро получишь диплом, вот он и боится, что ты здесь не задержишься. Может быть, он нарочно пытается отдалиться.
«Может быть», – подумала София. Какая-то доля правды в словах Марсии была, но…
– Он сильно изменился, – сказала девушка. – С ним что-то случилось.
– Ты о чем-то забыла упомянуть?
«Он боится потерять ранчо». Но София не рассказывала об этом подруге – и не собиралась. Люк доверился ей, и она не хотела пошатнуть его доверие.
– У Люка много работы, – сказала София. – И он волнуется перед выступлениями.
– Вот тебе и ответ, – заметила Марсия. – Он нервничает и переживает, а ты твердишь, чтобы он об этом не думал. Он обиделся и сорвался на тебя, поскольку решил, что ты равнодушна к его проблемам.
«Возможно».
– Поверь, – продолжала Марсия. – Люк скорее всего об этом сожалеет. Держу пари, он с минуты на минуту позвонит, чтобы извиниться.
Люк не позвонил. Ни вечером, ни на следующий день, ни через день. Во вторник София почти не выпускала мобильник из рук, проверяя, не прислал ли он сообщение, и испытывая желание позвонить самой. Хоть она и сидела на лекциях и вела записи, девушка с трудом могла припомнить, о чем шла речь.
В перерывах между занятиями она бродила по кампусу, вспоминая слова Марсии и признавая, что в них, несомненно, был смысл. И все-таки София не могла забыть вспышку… чего? Гнева? Враждебности? Она не знала, что именно случилось, но явственно чувствовала, что Люк пытался ее оттолкнуть.
Почему же все так быстро изменилось в худшую сторону? Ведь им долгое время было легко и уютно вместе.
В голове не укладывается. София решила взять телефон и позвонить Люку. Как только он заговорит с ней, она немедленно поймет, преувеличены ее страхи или нет.
София полезла в сумку и достала мобильник, но, как только она хотела набрать номер, что-то заставило девушку окинуть взглядом кампус, кишевший привычной жизнью. Студенты с рюкзаками, какой-то парень на велосипеде, экскурсия, остановившаяся возле административного корпуса, а вдалеке, под деревом, влюбленная парочка.
Ничего необычного она не заметила, но отчего-то эти двое привлекли ее внимание, и София, отложив телефон, начала внимательно наблюдать за ними. Молодой человек и девушка смеялись, почти соприкасаясь лбами. Она гладила своего спутника по плечу. Даже на расстоянии чувствовалось, что атмосфера насыщена страстью. София буквально ощущала это. И вдобавок она узнала обоих. То, что она увидела, было не просто проявлением близкой дружбы, и София получила тому подтверждение, когда парочка поцеловалась.
София не отвела взгляд, но напряглась.
Насколько она знала, Брайан не бывал в общежитии и его имя никогда не произносили вместе с именем Марсии. Что было очень странно – в кампусе, где нельзя было ничего сохранить в секрете. Значит, оба до сих пор держали свои отношения в тайне – не только от Софии, но и от остальных.
Марсия и Брайан?
Ее подруга так не поступила бы… Особенно зная, как он обошелся с Софией.
Но, задумавшись, София припомнила, как Марсия несколько раз говорила о Брайане в последнее время… и разве она не призналась, что продолжает с ним общаться? Как там она выразилась? «Он веселый, красивый и богатый, трудно его не любить». И это в то время как Брайан не давал покоя Софии. Не говоря уже о том, что он неровно дышал к Марсии, пока не появилась София, на что подруга неоднократно намекала.
Софии это было безразлично. Она не желала иметь ничего общего с Брайаном, и чувства угасли давным-давно. Марсия могла не бояться конкуренции. Но когда подруга посмотрела в сторону Софии, у той невольно навернулись слезы на глаза.
– Я собиралась тебе рассказать, – сказала пристыженная Марсия.
София стояла у окна, скрестив руки на груди. Она очень старалась сдерживаться.
– И как давно вы встречаетесь?
– Не так уж давно… – сказала Марсия. – Он приезжал в гости на Рождество и…
– Почему именно Брайан? Ты же помнишь, как он меня обидел? – у Софии дрогнул голос. – Ты ведь моя лучшая подруга!
– Я не думала, что так получится… – умоляюще произнесла Марсия.
– Но все-таки получилось.
– Ты уезжала каждые выходные, а я виделась с ним на вечеринках. Мы начали общаться. Обычно мы говорили о тебе…
– Ты хочешь сказать, что я сама виновата?
– Нет! Никто не виноват. Я этого не хотела. Но мы много общались и все ближе узнавали друг друга…
София пропустила остальные объяснения мимо ушей. В животе у нее все словно завязалось в узел, и она вздрогнула. Когда Марсия замолчала, она спокойно произнесла:
– Ты должна была сказать мне.
– Я и сказала! Я не скрывала, что мы с Брайаном общаемся. Намекнула, что мы друзья. Больше ничего и не было. Только две недели назад… Клянусь.
София повернулась к подруге, испытывая к ней в эту минуту ненависть.