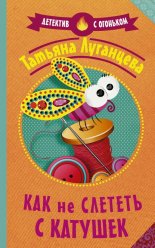Это история счастливого брака Пэтчетт Энн

– Дерево, но не листок.
– Я сдаюсь, – сказал он.
– Вуди, но не Миа.
– Я не знаю. Скажи мне.
Некоторое время я продолжала в том же духе – не отвечая, выдавая пары слов, чем невероятно его бесила. Принесли основное блюдо. До сих пор слышу его запах. Что-то сочное, сложное, совершенное, но, хоть убейте, не помню, что именно.
– Классное, но не обувь, – сказала я.
– Прекрати.
– Не прекращается, не движется, не ждет, – произнося это, я видела, как выхожу из машины посреди пробки. Это пробка. Я сказала Марку, что брошу его, если он не назовет ответ (выразилась я куда более цветисто). Но когда чуть позже до меня дошло – легкий удар молнии рассек мне голову, – я больше не злилась. Я поняла. У меня ушло на это больше часа, но я поняла, и радость, внезапная, ошеломляющая, была мне наградой.
Официант продолжал подливать в мой бокал, хотя не помню, чтобы я об этом просила. Десерты были великолепны; мы до них даже не дотронулись. Счет – прекрасно это помню – составил 350 долларов. С тем же успехом можно было просто выложить деньги на стол и поджечь. Это было лучшее, что каждый из нас ел в своей жизни, и мы этого даже не заметили.
– Я рад, что узнал, какая ты на самом деле, – сказал Карл.
Никогда ни до, ни после он не был на меня так зол. Я знала, каково ему. Когда мы вышли из ресторана, я не выдержала и сказала ответ. Потому что он слишком быстро шел, потому что я была на слишком высоких каблуках и не знала, как вернуться в отель. Я сказала ответ и все испортила. Марк был достаточно умен, чтобы выдержать мою ярость и дать мне понять принцип самой, потому что, как только я разобралась, тут же его простила. Карл, напротив, продолжал злиться. Он сказал, что я жестокая и холодная, а на следующий вечер в «Л’Арпеж» сказал, что между нами все кончено.
– Ты не порвешь со мной в парижском рыбном ресторане, – сказала я. – Не из-за этого.
Он и не порвал. После этого мы пробыли вместе еще десять лет, а затем поженились. У нас очень счастливый союз. Стычка в «Тайеване» – зазубрина на наших отношениях. Ни он, ни я никогда об этом не забудем, хотя сейчас все это кажется мне забавным. Самое грустное, что обед пропал навсегда. Это сбой нашего мозга. Он помнит ссору, но не камбалу. Впрочем, а была ли камбала? Я знаю, что ответила, но могу лишь догадываться о том, что съела.
2006
Ее собачья жизнь
Вот как это случилось: возвращаясь с прогулки в парке, мы с Карлом увидели молодую женщину, сидевшую в машине; она разговаривала с собакой. Даже издалека, сквозь лобовое стекло было видно, что это необыкновенное животное. Карл (он никогда не стесняется) постучал в окно и спросил, что это за порода. Мы живем в Нэшвилле, подобное здесь в порядке вещей, никого это не пугает и не удивляет. Девушка рассказала нам печальную историю: собаку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась крошечным щенком, кто-то бросил на парковке; ее подобрали и впоследствии передавали с рук на руки несколько добросердечных друзей – никому из них не разрешалось держать в квартире животных. Так собака оказалась в машине с девушкой, которая объясняла ей, что пришла пора кого-нибудь очаровать и найти постоянный дом.
Очаровывать она определенно умела. Крошечная, гладкая, беленькая. Солнце просачивалось сквозь ее непропорционально большие уши, нежные и розовые, как лиможская чашка на свету. Мы потрепали ей шерстку. Она облизала нам руки. Мы отошли, чтобы все обдумать. И вернулись за щенком.
Я не представляла, что все будет вот так. Думала, дождусь подходящего момента, определюсь с породой, осмотрюсь. По правде сказать, я и сама жила в квартире, где держать собак было запрещено. Но когда судьба стучится в двери, таиться нет смысла. «Давай назовем ее Роуз», – сказал Карл.
У меня перехватило дыхание, голова шла кругом. Мой щенок уткнулся носом мне под мышку, и сотни остроумных собачьих кличек, которые я придумывала в течение жизни, испарились. «Да, – сказала я. – Роуз».
Мне никогда ничего так не хотелось, как завести собаку. Другие девочки росли, мечтая о домах и детях, большой любви и финансовой стабильности; мне же грезились овчарки и терьеры, целые поля счастливых скачущих дворняг. Часть моего детства прошла на ферме, где я была окружена животными: лошади и куры, с полдюжины поджарых котов-мышеубийц; там были кролики, свинья и много, много собак – Гавс и Шустрик, Сэм и Люси, и особенно Обнимашка, который полностью соответствовал своей кличке. С тех самых пор я была уверена, что счастье и подлинная зрелость придут ко мне в тот момент, когда у меня появится собака. Я стану меньше путешествовать. Поселюсь в доме с расчудесной лужайкой. Денег всегда будет хватать на оплату счетов из ветклиник.
Дома Роуз играла с мячиками, пыталась карабкаться по ступенькам и спала у меня на коленях, а мы с обожанием за ней наблюдали. Не то чтобы я была несчастлива в мои «бессобачьи годы», однако предполагала, что с появлением щенка жизнь может измениться к лучшему. Чего я и представить не могла, так это насколько лучше все станет теперь. Все бреши в моей жизни, в моем характере внезапно заполнились. Я вступила в мои первые взрослые отношения, построенные на безусловной взаимной любви. Я тут же нашла куда более уютную квартиру, где разрешалось жить с собакой, уплатив абсурдно большой невозмещаемый залог. Поскольку я работаю дома, Роуз могла проводить целые дни там, где чувствует себя лучше всего, – у меня на коленях. Мы до такой степени спелись, что некоторые стали смотреть на нас с подозрением. Я брала Роуз в магазины, как те богатые дамочки в «Бергдорф». Брала ее с собой на ужины к друзьям. В отпуск на Кейп-Код. Поскольку она совершенно не способна оставаться в одиночестве, когда мне нужно было отправиться куда-то, где по какой-нибудь дурацкой причине вход с собаками запрещен, я ехала на другой конец города и оставляла ее у бабушки.
– Вы только посмотрите, – говорили люди, глядя на меня, не на Роуз. – Как же сильно ей хочется ребенка.
Ребенка? Я приподнимала мою собаку на руках, мою умную, прекрасную собаку. «Вот, – отвечала я. – Вот кого мне всегда хотелось». Правда в том, что я вообще не помню, чтобы когда-нибудь хотела ребенка. Я не заглядывала с тоской в коляски прохожих. Зато бессчетное количество раз склонялась к тротуару, чтобы почесать за ухом какой-нибудь незнакомой собаки, прошептать ей, как прозрачны ее глаза.
– Возможно, ты не отдаешь себе отчета, – говорили незнакомцы, говорили друзья, говорили родственники. – Это же очевидно: ты хочешь ребенка.
– Вон как ты держишь ее на руках, – говорила бабушка. – Как младенчика.
Люди начали поднимать вопрос в разговорах с Карлом, настаивая, чтобы он наконец обратил внимание на мою непреходящую, уже просто карикатурную жажду материнства. Будучи покладистым парнем, как-то раз он взял меня за руку. Другой рукой он теребил уши Роуз. Я люблю Карла в том числе за то, как он относится к Роуз. Она обожает пристроиться у него на шее, как лисий воротник, свешиваясь лапками с каждого плеча. «Энн, – сказал он. – Если ты хочешь ребенка…»
Когда млекопитающие стали такими замороченными? Кто-нибудь вообще может посмотреть на ребенка и щенка и увидеть разницу? Ребенка нельзя оставить дома с жевательной игрушкой, если вы идете в кино. Ребенок не будет возиться под одеялом, устраиваясь на ночь у вас в ногах, когда вам холодно. Дети, при всех их множественных неоспоримых достоинствах, не будут бегать с вами в парке или ждать у двери вашего возвращения, и, насколько мне известно, они не знают ровным счетом ничего о безусловной любви.
Будучи бездетной женщиной детородного возраста, я прямо-таки живая мишень для кривотолков. Никто не скажет, глядя на неженатого мужчину, выгуливающего лабрадора: «Видишь, как он кидает теннисный мячик своей собаке? Парень определенно хочет сына». Пес, раз уж на то пошло, лучший друг мужчины, товарищ, собрат. Но стоит женщине завести собаку, про нее тут же скажут, что она сублимирует. Если же она честно признается, что не хочет детей, в ответ ей лишь понимающе покивают головой и ответят: «Просто подожди». Для протокола: я не сюсюкаю с моей собакой, а когда зову ее, не говорю «Иди к мамочке».
– Из всех моих друзей ты всегда была самой психически здоровой, – сказала моя подруга Элизабет. – Пока не появилась эта собака.
Хотя я уверена, что была бы рада и какой-нибудь другой собаке, полагаю, глубина моих чувств к Роуз проистекает из того факта, что по части ума, верности и любви ей нет равных. По вечерам мы с Карлом везем ее через весь город на большое открытое поле, где люди спускают своих питомцев с поводков, чтобы дать им наиграться. Когда она скачет по траве с немецкими догами и бернскими зенненхундами, мне кажется, что свет еще не видел собаки более компанейской и популярной (при этом я осознаю, что окончательно поехала головой). Другие собачники спрашивают о родословной Роуз – возможно, надеясь найти кого-нибудь из ее семейства. Роуз недостаточно быть просто хорошей собакой, она должна принадлежать к определенной породе. Ее уже называли – в зависимости от того, как падает свет, – маленьким джек-расселом, большой чихуахуа, рэт-терьером, фокстерьером, ногастой корги. В настоящий момент она португальский поденгу – собака, насколько мне известно, ранее не встречавшаяся в Теннесси. Просто в нашей собачьей энциклопедии отыскалась фотография, с которой у нее больше всего сходства. Теперь мы часто говорим что-нибудь вроде: «Где поденгу?» или: «Поденгу сегодня уже гуляла?» – чтобы она почувствовала принадлежность к родовым корням. Но на самом деле она просто собака-с-парковки, брошенная в метель, чтобы встретить свою судьбу.
Я наблюдаю за другими собачниками в парке: женатыми парами, одиночками, молодыми родителями. У каждого из них отношения с собакой всегда очень индивидуальны. Однако снова и снова я вижу, как люди гордятся своими питомцами – тем, как они бегают, как снюхиваются друг с другом; гордятся тем, что они достаточно храбры, чтобы залезть в воду, или достаточно умны, чтобы этого не делать. Похоже, люди способны любить своих собак с той степенью беззаветности, какую они редко проявляют по отношению к друзьям или членам семьи. Собаки никогда не подводят, а если что-то все же случается, хозяева быстро забывают об этом. Я хочу научиться любить людей так, как люблю мою собаку, – гордиться, восхищаться ими, не помнить их ошибок. Любить других так, как моя собака любит меня.
Когда собака тратит столько энергии, чтобы сделать вас счастливыми, вы конечно же захотите сделать ее счастливой в ответ. Что кажется избыточным для вас, для вашего питомца естественная необходимость. Мы с Карлом наняли Роуз персонального тренера: мечтали, что она станет послушной, будет реагировать на команды «сидеть», «на месте» и «ко мне», может быть, выучит несколько простых трюков. (Хотя казалось, она такая маленькая, что и газету в дом занести не сумеет.) Я переживала, что не смогу найти подходящего тренера, и обратилась за моральной поддержкой к моей подруге Эрике, но она была слишком озабочена тем, чтобы устроить своего четырехлетнего сына в лучшую манхэттенскую подготовишку, и не особо сочувствовала моей озабоченности поиском дрессировщика для щенка. Инструктор, с которым мы в итоге сговорились, был воплощением кинологической власти. После нескольких минут ни к чему не обязывающей беседы, во время которой Роуз запрыгивала к нему на плечо и лизала макушку, он изложил основные положения своего режима.
Первое: собака не должна забираться на мебель.
Мы заморгали. Нервно заулыбались: «Но ей это нравится. Да нам самим это нравится».
Он объяснил базовые принципы дрессировки. Собака должна научиться слушаться. Она должна узнать и усвоить, что такое «нельзя». К ошейнику Роуз он привязал веревку и продемонстрировал, как резким рывком стаскивать ее с дивана. Наша собака взлетела в воздух. Посмотрела на нас с пола, скорее озадаченно, чем обиженно.
– Она ведь не спит с вами? – спросил тренер.
– Конечно спит, – сказала я, ободряюще потрепав ее по загривку. Обычно она спала под одеялом, положив голову мне на подушку и уткнувшись мордой мне в плечо. – Какой смысл заводить маленькую собаку, если не позволять ей спать с тобой?
Он сделал пометку у себя в журнале. «Вы должны это прекратить».
Я обдумывала это целых пять секунд: «Нет. Все что угодно, но моя собака будет спать со мной».
После непродолжительной серии препирательств он уступил, дав понять, что это противоречит всем его представлениям о здравом смысле. В течение следующих десяти недель я сидела с Роуз на полу, а Роуз спала со мной в кровати. Окончание обучения мы отпраздновали, позволив ей вновь забраться на диван.
Я решила навестить моего друга Уоррена (он психолог) и спросить, не вышла ли, по его мнению, ситуация из-под контроля. Возможно, из-за собаки у меня развилось обсессивно-компульсивное расстройство?
– Обсессивно-компульсивное расстройство должно быть связано с определенным поведением, – сказал он. – Ты ее все время моешь? Или тебе все время хочется ее помыть?
Я покачала головой.
– В таком случае, возможно, это созависимость. Животные по своей природе очень созависимы.
Не могу сказать, что мне это понравилось. Уж больно модное словечко. В комнату вошла шестнадцатилетняя дочь Уоррена Кейт, и я предложила ей посмотреть студийные фотопортреты Роуз, которые заказала для рождественских открыток.
– Ну дела, – сказала Кейт. – Похоже, вы очень сильно хотите ребенка, да?
Я вернулась домой к моей собаке. Чесала ее розовый живот, пока нас обеих не потянуло в сон. Наверное, на свете действительно есть люди, которые заводят собаку, когда на самом деле хотят ребенка, но мне интересно, есть ли другие – те, кто родили ребенка, когда в действительности им была нужна собака. Роуз у нас уже год, и еще не было такой холодной дождливой ночи, когда бы я воспротивилась тому, чтобы вывести ее погулять. Я никогда не жалела, что завела собаку – именно эту собаку, – пока она обнюхивала каждую травинку в отдельности, даже если мои руки буквально примерзали к поводку. Мне никогда не было в тягость собирать бесконечные белые волоски с темной одежды. Все, чего я хотела, – это завести собаку, которая спала бы у меня на коленях, пока я читаю, облизывала бы мне шею и приносила брошенный мячик восемьдесят семь раз подряд. Я думала, что собака – ключ к истинному счастью. И была права. Мы истинно счастливы.
1997
Лучшее место в зале
Когда мне было шесть и семь лет, мы со старшей сестрой часто оставались с семьей человека, бывшего штатным врачом «Гранд Ол Опри»[5], – в те времена, когда эфиры проходили на сцене «Райман Аудиториум» в старой части Нэшвилла. Стоял 1969-й, 1970-й. Вечерами пятницы и субботы доктор Харрис брал нас с собой вместе с двумя своими младшими дочерьми посидеть за сценой, пока он осматривал часть тела звезды, нуждавшуюся в осмотре, хотя большинство вечеров никто ни в чем не нуждался, и он мог спокойно выпивать и травить байки в гримуборной: лучшие музыкальные номера на самом деле исполнялись именно там. Все это время кучка маленьких девочек, и я одна из них, сидела где-нибудь в темном углу и смотрела, как мужчины и женщины со вздыбленными волосами ходят туда-сюда в блестках и бахроме. Больше всех нам нравился Рой Акафф, потому что у него был йо-йо.
Это должно было стать моментом моего музыкального рождения. Я была ребенком, которому досталось лучшее место в зрительном зале, но даже в те ранние дни мы с кантри-музыкой не подходили друг другу. Я помню шляпы и башмаки, красноватый свет, змеящиеся электрические кабели, но не помню ни одной песни. Казалось, вынужденная любовь к «Опри» уготована мне с рождения; мне понадобилось еще двадцать пять лет, чтобы выяснить, что мое сердце жаждало совсем иной музыки.
Моя подруга Эрика Шульц живет в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. Она таскала своих мальчиков в «Метрополитен-опера» так же, как нас в детстве таскали в «Райман». Она устроила их в детский хор, чтобы они могли выходить на сцену и петь. Я вот думаю, насколько иначе сложилась бы моя жизнь, если бы мне повезло родиться Алексом Шульцем. Мне было уже за тридцать, когда я начала исследование для романа, главная героиня которого, оперная певица, оказывается в заложниках в посольстве в Южной Америке. Лишь приступив к исследованию для «Бельканто», я впервые услышала оперу. Любовь не была мгновенной, она была медленной, глубокой, непреходящей; любовь, от которой уже никуда не деться. Все внутри меня пришло в движение. Это была моя музыка, моя судьба: колоратура, а не гнусавость, Dove Sono[6], а не Stand By Your Man[7].
Проблема в том, что я живу в Нэшвилле, а настоящая любовь, как показывает мой опыт, не спрашивает, во сколько она тебе обойдется. Я начала покупать билеты на оперные спектакли в других городах, билеты на самолеты, чтобы добраться до этих самых других городов, а когда добавила к этому отели, такси и перекусы, то вскоре обнаружила, что, по сравнению с моим пристрастием, большинство случаев наркозависимости кажутся не такими уж серьезными. Мне постоянно было мало. Но, образно говоря, я прибыла в театр уже после антракта. На какое знание могла я претендовать, когда столько всего не видела? Слушать – уже что-то, да, и я благодарна компании «Тексако» за субботние трансляции, и, да, я покупала компакт-диски, но опера – это еще и драматическое, и во многих отношениях визуальное искусство. Это косые взгляды, это взятая живьем нота ми. Я хотела видеть, как бледнеет Виолетта.
А потом директором «Метрополитен-опера» назначили Питера Гельба. Он понимал, что такие, как я, не всегда могут ходить в оперу, поэтому сделал так, чтобы опера могла приходить к нам. Театр начал транслировать оперные спектакли в кинотеатрах по всей стране. Первое шоу я пропустила, поэтому не посмотрела постановку «Волшебной флейты» Джули Теймор – и до сих пор не оправилась от этого. Но 6 января 2007 года я вошла в кинотеатр «Регал Грин-Хиллз Стадиум 16» и заплатила 20 долларов за билет на «Пуритан». Я читала об оперных трансляциях, но до сих пор не вполне понимала, как это работает. Там, в удобном кресле-трансформере, пока в воздухе витал запах попкорна, я смотрела, как Анна Нетребко лежит на спине, свесив голову в оркестровую яму, и поет Беллини так, будто ее сердце горит огнем.
Поддается ли это описанию? Оставаясь в Нэшвилле, я смотрела спектакль «Метрополитен-опера». На таком огромном экране, что было видно мельчайшее движение руки, тончайшую вышивку на юбке. Я видела, как во рту Нетребко язык придает форму воздуху, порождающему ноту. Я видела дирижера, да, решительный жест его запястья, но – будто бы этого мало – я и валторниста видела. Я могла заглянуть в глаза каждому хористу, сосредоточенному на партитуре, всем этим мужчинам и женщинам. Это была Большая Опера: каждая нота подлинно человеческая, одновременно несовершенная и безупречная. Это была опера, какой ее видел Алекс Шульц, – то есть прямо со сцены.
Если самой оперы было недостаточно, были и дополнительные бонусы: завсегдатаи «Мет» убивали время между актами, стоя в безумно длинных очередях, чтобы выпить или воспользоваться уборной. Они перечитывали программу или бесцельно смотрели на тяжелый бархатный занавес. При этом те из нас, кто сидел в кинотеатре, оказывались по ту сторону занавеса, где Рене Флеминг, вооружившись микрофоном, останавливала сопрано и тенора по пути со сцены и спрашивала, почему им нравится Беллини и насколько это сложно – петь бельканто. Представьте, что вам довелось увидеть, как Поль Сезанн берет интервью у Камиля Писсарро: оба стоят у наполовину законченного холста и говорят, остроумно и небрежно, о живописной технике. Представьте, как Сезанн указывает на небольшой мазок яркой краски на груше Писсарро и говорит: «Хорошо сработано! Для меня самого изобразить свет на груше – проблема!»
После «Пуритан» я покупала билеты заранее и приходила в кинотеатр пораньше. Так поступали все. Зал был переполнен, но мы чувствовали себя обязанными притворяться, будто мы владельцы сезонных абонементов. Каждый старался занять либо то же самое место, где сидел в прошлый раз, либо сесть как можно ближе к нему. У меня второе место слева в предпоследнем ряду – через пять кресел от Джона Бриджеса, через пять рядов от Юджинии Мур. Мы все успели перезнакомиться, и, пока ждем, когда огромные часы обратного отсчета на экране достигнут нуля, болтаем о предстоящих спектаклях. Наблюдаем, как нью-йоркские зрители, заплатившие за билеты в десять раз больше, а некоторые еще больше, пробираются к своим местам. Как и мы, зрители в Нью-Йорке останавливаются, чтобы поприветствовать своих знакомых; подобно им, мы сопровождаем аплодисментами окончание арий и движение занавеса. Кричим Brava! и Bravo! Умом мы понимаем, что исполнители нас не слышат, но в этот момент высокого разрешения чувствуем такую полноту жизни, что об этом недолго и забыть.
Второй сезон трансляций стал для меня прорывом в языке, на котором я так отчаянно хотела заговорить. Я посмотрела достаточно спектаклей, чтобы оценить исполнение Рамона Варгаса. Несколько лет назад я видела его в постановке «Травиаты», а потом снова – в прошлом сезоне трансляций («Евгений Онегин») и в нынешнем («Богема»). Главным событием прошлогоднего «Триптиха» Пуччини для меня стала Мария Гулегина, и, когда она вернулась в качестве леди Макбет, я чувствовала почти собственническое удовольствие, будто бы это я первой ее и открыла. То же относилось и к Хуану Диего Флоре-су, блиставшему в «Севильском цирюльнике». За три дня до трансляции «Дочери полка» в «Таймс» вышла статья о том, как он взял в своей арии девять высоких до, а затем повторил свой подвиг на бис – первый бис в «Метрополитен-опера» за пятнадцать лет! Два года назад я бы прочла эту статью с некоторым тупым приятием, зная, что это чудо, которое деревенской девушке увидеть не суждено, но теперь пришла еще раньше, чем обычно, на следующую субботнюю трансляцию, где мы, зрители, заняв свои места, обсуждали, повторятся ли сегодня бисы или же в день трансляции это, ну, слишком позерски. (Увы, полагаю, так оно и было. Никаких бисов «на бис».) И все же услышать это даже один раз было потрясающе. Мы увидели мощное выступление Натали Дессей, которая сама по себе живое доказательство того, что просто слушать – недостаточно. Мы долго ворчали по поводу того, что «Лючию ди Ламмермур» с ее участием не включили в список трансляций. (Как же быстро мы превращаемся из признательных в прожорливых.)
Истинный ценитель оперы (тот, кому эта любовь досталась по праву рождения) находится в постоянном поиске нового. Их мутит от «Кармен». В свои тринадцать лет Алекс Шульц гораздо больше интересуется «Енуфой» Яначека. Неофиты, вроде меня, живущие с ношей ограниченного доступа, всегда играют в догонялки. В прошлом, когда, отправляясь куда-нибудь, я могла сходить в оперу, то выбирала, скажем, «Мадам Баттерфляй», а не «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, потому что пыталась заложить фундамент своего образования. (Ради всего святого, я до сих пор «Риголетто» не видела!) Но трансляции охватывали весь спектр – от проверенных шедевров до мировых премьер. Мне не понравилась мировая премьера оперы Тэна Дана «Последний император» в 2006 году, зато, посмотрев ее, я почувствовала себя очень современной. До этого я никогда не считала себя даже отдаленно продвинутой в том, что касалось оперы. Если бы я жила в Нью-Йорке и обладала всеми деньгами и временем мира, сомневаюсь, что пошла бы на «Гензеля и Гретель», но я живу в Нэшвилле, поэтому – пошла. Думаю, эти гигантские рыбы во фраках будут преследовать меня до конца моих дней. Музыка в плане навязчивости не уступала визуальному оформлению, но я буду очень рада, когда в следующий раз увижу на экране чудесную Кристин Шефер и смогу сказать: «Гретель! Это Гретель!»
Со временем в «Метрополитен-опера» пошли еще дальше, чтобы сделать антракты еще интереснее. Пока пятьдесят монтировщиков развозят гигантские панно, Джо Кларк, неутомимый технический директор, объясняет, как делается искусственный снег. Рене Флеминг интервьюирует не только сопрано и дирижера, но и людей, обслуживающих живую лошадь в «Манон Леско». Лошадь, конечно, непревзойденный профессионал, но вот Карита Маттила села в глубокий шпагат, а затем для сноровки – ей придется повторить это на сцене – приподнялась и повторила это с другой ноги.
То, что мы так хорошо проводим время между актами, приятный бонус, но это не первостепенно. Первостепенна сама опера. Понятное дело, я рыдала в конце «Богемы», но, когда на следующий вечер мне позвонила моя подруга Беверли, чтобы рассказать, как в техасском кинотеатре рыдала она, мы обе проговорили «Мими! Мими!» и снова разрыдались в свои телефонные трубки. То, как я плакала на «Сестре Анжелике», втором акте «Триптиха», совершенно застало меня врасплох; образ светящегося ребенка, входящего в финале через двери в верхней части сцены, заставил всю публику громко всхлипывать. Но все это даже рядом не стояло с «Евгением Онегиным» – постановка, музыка, величие, которое воплощали собой Дмитрий Хворостовский и Рене Флеминг. Как бы ни была хороша Флеминг в роли ведущей трансляции, любое ее появление на сцене «Мет» вызывает чувство, что она должна влезть в сценический костюм и петь. (Эту же постановку я видела три дня спустя в Нью-Йорке, где часть сцены мне перегородило бутафорское дерево. Даже несмотря на то, что мое место было хорошим, я не могла видеть всех тех оттенков радости, которые так ясно излучало лицо мисс Флеминг на киноэкране, пока она писала Онегину, или сокрушительное унижение и горе, появившиеся в ее глазах, когда он отверг ее. Была ли опера лучше на экране? Не берусь утверждать, потому что есть, конечно же, магия присутствия, но скажу, что это был одновременно другой и равный опыт.)
В день последней трансляции, в апреле, на большом экране возник список спектаклей будущего сезона «Метрополитен-опера». Десять опер и торжественный вечер открытия! Зрители в «Регал 16» разразились радостными воплями, клянусь вам, мы вопили, когда узнали эти новости. В этом году было всего восемь опер, в прошлом лишь шесть. Жители Нэшвилла изголодались. Нам хотелось все больше и больше.
Что, если бы культура была подобна овощам и нам говорили потреблять лишь то, что созрело на местной почве? Научилась бы я любить «Опри» так же, как мне удалось смириться с окрой? Сомневаюсь, а эти трансляции дали мне лучшее, что может предложить большой город, – без необходимости жить под его бременем, а с этим бы я точно не справилась. В моей любви к Теннесси всегда присутствовало понимание того, что определенные потребности необходимо удовлетворять где-то еще. Но в наши дни, похоже, их не так уж много.
Как любая обуза, ни одна зависимость не может считаться полной, пока вы не передали ее своим друзьям. Я старалась как могла, и порой мне это удавалось, но, как правило, мне все же невероятно сложно убедить людей проводить субботние вечера в кинотеатре за просмотром оперы. Полагаю, я лет на двадцать моложе, чем среднестатистический любитель оперы в нашем кинотеатре. Питер Гельб знает свою аудиторию, но также он знает, что ему нужно возделывать новые поля. Уверена, однажды так и будет. Такие, как мы, обращенные в оперу, никогда не затыкаются, и рано или поздно вы посмотрите хотя бы одну, просто чтобы нас утихомирить. Оказавшись в зале, вы все поймете, а когда поймете, тогда, мой друг, пути назад уже не будет.
2008
Мне выстлана дорога в ад
Если вы не из Биллингса, штат Монтана, то не ожидаете натолкнуться на кого-то из знакомых в аэропорту Биллингса, однако у багажной ленты стоит коллега Карла, врач из Нэшвилла, и его дочь-подросток. Они встречаются здесь с остальными членами семьи, чтобы провести двухнедельный отпуск. Доктор спрашивает о наших планах.
Карл прочищает горло – Мы едем в Бэдлендс, – говорит он. – А оттуда в Йеллоустоун.
– То есть – поход?
Можно ли назвать это походом? Нет, назовем это своим именем.
– Мы арендуем «виннебаго», – говорю я.
– Винни-Гагу? – переспрашивает доктор.
– Мы их ненавидим, – берет слово его дочь – на случай, если от меня ускользнул подтекст.
Доктор мрачно кивает: – Они засирают заповедники. Ездят со скоростью пять миль в час. Эти хреновины повсюду. Ненавижу их. Зачем вам путешествовать на «виннебаго»?
Я отвечаю, что это редакционное задание, и, честно говоря, это единственная причина, по которой меня можно затащить в дом на колесах. Мы не в отпуске. Это журналистское расследование. Мой план состоит в том, чтобы внедриться в эту культуру, обличить ее адептов в чрезмерном потреблении топлива, рассказать о пагубных последствиях подобного образа жизни для здоровья, короче, поддержать идеологию редактора. Но признаваться в подобном, дожидаясь чемодана, не в моих правилах.
Карл переминается с ноги на ногу – не хочет оказаться втянутым. Я не напоминаю ему, что, вообще говоря, его никто не приглашал. Я намеревалась вести фургон в одиночку, а он сам нарисовался в последний момент. Некоторое время назад мы с Карлом расстались, что делает эту поездку сомнительной возможностью рассмотреть вопрос о воссоединении. Но мы, конечно же, не скажем об этом доктору из Нэшвилла, поскольку он, раз уж на то пошло, не в курсе, что мы расстались. Карл пытается увести разговор в сторону, спрашивая о матери своего друга, как вдруг лицо доктора светлеет. Он поворачивается к дочери.
– Помнишь, как она горела? – спрашивает он, касаясь сокровенного семейного воспоминания.
Широченная улыбка. – Все заволокло дымом, – отвечает девочка.
– Это было пару лет назад, – говорит нам доктор, и впервые за все время он действительно оживлен беседой. – Мы обогнали еле ползущий по Йеллоустоуну «виннебаго», а затем, на обратном пути, снова увидели тот фургон: он полыхал. Обшивка горела быстро, – руками он изображает пляшущие языки пламени. Затем вновь приходит в себя. – Никто не пострадал. Но как же здорово было на это смотреть.
Дочь кивает: – Мы вылезли из нашей машины. И пустились в пляс.
Интересно, люди из того горящего «виннебаго» потом расстались? Допустим, они бороздили Америку, чтобы проверить свои чувства на прочность, и все, что в итоге увидели, – пляшущие языки пламени?
В первую ночь все просто: один гостиничный номер, две кровати. Наутро мы отправляемся в прокат, чтобы забрать наш двадцатидевятифутовый «виннебаго». По телефону эта цифра звучала как что-то внушительное, но, оказавшись на стоянке, мы видим, что это довольно легкая машинка. Остальные значительно крупнее. Куда ни повернись, всюду шины, стекло, алюминий и сталь. Наш фургон только сошел с конвейера, и, поскольку вернуть его необходимо в идеальном состоянии, все внутри закрыто пленкой – пол, стол со скамейками, водительское кресло, кровать. Пахнет полихлорвинилом; запах вполне себе. Пол, юноша бледный и доброжелательный, которому поручено ввести нас в курс дела, спрашивает, управлял ли кто-нибудь из нас прежде домом на колесах.
– Нет, – говорит Карл. Я качаю головой.
– Вообще не проблема. – Он улыбается беспроблемной улыбкой. – Я кучу людей этому научил.
На боку нашего «виннебаго» косыми кокетливыми буквами написано «Минни», потому что у домов на колесах всегда милые имена («Праздношатун», «Загорыныч», «Деревенщина», «Мародер»), которые отлично сочетаются с надписями на чехлах запасок: «Ушел порыбачить» или «Еду на честном слове». Пол показывает, как раскатать тент перед входом, долгий и сложный процесс, смутно напоминающий установку гигантской гладильной доски. Дает подробные инструкции по опорожнению и наполнению резервуаров. (104 галлона для воды, 55 для бензина – чуть меньше десяти миль на галлон). Он протягивает ключи, и я забираюсь на водительское место, потому что это мое задание, моя работа, и вообще я не возражала против поездки в одиночестве. Карл садится в пассажирское кресло.
В фильме Альберта Брукса 1985 года «Потерянные в Америке» пара вкладывает все свои сбережения в путешествие по стране в гигантском доме на колесах. Смотреть, как Брукс рулит, пока Джули Хэгерти разогревает в микроволновке тосты с сыром, забавно. Смотреть, как грохочущий левиафан карабкается по холму в пробке, тоже забавно. Два человека за рулем кемпера – само по себе бунтарство, достойное целого фильма, и все же я не смеюсь. Хотя я уверена, что в целом справлюсь с этой махиной в пути, прямо сейчас у меня серьезные сомнения по поводу того, как сдавать назад. После минутного колебания я разворачиваюсь в сторону парковки. «Я не смогу».
Карл понимает меня как раз настолько, насколько это необходимо. Встает, меняется со мной местами и садится за руль. Ему кое-что известно о том, как сдавать назад, а в том, что касается парковки, он просто гений. Но этого недостаточно, чтобы у нас все получилось. Развернув эту штуковину, он не спрашивает меня, хочу ли я, чтобы сперва повел он, потому что знает: именно этого я и хочу.
Мы вливаемся в утренний поток машин в центре Биллингса, обернутые в пластик сиденья баюкают нас, как диваны компании «Лей-Зи-Бойз». Два квартала спустя черно-белая собака выскакивает на дорогу и несется прямиком под наши колеса. Карл вдавливает педаль тормоза. И тут нам открывается Первая великая истина кемпера: подобно океанскому лайнеру или нефтяному танкеру, его не так легко остановить. Пока Карл прижимает педаль к полу, я ору на собаку: «Кышь! Кышь!» Возможно, мы отдавили ей хвост, но собака спасена, и, едва остановившись, мы ликуем. Мы не задавили собаку в первые пять минут нашего путешествия! Мы говорим это друг другу вслух. Доброе предзнаменование! Хороший знак! Пять минут в «виннебаго», и до сих пор никто не пострадал.
Несколько определяющих деталей нашей совместной жизни: Карл бросил меня, когда мне этого не хотелось, и решил вернуться, когда я больше его не ждала. Он настаивал. Мы ругались. Я сказала ему убираться, но он не послушал. Шли месяцы, месяцы, месяцы, а он все не уходил. И вот мы сидим в доме на колесах, направляясь на восток.
После остановки в продуктовом, чтобы пополнить припасы, мы толкаем тележку, наполненную едой, через парковку к боковой двери «Минни». Мы не взяли пластиковые пакеты. Карл вытаскивает из тележки связку бананов, я стою на ступеньке и принимаю. Затем кладу бананы на кухонную стойку. Наши торсы двигаются, ноги остаются неподвижны. Когда все выгружено, мы откатываем тележку обратно в загон и возвращаемся в фургон, чувствуя, что время против нас. Какой-то важный шаг между магазином и кухней был потерян. Мы распаковываем сумки, едим сэндвичи с арахисовой пастой, по-прежнему оставаясь на парковке у продуктового. Меня одолевает сильнейшая апатия. Зачем куда-то ехать? Почему бы просто не остаться здесь?
На автострадах штата Монтана нет ограничения скорости, а мы тащимся шестьдесят миль в час. Машины проносятся мимо, как шарики в пинболе. Вероятно, мы могли бы ехать быстрее, но в этом нет никакого смысла. Наш приблизительный план состоит в том, чтобы двигаться на юг по магистрали до Вайоминга, потом на восток до Южной Дакоты, а в конце оказаться в Йеллоустоуне. Наш вагончик арендован на неделю, так что времени у нас вагон. Если уж водить «виннебаго», я рада, что делаю это на Западе. Запад большой. И машина у нас большая. Мы выписываем многозначительные зигзаги на фоне бескрайнего неба. Куда ни глянь, везде пусто и тихо, как в океане, будто мы плывем по прерии на шхуне, рассекая волны. Этот мир никак не связан с тем, в котором мы живем, где мы ответственны за нашу работу, за возложенные на нас ожидания, за нашу собаку, которая теперь вообще-то моя, потому что мы больше не встречаемся. Мы не говорим о том, что между нами пошло не так и возможно ли это исправить. Мы слушаем радио, обсуждаем проплывающие мимо пейзажи, и, хотя я умалчиваю об этом, у меня есть стойкое понимание того, как странно было бы управлять «виннебаго» в одиночку.
Через какое-то время мы догоняем грузовик, который едет еще медленнее, чем мы, и Карл, после долгих переговоров с зеркалом заднего вида и ряда препирательств со мной – его лоцманом и человеком, чье имя указано в страховке, – решает обогнать грузовик, и именно в этот момент мы подрезаем двоих плывущих рядом мотоциклистов.
Мы впиливаемся обратно в правый ряд.
В глазах смотрящих на нас мотоциклистов не ярость, скорее удивление – жизнь все еще проносится перед ними. Сзади следует еще группа из десяти-двенадцати мотоциклов. У меня трясутся руки. Карл дрожит всем телом. Когда-то он сам подумывал о том, чтобы купить мотоцикл. «Я их в упор не видел», – говорит он, подводя нас ко Второй великой истине кемпера: ты много чего будешь не способен увидеть. Этот урок важен, даже если вы не собираетесь водить кемпер. Это относится к любому транспортному средству, где есть душевая кабина и большая кровать.
Наш маршрут распланирован, но мы решаем выехать на другую автостраду. Впрочем, какая разница? Мы не бронировали отели. Наш отель с нами. Как и наш ресторан. Мы черепахи, несущие на спине свой мир. Как только мы съезжаем с автострады, нам больше не нужно переживать, что мы едем слишком медленно для тех, кто сзади нас. В следующие два часа нам не попадается ни одной машины.
Не путайте Восточный Вайоминг с Западным. Здесь никого нет. Где-то впереди на дороге стоят коровы, но до них еще тоже далеко. На этот раз мы знаем, что оттормаживаться нужно раньше, чем кажется необходимым, и постепенно мы замираем в ожидании, пока коровы пройдут. Мы нигде, и в то же время у нас пятьдесят галлонов бензина и сто галлонов воды.
Приятный темный вечер, мы оказываемся недалеко от ранчо, где я гостила много лет назад, и я говорю Карлу, что хозяева не будут возражать, если мы припаркуемся у амбара и проведем там ночь. (На языке кемперистов это называется «беспалевная швартовка»). Когда мы подъезжаем к ранчо, там никого нет. Карл опускает шторы, я включаю генератор, внутри «Минни» горит яркий свет и стоит жужжание, как в промышленном холодильнике. Мы забираемся в постель, пытаемся читать, пытаемся заснуть, но куда там. Мы выключаем генератор, и нас захлестывает льющейся в окна тишиной, и непроницаемая тьма накрывает нас.
– Это самое странное, что я делал в своей жизни, – шепчет Карл. – Как будто мы ночуем в багажнике.
Мы лежим по разные стороны кровати, и, когда ворочаемся, закрытый пластиком матрас похрустывает под нами.
– Пошли наружу, – шепчу я в ответ.
И вот мы на улице, карабкаемся по лестнице на крышу «виннебаго» и растягиваемся на металлической крыше, чтобы посмотреть на звезды. Этой ночью так много падающих звезд, что невозможно избавиться от мысли, что рано или поздно они закончатся. Понаблюдав за угасанием миллионов звезд, мы становимся сонными и спускаемся обратно в нашу кровать.
Ночью меня будит гроза. Каждый раз, когда вспыхивает молния, небо освещается на несколько секунд. Нас раскачивает от грома и оглушает дождем, а затем в стеклопластиковый сайдинг начинает биться град. Как будто Сэнди Коуфакс швыряется персиковыми косточками. В нашем жестяном домике уютно, я переворачиваюсь на другой бок и снова засыпаю.
На следующий день мы едем к Башне Дьявола, чтобы увидеть эту лишающую дара речи странную монолитную скалу. В день, который оказывается жарче, чем ожидалось, мы забредаем дальше, чем планировалось. Мы возвращаемся в «Минни» и едем полчаса, пока не осознаем, что выжаты, истощены. Доползаем до стоянки, включаем генератор, врубаем кондиционер и проваливаемся в коматозный сон. И вот вам Третья великая истина кемпера: где бы вы ни были, вы не более чем в пятнадцати шагах от кровати. При всем моем фундаментальном недоверии к домам на колесах, они сочетают в себе два моих любимых занятия: вождение и поваляшки.
Когда через час я выглядываю в окно, вплотную к нашему дому на колесах припаркован другой, и парнишка, жующий сэндвич за как бы обеденным столом, тоже смотрит в окно. Он машет, я машу в ответ и через несколько минут сажусь за руль и выезжаю с парковки. Теперь, когда я привыкла, вождение уже не так утомляет. Но вот заезжать на заправки тем не менее выматывает. Мы тратим около 50 долларов в день на топливо, и, пока я стою у колонки и смотрю на бегущие цифры, мне приходится напоминать себе, что все это оплачено редакцией. Когда в новостях говорят о зависимости американцев от ископаемого топлива, речь непосредственно обо мне, управляющей «Мин-ни». Война в Персидском заливе велась и была выиграна ради меня.
Поздним вечером мы с трудом находим палаточный лагерь Бэдлендс, где у нас забронировано место, и, когда наконец добираемся, уже совсем темно. Над нами звезды Северной Дакоты – те самые, что не опали прошлой ночью в Вайоминге, – мерцают по всему небосводу. Окошки кемперов, стоящих вдоль тропинок, светятся прохладным телевизионным светом. Дети скучиваются вокруг антимоскитных свечей на столах для пикника. Как будто мы на любой пригородной улице в мире.
Но с первыми рассветными лучами становится ясно, что этот автопарк и близко не пригород. Мы определенно в Бэдлендсе, и бритвенно-острые утесы, возвышающиеся над крышами множества аккуратно припаркованных кемперов, определенно производят эффект. К шести часам солнце светит так же ярко, как и в полдень, и кемперы готовы отправляться дальше. Карл замечает номера штата Теннесси на большом автобусе «Аллегро Бей». Этого ему достаточно, чтобы постучать в дверь. Карл дружелюбнее и храбрее меня, и не в пример лучше разбирается в уходе за большими транспортными средствами. Я все мотаю на ус. В «Аллегро» оказывается пожилая семидесятилетняя пара, а также их дочь и ее муж, тоже из Нэшвилла. Пожилой мужчина находится в процессе опорожнения отстойника для «черной воды» в небольшую металлическую дыру в днище. Я спрашиваю, не тесновато ли это – путешествовать вчетвером в Аллегро. Его зять рассказывает мне, что из Нэшвилла они с женой по воде добрались до Южной Америки, а оттуда переправились в Европу. Путешествие заняло шесть лет. Вот это было тесновато.
Из Нэшвилла по воде до Южной Америки? Такое вообще возможно?
– Сплавляйтесь по реке Тимс-Форд[8], – сказал мне зять. – Как доберетесь до Миссисипи, сворачивайте налево.
До сих пор мы с Карлом вполне себе уживались в «виннебаго», должна это признать. Обсуждаем, а смогли бы мы шесть лет провести в одной лодке. Карл полон энтузиазма. Он думает, мы бы справились. Мы идем на блинный завтрак к кучке столиков рядом с офисом. Через дорогу девочка в ярко-оранжевом бикини снова и снова прыгает в наземный бассейн. Два блинчика за доллар и пять центов. Мы садимся с Родни и Рондой, которые направляются из Миннесоты на моторалли в Стерджисе. На Ронде бра из замшевой ткани, стеганное кожаным шнурком. На ней черные кожаные штаны с длинной бахромой по бокам. Молодая, загорелая, худощавая, с пышными вьющимися золотыми волосами. Родни, который очевидно от нее без ума, выглядит до обидного средненько в своих брюках хаки и рубашке поло.
– Вы байкеры? – спрашивает он.
– Ну какие они байкеры, – говорит ему Ронда. – Посмотри на их волосы. Уж больно свеженькие.
Полагаю, она имеет в виду, что я выгляжу как член команды «виннебаго». Моя кожа не обветрена, а одежда не усеяна дохлыми насекомыми, как у байкеров, я не помята и не загорела, как походники. Моя блузка и ногти чисты. Внезапно я чувствую, что являюсь олицетворением всего того, что мне не хотелось бы олицетворять, – благополучия, семейственности, податливости.
Они спрашивают, не заедем ли мы на моторалли в Стерджисе, и мы, не имея ни планов, ни байков, отвечаем согласием.
– Крутяк, – говорит Ронда, демонстрируя свои ладненькие зубы, свое ладненькое все. – Я вас покатаю.
И вот уже Карл садится на «харлей» позади Ронды. Он убирает руки за спину, она тянется назад и, взяв его руку, кладет ее на свою узкую голую талию, прямо над застежкой штанов. «Держись!» – кричит она, и он держится; а что ему еще остается. Из «виннебаго» на «харлей»: Карл дает деру вместе с Рондой, а я смотрю ему вслед. И чувствую что-то вроде зависти, горечи и гордости тем, какой он у меня смелый. Они удаляются от нас по узкой дороге, в направлении гор в этом великолепном свете. Карл и Ронда. Вот их уже и нет.
Родни качает головой. «Она просто нечто», – говорит он задумчиво.
– Вы пара? – спрашиваю я, зная, что это не так, даже не близко.
– Нет, мы соседи, – говорит он мне, по-прежнему всматриваясь в точку на горизонте, где растворились та, кого он любит, и тот, кого люблю я. – Я вроде как сопровождаю ее в Стерджис. Это слишком долгий путь, чтобы ехать одной.
Он рассказывает мне, что Ронда работает секретаршей в стоматологическом кабинете.
Мы с Родни доедаем блинчики и собираем бумажные тарелки, и в тот самый момент, когда я думаю, что они больше не вернутся, они возвращаются. Карл улыбается всем лицом, слезает с байка, похлопывает Ронду по плечу и идет прямиком ко мне.
– Давай, а теперь ты! – говорит он. Его радость вибрирует в разгоряченном воздухе. Я сижу на скамейке для пикника, парализованная предложением. Карл из тех, кто запрыгивает на байк. Я из тех, кто остается и доедает блинчики. – Энн, – говорит он.
– Она же только приехала, – говорю я, и сама слышу, как дебильно это звучит.
Ронда поддает газу и делает размашистое движение своей загорелой рукой, и я подхожу, сажусь позади нее на байк и обнимаю ее за талию. «Держись», – кричит она мне, и вот уже и нас нет.
Твое транспортное средство полностью определяет твой взгляд на мир. В «виннебаго» мы видим мир из окна нашего дома. Мы смотрим, как он спокойно катится мимо окна нашей машины. Но на байке, позади Ронды, вихляя из стороны в сторону, я становлюсь вон теми лиловыми горами. Асфальтом, небесными пташками. Я помню все о тех двадцати минутах, что провела в облаке развевающихся волос Ронды. Люди готовы умирать на мотоциклах, потому что в такие моменты, как тот, в Бэдлендсе, в Южной Дакоте, они по-настоящему, глубоко живы.
– Он тебя любит, – кричит Ронда, оборачиваясь ко мне.
– Я тоже об этом слышала, – кричу я в ответ.
К тому времени, когда мы возвращаемся в палаточный лагерь, стадо кемперов убралось. Столы для пикника пустуют на травянистых щелях между полосами гравия и песка. Соединительные столбы для воды и электричества торчат из земли, как колонки в кинотеатре под открытым небом. Вместо экрана горы, небо и больше ничего.
Мы прощаемся с Родни и Рондой, говорим, что, возможно, увидимся в Стерджисе, хотя мы так и не увидимся. Мы едем на мотоциклетное ралли в нашем «виннебаго», паркуемся как можно дальше и входим. Мотоцикл, пересекающий национальный парк ранним утром, – это очень красиво. Двести тысяч мотоциклов с прилагающимися к ним двумястами тысячами мотоциклистов – нечто совершенно иное. Через десять минут мои романтические представления о байках сходят на нет, и вновь меня манит наш фургон и обещание пустой дороги.
Наш «виннебаго» – теплое гнездо, плавучая база, и, когда мы возвращаемся с прогулки или пробежки по какому-нибудь маленькому городу, я рада видеть эту огромную китообразную громадину, припаркованную на обочине. Мы становимся экспертами по части стоянок на одну ночь и чувствуем себя превосходно. Мы опорожняем баки с фекалиями под проливным дождем. Мы ночуем в прекрасной тенистой роще в Шеридане. В Коди мы останавливаемся в паршивом кемпинге («Ближайший к родео!»). Но где бы мы ни опустили шторы, где бы ни засунули пакет с поп-корном в микроволновку, это всегда то же самое место. Уходя с родео в одиннадцать вечера, я рада, что не нужно искать мотель или ставить палатку. Рада, что не нужно есть что попало, или распаковывать чемодан, или разводить огонь.
Наконец мы добираемся до Йеллоустоуна – для «виннебаго» это как верхнее течение для лосося. Здесь все друг другу рады – скромный конверсионный фургон припаркован между шикарными моделями с навороченными интерьерами, достойными жены мафиозного босса. Под тянущимися ввысь пиниями мы все братья. К бортам некоторых фургонов приделаны карты Соединенных Штатов и Канады с цветными вставками для каждого посещенного штата или провинции. Под некоторыми навесами есть крытое ковровое наружное покрытие, цветы в горшках и ветряные колокольчики, садовая мебель, чучело медведя, держащего американский флаг. По утрам воздух наполнен запахом яичницы и колбасок. Это как попасть в жилой квартал пятидесятых годов – с добродетельной респектабельностью, такой китчевой, такой очевидной, что нормальным желанием было бы начать надо всем этим потешаться, но я даже этого больше не могу. Я пытаюсь вспомнить, как опустить тент.
На круизной лодке по Йеллоустонскому озеру я знакомлюсь с Пэт, пенсионеркой примерно шестидесяти пяти лет, которая уже восемь лет путешествует в своем «виннебаго». Ее муж умер в прошлом январе, и с тех пор она ездит одна. Когда я спрашиваю, где ее дом, она отвечает, что у нее нет дома. «Дети живут на юге Калифорнии», – говорит она. В этот день Йеллоустонское озеро похоже на открытку – лепные облака, ныряющие скопы. Спрашиваю Пэт, часто ли она бывает здесь, она отвечает, что нет, не была уже давно. Когда здоровье ее мужа ухудшилось, он плохо переживал подъемы. Теперь, оставшись одна, она смотрит на горы. Жизнь коротка, говорит она мне. Из дома на колесах она переедет только в дом престарелых.
В наш последний вечер в Йеллоустоуне мы с Карлом едем вдоль реки Мэдисон и видим купальщиков. Въезжаем на стоянку, переодеваемся и идем к воде. Входим в холодную воду и плывем, отдаваясь течению, пока не чувствуем усталость и голод. Возвращаемся в «Минни» и по очереди принимаем душ. Я готовлю вполне приличный ужин на нашей кукольной кухне, мы моем тарелки, расставляем их и едем дальше.
Виннебаго позволил мне вырваться на свободу. Я плавала в холодных реках, ела блинчики с незнакомцами и сворачивала на сомнительные дороги, не беспокоясь о том, где или когда мне нужно быть. Полагаю, это дало свободу многим людям, старикам и парам с детьми – дома на колесах позволяют сорваться с места и посмотреть, что им может предложить эта страна. Возможно, они не карабкаются по горам, не сплавляются по порогам или не исследуют пустыни, но они в пути. Кто я такая, чтобы говорить, как другим проводить каникулы?
Думаю, Четвертая великая истина кемпера звучит так: они не нравятся только тем, кто никогда не пробовал.
У меня ощущение, будто меня отправили рассказать о вреде крэка, а я вернулась с бутановой горелкой и трубкой. Тайно внедрилась в религиозное сообщество, а вернулась в шафрановых одеждах и с побритой головой. Я влюбилась в мою рекреационную повозку.
И я влюбилась в Карла; ради этого, как теперь понимаю, и стоило все затевать. Широкие просторы Америки, по которым мы проехали в нашем двадцати-восьмифутовом доме на колесах, перезагрузили наши отношения, хотя, возвращаясь в Биллингс и возвращая «Минни», мы оба чувствуем беспокойство. Подходим к торговой площадке, переполняемые идеями. Мы могли бы поехать домой, или поехать в сторону дома и посмотреть, где окажемся. Вот, например, прекрасный тридцатифутовый «Эйрстрим Классик», и на минуту нам кажется, это именно то, что поможет нам остаться в этом состоянии навечно. Но практически вытащив кредитки, мы приходим в себя. Мы знаем, что должны сделать эту работу без дома на колесах, который, в конце концов, не более чем мощный костыль любви. Я знаю, что произойдет, если мы купим «Эйрстрим», что скажут наши друзья. Никто никогда не предложит нам припарковаться у их дома. Мы будем изгнаны из приличного общества. Станем беженцами на дороге. Впрочем, мы бы не возражали.
1998
Теннесси
Мне говорили, что секрет хороших денег, больших денег состоит в том, чтобы найти место на окраине города, где недвижимость перестает оцениваться в квадратных футах и начинает оцениваться в акрах. Идея в том, чтобы купить как можно больше акров и ждать, когда город доберется до вас; затаиться и ждать, когда все эти акры преобразуются в квадратные футы.
Прожив в Нэшвилле большую часть своей жизни, я видела, как эта теория снова и снова вводилась в практику зарабатывания денег. На акрах, где раньше обитали ленивые коровы и пощипывали траву олени, теперь вросли в землю распространившиеся повсюду торговые центры, жилые комплексы и площадки для гольфа. Заросли ежевики выкосили, чтобы освободить место для орошаемых просторов наманикюренной зелени. Коровы, дикая природа, как и городские бедняки, были вынуждены покинуть свои районы и сгрудиться на дальних пастбищах.
Нэшвилл не может похвастаться богатством замысла городского планирования. Милые старые домишки снесены, взамен выросли пугающие многоквартирки, количество машин увеличилось в геометрической прогрессии, семейный бизнес, издав последний писк в жалкой попытке выживания, был поглощен крупными торговыми сетями.
Но, хотя во многих отношениях этот город изменился к худшему, как минимум в одном он стал лучше. Когда я была девочкой, куклуксклановцы маршировали на площади в Мьюзик-Роу[9] по воскресеньям после полудня. Мужчины в белых простынях и белых капюшонах одной рукой махали в сторону вашей машины, а другой удерживали на поводках гигантских немецких овчарок. Мы с сестрой вдавливали кнопки, блокирующие двери, а сами оседали как можно ниже на заднем сиденье. Тех мужчин больше нет, или, во всяком случае, они больше не ходят по улицам при полном параде. Если развитие и модернизация означают избавление от клана, в то время как ужасные кондоминиумы расползаются, подобно древесному лишаю, что ж, давайте поговорим о модернизации.
Было время, когда в Нэшвилле больше ценилось происхождение, нежели личность. (Возможно, в некоторых узких местных кругах это по-прежнему так.) Если ваша семья прожила в штате недостаточно времени, чтобы помнить, что с ним сотворил Линкольн, с вами, возможно, держались бы учтиво, но своим вам было не стать. Я знала это, потому что жила здесь с неполных шести лет. Мы были калифорнийцами, и с тем же успехом могли быть марсианами. Но затем кое-что изменилось: в последние два десятилетия сюда приехало слишком много людей кто откуда, чтобы это по-прежнему имело какое-то значение. Во всей этой неразберихе я и сама стала местной.
Если бы перемены, произошедшие в Нэшвилле за время хотя бы моей жизни, можно было сложить вместе, а потом свести к среднему показателю, я бы настаивала на том, что это место скорее осталось таким, как было, нежели в чем-то изменилось; потому что в то время как Мемфис изменился, и Нэшвилл изменился, и Ноксвилл изменился, штат Теннесси остался прежним. Чтобы это понять, вам стоит отправиться туда, где стоимость земли рассчитывается в акрах. Множество людей сорвали куш на этих сделках, но не дайте ввести вас в заблуждение: гораздо, гораздо больше людей по-прежнему держится за свою землю. И, да, города разрастаются, но здесь они не более чем острова, окруженные океаном диких земель, и земли эти тоже растут. Под парковками у торговых центров продолжает существовать мощная корневая система, и в ту минуту, когда мы перестаем вмешиваться, растения возвращаются. Звучит как метафора. Это не так. При всех своих стремительно развивающихся городах, Теннесси в первую и главную очередь – гигантский котлован с жирной землей под куполом жары и влаги. Его роль – быть не столько родиной музыки кантри и южной кухни, сколько витриной для безудержной растительной жизни.
С моих восьми до двенадцати лет наша семья жила на ферме в Ашленд-Сити, городке недалеко от Нэшвилла. Мы называли ее фермой аристократов, поскольку все, что мы делали с нашими владениями, – это смотрели на них. Дико современный дом, который построил мой отчим, был не более прочным, чем сложенный тетрадный лист. Каждый раз во время дождя грязь в подвале превращалась в жижу и просачивалась под дверь прачечной. На ворсистом ковре в спальне моей сестры за ночь вырастали грибы размером с салатную тарелку, точнее, целые грибные города. Все ведущие наружу двери были заляпаны – с того самого лета, когда построили дом, – и усеяны окаменевшими насекомыми. Мелкий бассейн был до такой степени заселен лягушками, что даже если бы мы день и ночь вытаскивали их из воды с помощью сачка и ничем больше не занимались, они бы там все равно не перевелись. Мы держали двух лошадей – чтобы на них покататься, их сперва было необходимо поймать – и гигантскую свинью, подпадавшую под ту же категорию. (Есть фотография моей сестры, сидящей на этой свинье – колени прижаты друг к другу, как у леди в дамском седле, только вот седла нет.) У нас были карликовые куры, носившие имена членов кабинета Никсона; собаки обладали сверхъестественной способностью съедать именно ту, тезка которой в данный момент выступал перед Уотергейтской комиссией. Помимо упитанных собак, у нас была бесконечная вереница кошек, кроликов, хомяков и канареек, но доминирующей формой жизни были растения, тянувшиеся из нашей невозделанной земли: деревья всех видов – багрянник канадский и лириодендрон тюльпановый, буйные моря белого кизила, все виды кленов, красные и белые дубы, белая акация, красный кедр и массивные деревья черного ореха. Ранней осенью эти ореховые деревья начинали сбрасывать пахучие зеленые орехи размером с бейсбольный мяч, мы спотыкались о них, давили их машиной. Раз в год, поддавшись то ли скуке, то ли оптимизму, мы забывали все, что знали о черных орехах, соскребали с них грязную шелуху и сушили на террасе, полагая, что будем их есть, но их было невозможно расколоть, и вся эта морока приносила лишь жалкий кусочек мякоти. Еще до того, как у нас набиралось достаточно, чтобы приготовить кварту мороженого, появлялись белки и уносили всю нашу добычу.
Мое детство прошло в окружении собак, прокладывавших мне путь сквозь густые заросли, а единственное предостережение, что я слышала от родителей, заключалось в том, что надо остерегаться змей. Но змей я не очень-то боялась. У нас было тридцать семь акров земли – столько места, листьев, коры, стволов, цветов, что казалось маловероятным, что я и какая-нибудь змея окажемся в одно и то же время в одном месте. Это были семидесятые, и я участвовала в бизнесе по оформлению террариумов – выкапывала мох и продавала владельцу цветочного магазина. Земля была моей канцелярией, моей фабрикой, и под сенью бесконечных крон, вооружившись лопатой и обувной коробкой, я шла на работу.
Теперь в Нэшвилле есть «Тиффани», модные магазины одежды, бесчисленные «Старбаксы». Но доберитесь как-нибудь до Ашленд-Сити. Отправляйтесь вниз по Ривер-Роуд, туда, где раньше стояла ферма Тэнглвуд; могу гарантировать, что там ничего не изменилось, разве только дом, возможно, сгнил до основания, а корни деревьев проросли еще футов на двадцать в глубину. Каждый год заросли разрастаются. Дюйм за дюймом подступая к городу.
В Теннесси, с его субтропическим летом и мягкой зимой, практически идеальный климат для любого вида растительности. Привезенные виды цветут рядом с местными. Дольчатая пуэрария прибыла из Японии в конце XIX века как часть наспех сработанного плана по замедлению эрозии почвы. С тех пор она разрослась в непроницаемую паутину на Юге, захватив поля, оплетя билборды, амбары, целые леса. Если оставить ее без контроля – хотя не то чтобы кто-то прямо ее контролирует, – она выведет из строя межштатную систему автодорог. Пуэрария разрослась, но тем Теннесси и славен – взрывным ростом растительной жизни. «Вспомни растения в калифорнийских пустынях, – сказал мне мой приятель-ботаник, и я представила представила суккуленты и цветущие кактусы, которыми редко усеяны песчаные пространства. – Они не могут ни с кем конкурировать».
Растения Теннесси настолько конкурентоспособны, что каждый день – это вечный бой: лиственные деревья загораживают свет кустарникам, а от куста, в попытке это дерево повалить, тянутся усики, насекомые буравят кору, птицы перенаселяют ветви, черви, слепые, как Гомер, пережевывают себе путь к поверхности земли, перемалывая опавшие листья в плотный слой перегноя, которым покрыта земля в лесу. Среди бодрых и здоровых один из бессменных королей в этом стихийном государстве – ядовитый плющ. Он повсюду, от него не избавиться, мы смирились. Ну а что еще нам остается делать? Вожатые лагеря для девочек «Платановые холмы», находившегося меньше чем в пятнадцати милях от фермы, где мы жили, разъяснили все настолько ясно, что у нас не было никакой возможности сказать, что мы чего-то не поняли. «Это ядовитый плющ, – сказали они во время долгого похода жарким днем во время моей второй недели в лагере. Они показали на целое поле, заросшее плющом. – У него листочка три, ты их в руки не бери. В общем, держись подальше».
Вечером в палатке мы обсудили это с Ли Энн Хан-тер, взвешенно и всесторонне, как и подобает одиннадцатилетним девочкам. Мы слышали об этом растении, но ни разу не видели его в деле. Мы были уверены, что эти жалкие три листика – наш билет из палаток обратно в постели. На следующий вечер после ужина мы отправились в лес, к тому самому полю, возле которого нам запретили появляться. Мы бросились туда, как девственницы в вулкан. Катались в листьях. Собирали их. Мы втирали их в волосы, пихали под рубашки, терли ими глаза. Читатель, мы их ели! Что было такого плохого в лагере? Нам было скучно? Нам не нравилась еда? Другой девочке досталась лежанка получше? Этого я не помню. Все, что я знаю, что мы прибегли к яду по принципу Джульетты: чтобы он вырвал нас из неразрешимой ситуации и перенес в счастливую жизнь. Подобно Джульетте, мы просчитались в деталях. Не могу сказать, что больница была хорошим местом, чтобы провести лето, но из лагеря нас забрали.
Жизнь растений, да и жизнь как таковая, – предмет постоянного пересмотра: в одно дерево попала молния, другое повалил ураган. Помню, как наш голландский вяз пал жертвой болезни, уничтожившей его вид, и казалось, пустота, оставшаяся после него, заполнилась в считаные минуты. Даже если на протяжении времени это бесконечное пространство зелени состоит из различных элементов, земля все еще выдает растения быстрее, чем кто-либо может их сосчитать. Полагаю, растения сформировали наш штат в гораздо большей степени, чем люди. Если то, где живут люди, определяется успехом урожая, кто тогда решает, где нам поселиться? Сотни городишек, распростершихся между большими городами, почти не изменились за те годы, что я езжу мимо них. Если на месте голландского вяза вырос серебристый дуб, то, возможно, солярий занял место салона красоты, или гамбургерная превратилась в пиццерию, но, как и в лесу, эти изменения почти незаметны. Люди здесь по большей части бедны. Последней по-настоящему революционной вещью, пришедшей в их дома, было электричество.
В один особенно жаркий летний день, возвращаясь домой из Мемфиса, я решила уйти с автострады и по двухполосному шоссе добраться до Шайло, чтобы посмотреть на знаменитое поле битвы времен Гражданской войны. Насекомые слились в таком высокочастотном гуле, что я слышала их даже через кондиционер, сквозь закупоренные окна моей машины. Мошкара, деревья и я – больше на шоссе никого не было. Десять миль, и ни одной машины, еще двадцать, и снова ничего. Миллионы листьев на деревьях по обеим сторонам дороги были такими плотными и яркими, что я почти слышала, как они растут. И тут я увидела мужчину, стоявшего посреди дороги и размахивавшего руками над головой. Казалось, он пытается посадить самолет. Я остановилась. Воздух над асфальтом разогрелся, наверное, до 43 градусов. Не остановиться рядом с ним было бы равносильно убийству.
На обочине, прислонившись к машине, стояла женщина. Им обоим было за семьдесят. Когда я опустила стекло, мужчина поднес к горлу голосообразующий аппарат. «Бен-зин за-кон-чил-ся», – раздалось из коробки. Я сказала, чтобы они сейчас же садились ко мне, пока не расплавились, – я отвезу их на заправку и верну назад.
Но женщина отказалась ехать. Их обоих быстро укачивало, и на заднем сиденье ни один из них ехать был не в состоянии. У меня маленькая машина.
– Я побуду здесь, – сказала она. – Все нормально. Тут вон тенек.
В общем, пока я везла мужчину до заправки, находившейся за пятнадцать миль, он механическим голосом рассказал мне невыносимо печальную историю своей жизни. Рак гортани. Когда он заболел, его жена ушла, забрав детей. Его вытурили с завода. Пришлось возвращаться в пригород, где он вырос, – возможно, он сможет обрабатывать часть земель своего отца. Тяжелые времена. Хотя новая жена оказалась милой, что немаловажно. После каждой второй фразы он начинал меня благодарить, мне пришлось попросить его перестать. Он сказал, я могу оставить его на заправке, а он поймает попутку в обратную сторону, но за все пятнадцать миль нам не встретилось ни одной машины.
– Я вас отвезу, – сказала я. – Я просто катаюсь по окрестностям и никуда не спешу, – звучало подозрительно, но так оно и было.
Я ждала с ним на станции, хотя он то и дело пытался меня отослать. Он думал, ему попадется машина, идущая в нужном направлении, но никто никуда не ехал; ему ничего не оставалось, кроме как уступить. Он сказал, что согласится, если я позволю ему заплатить мне. Возникла дружелюбная перепалка. Я сказала ему, что, если бы на его месте была я, а такое вполне возможно, он бы ни за что не взял с меня денег. Он неохотно поднес аппарат к горлу и согласился с этим. Я отвезла его назад, туда, где осталась ждать его вторая жена. Когда мы уже попрощались, он всунулся в открытое окно моей машины, положил на пассажирское сиденье пять долларов и тут же отвернулся. Это так сильно ранило мне сердце, как не ранили бы и куда большие горести жизни.
Мне было одиноко, когда я отъехала от них, одиноко, когда я въехала в Шайло за час до закрытия парка. В апреле 1862 года здесь погибло более десяти тысяч человек[10] из армий Союза и Конфедерации. Нужно совсем немного воображения, чтобы увидеть это место таким, каким оно, должно быть, было той весной: кизил, вишни и яблони, цветущие в могучем подлеске, энергию, которая требовалась людям, чтобы пробиться сквозь деревья и выйти на открытое место, где их наверняка застрелят. Погибшие солдаты Союза похоронены на холме с видом на реку Теннесси. Приятное место с прохладным ветерком, веющим от воды. На каждой могиле маленькая белая отметина. За воротами кладбища на металлической табличке установлена копия Геттисбергской речи. Конфедераты похоронены в братской могиле у подножия холма, но по крайней мере они здесь все вместе, они дома. Я не встретила в парке ни одной живой души, кроме смотрителя у ворот. Он попросил меня уйти, когда стемнеет.
Если кто-нибудь скажет вам, что Теннесси уже не тот, предложите ему отправиться в Шайло. Предложите послушать историю кого-нибудь из тех, кого вы подвезете на пути сюда.
Если бы я выросла в большом городе, наверное, могла бы почувствовать разрыв со своей прежней жизнью, могла бы посмотреть на какое-нибудь здание и погрустить о том счастливом дне, когда на этом месте было что-то другое. Но я выросла в Теннесси, подразумеваю под этим сельскую местность, и здесь все остается именно таким, как я помню. Растения здесь законодатели, они сохраняют штат таким, какой он есть. Единственная история, которая их интересует, – их собственная.
2008
Об ответственности
На мне лежит не много ответственности. У меня нет детей, которые должны вовремя быть в школе, надевать ботинки из одной пары и учиться отличать верное от скверного. От меня не зависит благополучие компании, безопасность нации или чье бы то ни было здоровье. У меня есть пара растений, которые я должна поливать. Я стараюсь вовремя платить налоги. Я забочусь о себе, но это не стоит упоминания. По мере возможности я помогаю другим, но подобного рода помощь эти люди могли бы найти где угодно, если бы я, скажем, отправилась в отпуск. Когда думаю о том, за кого действительно отвечаю, то могу сократить этот список до моей собаки и моей бабушки, и так уж получилось, что на прошлой неделе они обе заболели.
Роуз – белая с рыжими ушами и чрезвычайно бдительным хвостом. Она весит семнадцать фунтов, хотя должна бы весить шестнадцать. Два месяца назад у нее на животе появились зловещего вида ранки, из-за чего мне пришлось везти ее к ветеринару. Я давала ей прописанные антибиотики, добавляя их в сырный крем или арахисовую пасту – смотря что было под рукой. Но воспаление не проходило, а затем обострилось оттого, что Роуз постоянно себя вылизывала, и я решила, мы должны вернуться и попробовать снова. Я слышала, в городе есть собачий дерматолог – его лист ожидания расписан на три месяца вперед, но подумала, лучше дать еще один шанс нашему постоянному ветеринару. Я совершенно уверена, что не пошла бы к дерматологу, если бы у меня были прыщи на животе, поэтому не видела причин тащить к нему мою собаку.
Моей бабушке девяносто четыре – всего тринадцать собачьих лет. Она живет в доме престарелых в трех милях от моего дома, в четырех кварталах от ветклиники. Иногда я беру ее с собой к ветеринару, хотя сопроводить в приемную напуганную собаку и практически слепую, крайне смущенную бабушку непросто вдвойне. Впрочем, ей нравится царящее там возбуждение, повсеместный лай и обнюхивание, а еще шанс приласкать Роуз, неизбежно трясущуюся, прижавшись головой к бабушкиной руке. Роуз не любит ветклинику, что было бы слишком очевидно, если бы не тот факт, что кот моей мамы обожает походы к ветеринару. Это его пятнадцать минут славы. По возвращении домой он мурлычет часами при одной мысли, что получил так много внимания.
– Все хорошо, – сказала моя бабушка Роуз на прошлой неделе, потрепав ее уши. – Никто тебя не съест.
Но Роуз, при всей ее неисчислимой мудрости, всего лишь собака, и мы не могли заверить ее, что ничего по-настоящему ужасного не произойдет. Возможно, она думала, что там, за дверью смотровой комнаты номер три, поджидает огромное, пускающее слюни животное, готовое ее проглотить. Она ходуном ходила от страха, втягивая голову и поджимая задние лапы до тех пор, пока не стала размером с грейпфрут. Как я могла объяснить ей, что все это для ее же блага, что я не оставлю ее здесь, что буду защищать ее так же свирепо, как она защищает меня от курьерского грузовика? У нас с Роуз есть свой тайный язык, но в тот раз он нас подвел, и все, что мне оставалось, – гладить ее снова и снова.
Бабушка сказала, что всю неделю не могла избавиться от боли в ноге. Под коленом у нее был синяк – неочевидное место для шишки, – и мы с мамой не спускали с него глаз. Вскоре после того, как мама улетела в отпуск, мне позвонила сиделка из дома престарелых. Бабушке нужно показаться врачу, срочно.
– Мы едем к тебе? – спросила бабушка, когда я затащила ее с внезапно никчемной саднящей ногой к себе в машину.
– Мы едем в больницу, – сказала я. – Твою ногу необходимо показать врачу.
– Да все нормально, – сказала она.
– Все нормально, потому что ты сидишь. Помнишь, как она болела раньше?
– Но сейчас-то не болит, – сказала она.
Ее нога раздулась, как летняя грозовая туча, на сгибе темная, как баклажан, зеленеющая спереди. Кожа стала тугой и горячей. Почему все так резко ухудшилось? После осмотра врач сказал, что кровь слишком разжижилась. У нее было подкожное кровотечение – что все же лучше, чем тромб, – и ее госпитализировали.
Если двадцать минут в приемной ветеринара превратили моего прыгучего сварливого недотерьера в съежившийся грейпфрут, то три дня в больнице погрузили мою милую смущенную бабушку в глухое слабоумие.
– Где мы? – спросила она.
– В больнице.
– Тебе нездоровится?
– Нет, – сказала я, склонившись, чтобы слегка коснуться ее ноги. – У тебя болит нога.
– Я здесь уже была.
– Да. Давным-давно.
– Тогда здесь не было столько кастрюль и сковородок, – сказала она. – И рыжих белок было меньше.
– Это точно, – сказала я.
– А где мы?
– Так ведь в больнице.
– Тебе что, нездоровится?
И так по кругу, часами. Мы оказались за пределами привычного, в месте, где язык совершенно бесполезен. Тем не менее мы не могли замолчать, похожим образом я говорю с Роуз, когда мы ждем в приемной ветеринара. «Все хорошо. Я здесь. Ты прекрасная собака. Свет еще не видел такой славной и симпатичной собачки», – шепчу я ей снова и снова, не переставая поглаживать.
Я не могла позвонить Роуз и сказать, что задержусь в больнице, но и уйти не могла. Я уже выяснила, что вытащить иглу капельницы гораздо проще, чем поставить обратно. Каждые пять минут бабушка опускала ноги на пол: «Пошли отсюда».
Я снова укладывала ее в постель: «Тебе пока не стоит ходить».
– А где мы?
Правильно ли это – рассказывать историю о бабушке и собаке, где персонажи оказываются взаимозаменяемы? Я яростно ухаживаю за обеими. Они любят меня, и поскольку любовь – это все, что они могут дать, она кажется особенно чистой. Я тоже их люблю, но мое чувство проявляется в кормлении, медицинской опеке, поездках на машине, причесывании. По вторникам я отвожу бабушку к себе домой и готовлю ей ланч, и каждый раз она утверждает, что слишком сыта, чтобы доесть свой сэндвич и отдает половину Роуз, которой в другое время не достаются бутерброды, особенно с обеденного стола. Я отворачиваюсь, когда моя бабушка шепчет моей собаке: «Не беспокойся. Она нас не видит». Бабушке жизненно важно хоть кого-нибудь баловать. Моя собака – единственное оставшееся млекопитающее, безусловно заинтересованное в ее компании. Я мою бабушкины волосы в кухонной раковине после того, как вымою посуду, а Роуз сидит у нее на коленях, пока я сушу их и завязываю в узел. Иногда, покончив с бабушкиными волосами, в той же раковине я мою Роуз и вытираю ее тем же влажным полотенцем. Потом они вместе ложатся на диван и засыпают, утомленные прихорашиванием.
А тогда, в больнице я накрыла бабушку белым одеялом.
– Твоя собачка могла бы быть и поприветливее, – сказала она с нескрываемой болью в голосе.
– Чего?
– Она даже поздороваться не зашла.
– Роуз здесь нет, – сказала я. – Мы в больнице.
Бабушка медленно перевела взгляд с окна на дверь, затем обратно. «А», – сказала она, радуясь, что ошиблась. И сжала одеяло в руках.
Три дня спустя ее выписали – нога в норме, хоть и продолжает болеть. Я говорю бабушке, что она была в больнице, но она мне не верит.
Зато Роуз помнит о приеме лекарств. После ужина сидит у кухонного островка, где хранится бутылка, и виляет хвостом. На самом деле она думает только о сливочном сыре, потому что знает: об остальном позабочусь я.