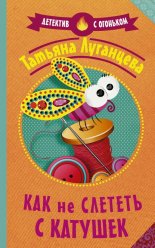Это история счастливого брака Пэтчетт Энн

Опыт, который вы получаете в колледже, делится на два вида. Пассивный и активный. В первом случае вы птенец, сидящий в гнезде с открытым клювом; профессор собирает всю необходимую информацию и вкладывает ее вам в глотку. Это может быть приятно – в конце концов, вы жаждете этой информации, – но ваша единственная роль состоит в том, чтобы принять то, что вам дают. Запомнить факты и позже повторить их на зачете: это обеспечит хорошую оценку; но это не то же самое, что интеллектуальное любопытство. Во втором случае вы учитесь находить информацию и составлять о ней собственные суждения. Вы учитесь задаваться вопросами и действовать. Вы понимаете, что одного ответа недостаточно и вам придется отыскать столько источников, сколько вообще возможно, чтобы из разрозненных частей сложить картину целого. В «Правде и красоте» я не поведала окончательную правду о жизни моей подруги, потому что это в принципе невозможно. Я рассказала одну из версий ее запутанной жизни. Она сама рассказала другую, ее семья рассказывает третью, ее читатели рассказывают что-то свое. Каждый добавляет к этой мозаике фрагмент цвета, и именно так начинает вырисовываться большой и объемный портрет.
В старших классах я ненавидела школу. Сидя на уроках, мечтала, как выпрыгиваю из окна на втором этаже и бегу, бегу, пока окончательно не теряюсь из вида. Отчасти это было связано с моим неприятием образовательного метода «один вопрос – один ответ – хватит об этом», который считался подходящим для южных девочек в католической школе. Отчасти я чувствовала себя непонятой, одинокой и затравленной – достаточно распространенное ощущение среди подростков. Когда мы с Люси стали подругами и проводили вечера за разговорами о нашем несчастливом детстве, она была взбудоражена тем, что я тоже ненавидела старшую школу. Для нее это было чем-то вроде связующего звена, тем важным, что нас объединяло. Я, в свою очередь, чувствовала юношеский экзистенциальный ужас перед лицом того, что пришлось пережить ей. Конечно, она ненавидела школу – дикие насмешки, ощущение себя изгоем. Когда она пожаловалась учителю, что никто из детей не хочет сидеть с ней во время обеда, он ответил, что она может взять свой сэндвич и съесть его у него в кабинете – что она и сделала; делала годами. Но даже несмотря на то, что обстоятельства нашей жизни решительно разнились, эмоциональные последствия были более-менее схожи. Мне это невероятно помогло, когда я начала писать прозу. Возможно, я не пережила того, о чем писала, но скорее всего в какой-то момент жизни испытывала те же эмоции.
Есть нечто неотвратимое в том, чтобы выступать перед первокурсниками. Вас согнали в эту аудиторию, вы здесь еще не освоились, вы, вероятно, в большей степени открыты для совета в этот самый момент вашей жизни, чем будете через месяц, или в конце семестра, или четыре года спустя, когда выпуститесь отсюда. Обе книги – «Автобиография лица» и «Правда и красота» – о том, сколько сострадания нужно, чтобы двигаться по жизни. Также это книги об истинной ценности дружбы. Когда вы забудете лекции, которые посещали, книги, которые прочли, учебные работы, которые написали, вы будете помнить ваших друзей. Некоторые из самых важных людей в вашей жизни сидят сегодня вместе с вами в этой аудитории, и, вполне вероятно, вы еще не знакомы. Но у вас есть время. Время – самый ценный дар, когда дело касается дружбы. Вы будете вместе обедать, вместе учиться; возможно, вы будете спать в одной комнате. Вы будете тратить время друг на друга. Вы обнаружите, как много вас связывает, и при этом успеете каталогизировать все ваши различия. Не стоит недооценивать жизненную необходимость дружбы, потому что именно это будет поддерживать вас в дальнейшем, когда времени станет значительно меньше.
После выхода «Правды и красоты» я получила сотни писем, которые в целом можно свести к двум категориям. В первом случае люди говорили, как они сочувствуют моей утрате, потому что у них тоже есть лучший друг, и они не представляют, как прожить без него, без нее. Письма второй категории тоже были сочувственными, но это сочувствие было замешано на печальном недоумении. Эти люди писали, что в их жизни не было близких друзей, и, хотя я потеряла лучшую подругу, по их мнению, мне повезло больше, чем им, ведь у меня в жизни была возможность любить кого-то столь сильно. И те и другие были правы.
Некоторые говорили, что не хотят читать «Правду и красоту», потому что, по их мнению, она окажется слишком грустной, но по большей части это вовсе не грустная книга. Печально, что Люси умерла, еще печальнее, что она умерла такой молодой, но правда в том, что всякой жизни приходит конец. Качество жизни измеряется не ее длиной, но ее глубиной, тем, что человек сделал и чего добился. Оно измеряется нашей способностью любить. В этом смысле Люси идеально распорядилась жизнью, что была ей дана. Она сражалась с чудовищной болезнью. Она написала две очень хорошие книги. И у нее было больше друзей, больше глубоких и длительных отношений, чем у любого, кого я когда-либо знала, и это не худший список достижений за тридцать девять лет.
Я написала эту книгу, потому что скучаю по моей подруге и хочу, чтобы все остальные скучали по ней и любили ее так же сильно, как я. Мне хотелось воспеть достоинства дружбы – нашей дружбы в частности и дружбы как таковой. Я хотела побудить людей задаваться вопросами, и это в точности то, что сделала бы Люси. Спасибо, что пригласили меня сегодня. Я желаю вам и вашим друзьям хороших четырех лет в колледже.
Моя карьера в продажах
Это история о странствующем торговце, и начинается она в баре, расположенном в дальнем углу лобби отеля в Мобиле, штат Алабама. Возможно, это был «Хайятт», но может быть и нет. Моя память способна разделить отели только на три категории: отвратительные, вполне себе миленькие и «возможно, «Хайятт». В чем я уверена, так это что в баре отеля со мной также сидели Аллан Герганес и Клайд Эдгертон; был последний день конференции Ассоциации юго-восточных книготорговцев. Мы выпивали и разговаривали о книжных турах. У каждого из нас недавно вышла или готовилась к публикации книга, и каждому вскоре предстояло отправиться в путь. Ни одному из присутствующих эта перспектива не была по душе.
– Надо пить больше воды, – сказал Клайд и вытащил из сумки бутылку «Эвиан», чтобы подчеркнуть свою мысль. Он считал, причина, по которой последний тур дался ему особенно трудно, заключалась в обезвоживании (все время в самолетах). По мнению Клайда, именно нехватка воды в организме привела его к длительному приступу постгастрольного уныния. Тогда мы обсудили постгастрольное уныние – неожиданный компаньон уныния гастрольного. Из нас троих лишь Аллан был настроен оптимистично. «Единственное, что может быть хуже книжного тура, – сказал он, – это не поехать в книжный тур».
На прошлой неделе я написала Аллану и спросила, помнит ли он тот разговор, и, если да, правильно ли помню я сама, что дело было в 1994-м? Он ответил: «По-моему, это был 1992-й, я был в туре с «Белыми людьми». Рассказы о войне, мили по стране. Я не пил до этого тура». Клайд сказал, что тоже помнит тот разговор: «…хотя мне казалось, это был тур 1997-го или 98-го года, когда я то и дело пил воду и медитировал, чтобы избежать депрессии». Сама я была в книжных турах в 1992, 1994 и 1997-м (ну и 2001, 2002 и 2007-м, раз уж на то пошло), так что возможно и то, и другое, и третье. Туры, как и отели, постепенно сливаются в один. Книги, города, магазины, аэропорты, толпы, отсутствие толп – все сводится к рубрике «Что произошло, пока меня не было». Что я всегда помню ясно, – времена, когда я смотрела на других писателей, подобно тому, как первопроходцы, катившиеся сквозь прерии в своих крытых фургонах, наверное, запоминали каждую деталь из жизни других поселенцев, встречавшихся им на пути, косивших высокую траву под необычным углом. «Ну и как вы тут?» – выкрикиваешь ты со своего деревянного насеста.
– Тяжко, – отвечает твой брат-поселенец и упреждающе поднимает бутылку «Эвиан». – Пей побольше воды.
Что я и делаю. Причина, по которой я так усердно следую совету Клайда и повторяю про себя, как мантру, слова Аллана, заключается в том, что это единственные наставления, которые я получила касательно этого столь важного аспекта моей жизни. Даже в суперпрофессиональной Писательской мастерской при Университете Айовы, где я училась в середине 1980-х, нет семинара, посвященного книжным турам, хотя мысль о том, что у них такой в принципе может быть, пугает не меньше. Иногда лучше не знать, что ждет впереди.
Когда в 1992-м вышел мой первый роман «Святой покровитель лжецов», мне сказали, что рекламный бюджет будет скромным. Конечно, я могла грамотно растянуть бюджет: перемещаться на машине, а не самолетом, останавливаться в дешевых отелях, экономить на еде, свести к минимуму междугородные телефонные разговоры и таким образом охватить больше книжных магазинов. Подобно новобранцу, впервые явившемуся на службу, я вытянулась по стойке «смирно». «Разумеется», – сказала я. В конце концов, речь шла о моей книге, физическом воплощении моих мечтаний. Я была готова на все, чтобы помочь проложить ей дорогу в большой мир. Пиарщик в «Хоуфтон Мифлин» составил мне маршрут. Я должна была посетить около двадцати пяти городов, уложившись в 3000 долларов. С одним приличным платьем в багажнике я отправлялась в Чикаго, находила ближайший к книжному «Макдоналдс», переодевалась в туалете (говорите что хотите о еде, но уборные у них отменно чистые), ехала в магазин и представлялась человеку за прилавком. Это было труднее всего: подойти к незнакомцу за кассой и сказать, что в семь часов у них запланировано мероприятие со мной. Мы смотрели друг на друга без малейшей надежды и оба понимали, что никто не придет. Бывало, заходили двое-трое, иногда пять человек (иногда это были сотрудники магазина), но чаще всего в городах, где у меня не было родственников, чтобы собрать небольшую компанию, я бывала одна. В те дни я была внештатным автором «Брайдал Гайд», а в магазине, как правило, работала какая-нибудь обрученка. И вот мы с ней садились и говорили о выборе платьев для подружек невесты и цветочных композициях, пока мое время не истекало; затем она просила меня подписать пять экземпляров книги – про запас. Это, как мне говорили, своего рода трюк, поскольку подписанные копии не возвращались издателю, так что они были вроде как заранее проданы. (К сведению: это неправда. Я самолично вытаскивала из запечатанных коробок якобы нетронутые копии моих книг и обнаруживала внутри собственную подпись. Кто-то отсылал их назад.) Впрочем, это не имело значения: пиарщик сказал мне, что успех книжного тура измеряется не тем, сколько экземпляров вы продали в тот или иной вечер. От меня требовалось быть приветливой, чтобы понравиться кассирше и, возможно, администратору, чтобы они прочли мою книгу, когда я уеду, увидели, как она хороша, и впоследствии месяцами, а то и годами советовали ее покупателям. И я поверила, потому что иначе у меня не было бы ни малейшего представления о том, что я здесь, собственно, забыла. Тепло распрощавшись, я выходила из магазина в потемках, вновь проезжала пару кварталов до «Макдоналдса», переодевалась и пару часов ехала в сторону Индианаполиса, где должна была выступать следующим вечером ровно в семь. Я была вымотана и растеряна, и все же говорила себе, что это стоящий опыт, ведь я была дружелюбна, и поэтому меня запомнят.
И, как знать, может, так оно и было. Когда я продвигала мой пятый роман «Бег», то стабильно собирала по двести человек за вечер. Пока мои терпеливые читатели стояли в очереди, ожидая автографа, я впервые осознала, что книжный тур – не просто жест доброй воли. Он реально поднимает продажи.
В издательских сказаниях – торговом эквиваленте городской легенды – нередко упоминается Жаклин Сюзанн, которая первой решила, что автор должен не только писать книги, но и лично их представлять. Вместе со своим мужем Ирвингом Мэнсфилдом она появлялась в магазинах по всей стране, чтобы подписывать копии «Каждый вечер, Жозефина!» (книжки о ее пуделе). К моменту выхода «Долины кукол» она была частым гостем в телеэфирах Мерва Гриффина, а ее рекламный график позволял книге занимать первую строчку в «Нью-Йорк Таймс» на протяжении двадцати восьми недель.
Подписывать книжки в магазинах – это одно, а вот книжный тур в его нынешней продвинутой модификации считается заслугой Джейн Фридман, до недавнего времени бывшей генеральным директором «Харпер Коллинз» (моего нынешнего издателя). В двадцать два года она устроилась пресс-агентом в «Нопф», где ей поручили продвигать второй том «Осваивая искусство французской кухни» Джулии Чайлд. Шоу Джулии с успехом шло на бостонском общественном телевидении, и Джейн решила связаться со всеми общественными каналами на рынке. После этого она запланировала выступления в больших универмагах (в 1970-м там были впечатляющие книжные отделы). «Я сказала: я привезу Джулию в ваш город, она выступит на местных телеканалах, о ней напишут в газетах, а затем устроим автограф-сессию в универмаге».
Далее последовал самый настоящий медиашторм, поднявший продажи, и это задало золотой стандарт, которого пиарщики придерживаются до сих пор. Магазины пестрели объявлениями. Города гудели ожиданием. Ничто не было оставлено на волю случая. Во время первой же запланированной остановки в Миннеаполисе, в семь тридцать утра Фридман выглянула из окна своего номера и увидела тысячу женщин, выстроившихся перед универмагом. «Это был момент успеха в его голливудском понимании, – вспоминает она. – Мы разверзли воды Красного моря. Джулия приготовила майонез в блендере – продано пятьсот копий». Город за городом формула продолжала срабатывать: Джулия ловко разбивает и взбалтывает яйца, женщины выстраиваются в очередь, чтобы купить книгу. Любой современный писатель, кроме разве что Стивена Кинга и Джона Грише-ма, может почувствовать подергивание нижней губы при одной только мысли об этих цифрах. «Сегодня на шоу «Сегодня» у тебя панельная дискуссия с шестью другими авторами», – говорит Фридман, и внезапно оказывается, что говорит она это как мой издатель. Гендиректор, в котором не умер пресс-агент, наставляет меня по поводу моего следующего шоу. «Связь между писателем и читателем не ослабла. А то и сильнее стала. Люди, что приходят на встречи с тобой, – это настоящие фанаты Энн Пэтчетт. Рада, что все получилось. Именно этого я и добивалась».
По поводу моих собственных намерений я не столь уверена. Мне никогда не избавиться от мелочной веры, что в книжном туре есть нечто изначально неправильное, что сама идея об авторе, продающем свои книги, в корне неверна. Большинство из тех, кто способен сидеть в одиночестве день за днем, год за годом, заполняя пустоту печатными буквами, вероятно, по определению не способны работать с аудиторией так же хорошо, как политики (хотя я, например, не боюсь публичных выступлений и они неплохо мне удаются). Мы – страна, одержимая знаменитостями, и все попытки переделать писателей в уменьшенные копии Линдси Лохан не дают ничего, кроме поощрения и без того пагубной культурной привычки. Неважно, что нам говорят в книжных клубах, чтение – сокровенный акт, не касающийся даже того, кто написал книгу. Когда роман опубликован, автор остается в стороне. У читателя и книги теперь свои собственные отношения, их следует оставить наедине. «Мне нравится слушать, как вы читаете», – сказала недавно женщина, подошедшая после чтений за автографом. Он рассказала о своей любимой писательнице, которой зачитывалась годами. Но когда она услышала ее голос, все переменилось. «Это был кошмар. С тех пор я не открывала ее книг». Я сказала ей с немалым пристрастием, что та женщина, та писательница – не важна, о ней следует забыть.
– Любите ее книги, – сказала я. – Ее саму вы любить не обязаны.
– Я понимаю, – ответила она. – Я все понимаю, но теперь не могу перестать слышать ее голос.
Голос автора – не единственное, что способно сбить с толку. Отвечая на вопросы читателей, я, вероятно, могу прояснить сомнительную концовку моего романа или туманные мотивы персонажей, но кто сказал, что я буду права? Ценность написанной книги в том, что все решения теперь принимает читатель, и мои подсказки ни к чему.
Конечно, книжный тур – это не только месяц жизни на чемоданах, перекусов в аэропортах и въезжания лбом в стену, потому что забыла, где находится ванная комната (со мной это случалось дважды). Это, если вам очень повезло, мучительное повторение интервью. Я могу трижды выступить на радио, на девяносто секунд появиться в полуденном эфире местного телеканала, дать два телефонных интервью двум газетам, и все это до того, как приеду на встречу в книжный. Если правильно распределить время, я и в подкасте могу успеть записаться. Девяносто пять процентов вопросов всегда одни и те же. Другого я и не жду. Но когда в двадцать девятый раз я оказываюсь в стеклянной будке с микрофоном и наушниками и кто-нибудь спрашивает: «Так откуда все-таки к вам пришла идея этого романа?» – что-то внутри меня надламывается. Мне хочется прокричать: «Это роман о вас. Я много лет крала вашу личную переписку». Вместо этого я вызываю моего внутреннего Лоренса Оливье и пытаюсь играть роль романиста. В конце концов, были годы, когда никто не хотел брать у меня интервью, и годы, когда интервьюеры общались со мной, даже не заглянув в мой роман. (Это всегда известно наперед, если первый вопрос звучит так: «Давайте поговорим об этой замечательной обложке».)
Если не брать в расчет непреходящий успех Джейн Фридман и Джулии Чайлд, продажа книг – не такая уж большая наука. Хотя вы вроде как продвигаете новый роман, тур в конечном счете всегда оказывается посвящен вашей предыдущей книге. Той, что люди уже прочли, и теперь хотят о ней поговорить. Если это, конечно, не ваш первый тур, когда о вашей книге вообще никто не слышал и говорить о ней не с кем. Об этом мне недавно напомнила колонка в нашей местной газете «Теннессиец». Автор припомнил мое первое появление на тематическом ужине «Автор-и-книга» в Нэшвилле в 1992-м, во время которого я сидела одна за столом для автографов, в то время как у других собрались толпы: Рики Ван Шелтон (сладкоголосый кантри-трубадур, написавший детскую книгу), Жанет Дейли (авторка популярных дамских романчиков) и Джимми Баффет (без комментариев). Редактору газеты стало так меня жаль, что он подрядил двадцать пять человек из своей команды купить мою книгу, встать в очередь и получить автограф, о чем в последующие пятнадцать лет я не догадывалась, пока не прочла об этом в газете. Всем этим послушным сотрудникам стоимость книги впоследствии была возмещена.
Несколько человек, которые все же прочли «Святого покровителя лжецов», пришли послушать меня, когда я представляла мою вторую книгу «Тафт». Затем читатели двух этих книг приходили на встречу со мной, когда я приезжала в их город, чтобы представить мой третий роман «Прощальный фокус». Читатели «Фокуса» собрались, когда я приехала с «Бельканто». В этом туре было много слез. В сумочке у меня были наготове салфетки. Люди хотели поговорить о смерти иллюзиониста Парсифаля и о том, что стало с его ассистенткой Сабрин. До Роксаны Косс, всемирно известной оперной певицы, оказавшейся заложницей в неназванной южноамериканской стране, никому не было дела. О ней все хотели поговорить шесть лет спустя, когда я вернулась с романом «Бег».
Иногда я думаю, что мне стоит сложить мои романы в чемодан с двумя секциями: дорогие новые издания в супере с одной стороны, а те, что поменьше и помилее, в мягких обложках, с другой, и просто ходить от двери к двери по какому-нибудь кварталу Сент-Луиса. Если кто-нибудь захочет, чтобы я остановилась посреди тротуара и почитала вслух, я почитаю. Если кому-то понадобится, чтобы я завернула книгу в праздничную подарочную упаковку, я заверну. Если кто-то захочет поплакать у меня на плече, я обниму. Эти, скажем так, личные продажи, доведенные до совершенства продавцами косметики и энциклопедий, казалось, действовали по более надежной формуле, чем маркетинговые схемы издательств. Даже когда моя читательская аудитория немного разрослась, – к моменту выхода «Прощального фокуса» их число колебалось от пятнадцати до двадцати пяти, – я по-прежнему летала через полстраны, чтобы посидеть в комнате с пустыми стульями. Кто же знал, что мои чтения в Чикаго совпадут с игрой плей-офф НБА (в те дни, когда это еще что-то значило), или что в тот же день Итан Хоук будет читать свой новый роман на Техасской книжной ярмарке в соседнем павильоне со мной? Мне никогда не было сложно и для трех человек почитать. Опыта у меня предостаточно. Секрет в том, чтобы все сели как можно ближе.
Сам собой возникает вопрос: почему бы просто не остаться дома? Поверьте, я сама неоднократно им задавалась, по большей части в темных гостиничных номерах, когда в полпятого утра начинал звонить будильник и мне нужно было спешить в аэропорт. Ответ отчасти состоит в том, что книжный тур прописан в моем контракте; продажи – часть моей работы. Но гораздо важнее то, что я верю Аллану Герганесу. Смотреть, как книга чахнет на полке, – гораздо хуже, чем воспользоваться шансом побороться за ее успех. Рынок огромен, переполнен и захайпован, он требует читательского внимания. Книга, весящая не сильно больше фунта, не имеющая разъема для подключения, имеет право на всю возможную помощь. Я знаю немало писателей, чьи издатели из-за нехватки то ли средств, то ли уверенности не отправляют их в туры. Не знаю ни одного, который не ухватился бы за такую возможность.
Джейн Фридман говорит, ей важно, чтобы тур был успешным для автора, а это значит посылать в тур стоит людей, у которых есть сложившаяся армия поклонников. Дни, когда новоиспеченного романиста бросали в воду и смотрели, сможет ли он выплыть, прошли. Процесс слишком дорогой и слишком энергозатратный, чтобы повторять те туры, которые пережила я в начале девяностых. И все же я задаюсь вопросом, кем бы и где бы я была без этих выматывающих обязательных поездок. Это было бы равноценно тому, чтобы сразу выступать на Бродвее без долгих лет, проведенных в варьете, где я бы в прямом смысле собирала свое искусство по частям.
Однажды поздним вечером после выступления в Вашингтонском кафедральном соборе я заканчивала подписывать экземпляры моего романа «Бег». К столу подошли женщина с девочкой лет шестнадцати, хотя, возможно, и меньше.
– Уже очень поздно, а завтра кому-то в школу, – сказала я.
– Когда она доберется до постели, будет гораздо позже, – ответила ее мать. Девочка стояла и потупив глаза. – Нам еще обратно в Западную Вирджинию четыре часа ехать. – Женщина расплылась в улыбке. В конце концов, она была матерью, и очень гордилась тем, что сделала для своего ребенка. – Я знала, что сегодня она услышит от вас нечто, что ей необходимо услышать, что-то, чего она никогда не забудет, – и была права. Вы ее самая любимая писательница. Она тоже хочет посвятить жизнь литературе.
Как же мне хотелось подарить что-нибудь этому ребенку – амулет или золотой компас, – чтобы показать, как сильно я в нее верю. Она ничего мне не сказала, я обняла ее за плечи, чтобы ее мама нас сфотографировала. Я написала ее имя рядом с моим в ее копии моей книги. Я поблагодарила их обеих за то, что они приехали, но не было никакой возможности отблагодарить их в достаточной мере. Было поздно, за их спинами стояли люди, ожидавшие автографа, а им самим предстояла дальняя дорога.
2008
«Любовь между этими двумя какая-то не такая»
Новость о том, что я распространяю порнографию, первой сообщила мне моя сестра Хизер в середине июля прошлого года. Она живет в Спартанбурге, штат Южная Каролина, и эту информацию почерпнула из двух газет – «Гринвилл Ньюс» и «Спартанбург Херальд-Джорнал». Она не смотрит телевизор, но кто-то из друзей прислал ей ссылку на новостной материал местного телеканала, и она посмотрела в компьютере. А затем переслала мне с припиской: «Хочешь посмеяться?»
Поскольку мое появление в Клемсоне было запланировано на конец августа, у меня оставалось пять недель, чтобы решить, хочу я смеяться или нет.
Дело в следующем: Университет Клемсона, расположенный в крошечной одноименной деревушке в Южной Каролине, задал первокурсникам прочесть за лето мою книгу о нашей дружбе с писательницей Люси Грили «Правда и красота». Подобные читательские программы сегодня не редкость. Сама по себе идея восходит к книжным клубам, где книга часто оказывается не более чем предлогом встретиться с друзьями. С тех пора как Опра превратила книжный клуб во всенародное развлечение, целые города стали выбирать и вместе читать какую-нибудь одну книгу, для старшеклассников и первокурсников одна на всех книга была призвана стать средством сближения. Образуются дискуссионные группы, назначаются доклады, а затем, если все сложится, приглашают и автора – выступать перед читателями, подписывать книги, улыбаться и махать.
Мне это знакомо. Я бывала на общегородских чтениях, на университетских чтениях, на чтениях, организованных книжным клубом какой-нибудь радиостанции, – и как прозаик, и как мемуарист. Для автора это хорошо: книги активно продаются, а та часть аудитории, которая в другом случае о вас бы и не вспомнила, начинает интересоваться, что еще вы написали. Мой предыдущий обширный опыт работы с книжными программами «одна-на-всех» – как общественными, так и академическими, – был неизменно положительным, поэтому, когда члены администрации и преподаватели Клемсона проголосовали за «Правду и красоту» примерно за десять месяцев до конца августа, я согласилась присоединиться, сделала пометку у себя в календаре и забыла об этом.
Я вернулась к компьютеру и еще раз посмотрела новостной ролик. Репортер размахивала моей книгой перед камерой, будто это окровавленный нож. «Вот эта книга, – сказала она. – И по мнению как минимум одного родителя, ничего красивого в ней нет».
Родителем оказался Кен Уингейт, выпускник Клемсона, адвокат, член комиссии штата Южная Каролина по высшему образованию. Никто из его детей в том году в Клемсон не поступал, однако среди зачисленных были две его племянницы и племянник. В новостях он высказывал свою озабоченность выбором комитета по летнему чтению. «В этой книге весьма наглядно рассказывается о порнографии, фетишах, мастурбации, беспорядочных половых связях… Она изобилует упоминаниями секса и антирелигиозными сентенциями. Студентов фактически призывают и поощряют к исследованию собственной сексуальности».
Затем на экране появилась сонная студентка, которую, похоже, остановили и стали расспрашивать по дороге в аудиторию. Сама она училась на третьем курсе, но ее младший брат только поступил. «Я слышала, что есть девушки, которые употребляют наркотики и занимаются сексом в юном возрасте, – сказала она с ярко выраженным южнокаролинским акцентом. – Нехорошо про такое читать».
В интервью «Гринвилл Ньюс» мистер Уингейт пошел еще дальше. «Я ни в коем случае не против Клемсона, – говорил он. – Более того, я люблю мой университет, потому и влез в этот коллектор: прочел книгу и теперь искренне ратую за идею выбрать что-нибудь еще, потому что забивать головы первокурсников вот этим – ну, извините, вообще ни в какие ворота».
– Он назвал меня коллектором? – спросила я сестру.
– Скорее книгу, – сказала Хизер. – Или даже обстоятельства в целом. Но нет, не тебя, не думаю.
Как бы то ни было, началась настоящая битва, целью которой было уберечь молодежь Клемсона и, полагаю, остальных жителей Южной Каролины – от меня. Кен Уингейт проиграл выборы в сенат штата и на пост губернатора (в 2002 году на праймериз он набрал в общей сложности четыре процента голосов) и теперь обратил все свое внимание на меня. Чтобы избавить родителей первокурсников и других неравнодушных граждан от перспективы путешествия по сточной трубе, которое он пережил сам, Уингейт разместил на сайте отрывки из моей книги: каждый случай использования нецензурной брани, каждое упоминание частей тела и того, как они функционируют, названия всех фармацевтических препаратов и наркотиков, фигурирующих в тексте, не остались без его внимания. Таким образом граждане могли получить полное представление о моей книге, не обременяя себя ее чтением.
Не то чтобы это как-то особенно меня шокировало. Я живу в Теннесси. «Обезьяний процесс» над Скоупсом[16] проходил именно здесь. Я не была знакома с Кеном Уингейтом, но подобных ему людей встречаю всю свою жизнь. Тем не менее его внимание раздражало. Одно дело быть обвиненной в преступлении, которое ты совершила, но когда тебя обвиняют ошибочно, это несколько обескураживает, а я считала обвинения беспочвенными.
Уж если с «Правдой и красотой» что не так, дело скорее в том, что там слишком много сиропа. Аудитория этой книги – преимущественно старшеклассницы. В 2005 году ее отметили премией Американской библиотечной ассоциации именно за то, что она была признана одной из десяти взрослых книг, наиболее подходящих для подростков. Это моя личная история, рассказ о том, как мы с Люси познакомились в колледже, стали подругами в магистратуре и как обе пытались проложить себе путь в литературу. Люси, потерявшая часть челюсти из-за последствий рака в возрасте девяти лет, годами подвергалась химиотерапии и облучению. В течение жизни она перенесла тридцать восемь восстановительных операций. Она была выдающейся личностью, яркой и сложной, требовательной и одаренной. Она была способна на огромную любовь и нежность и обладала даром претерпевать невероятные страдания. Она была моей лучшей подругой на протяжении семнадцати лет. Когда в тридцать девять она умерла, я написала книгу о нас. Написала, чтобы увековечить ее память, чтобы оплакать ее и чтобы продлить жизнь ее грандиозным мемуарам «Автобиография лица», раз уж я не могу продлить жизнь ей самой. Это была история геракловых усилий, направленных на то, чтобы пережить трудности и быть другом. Даже если определенные детали наших жизней были грязными, они – не содержимое канализационных труб.
Мои нью-йоркские друзья предлагали поехать в Южную Каролину вместе со мной, ожидая, что я несомненно выиграю гладиаторский бой. Друзья из Теннесси читали черновики моей речи и стонали при виде растущей стопки газетных вырезок. Моя подруга из Миссисипи пыталась меня отговорить. «Отмени мероприятие, – говорила она. – Отмени, отмени, отмени». Жители Миссисипи предпочитают не геройствовать перед лицом мракобесия коренных южан.
– Я никогда ничего не отменяю.
– Все когда-то бывает в первый раз.
В Клемсоне поднялся шум и хай – стараниями наспех организованной группы обеспокоенных родителей, которые прочли все пикантные подробности в интернете. Они не только призывали отменить программу или, по крайней мере, подобрать более подходящую книгу – «Убить пересмешника», скажем, но также, судя по всему, хотели, чтобы мне запретили появляться на территории кампуса.
«Как минимум, – писал один из выпускников президенту университета, – я верю, что петиция будет немедленно одобрена, а визит автора в Клемсон отменен. Иначе позор и вам, и всему университету».
В статье, опубликованной в «Андерсон Индепендент-Мейл» под заголовком «Протестующие: «Правде и красоте» не хватает красоты», автор писал: «В книге прослеживаются явные лесбийские отношения между мисс Пэтчетт и мисс Грили». Далее в статье цитировались слова семнадцатилетней первокурсницы, присоединившейся к протесту. «Дружба и любовь, изображенные в книге, – тот еще пример для подражания, – говорила она. – Любовь между этими двумя какая-то не такая». Репортер и семнадцатилетка наконец-то решились сказать то, на что всем остальным не хватало яиц: мы с Люси, судя по всему, занимались сексом. Только этим, оказывается, можно объяснить нашу любовь, верность и преданность. Секс был платой за трудные отношения – без секса все это вообще не имело смысла.
По пути в Клемсон я заехала в Спартанбург за сестрой. «Если бы речь шла о парнях, которые познакомились в колледже и пронесли свою дружбу через секс, наркотики и болезнь, получилась бы «Песня Брайана», – сказала она мне в машине. – Историю превратили бы в классный телефильм, а в честь тебя назвали футбольный стадион».
Мы надеялись, что конфликт исчерпает себя, как летняя гроза, еще до моего приезда. Но куда там. Мистер Уингейт продолжал транслировать свое отвращение и разочарование через газеты, а накануне моего приезда разразился пресс-конференцией прямо на территории кампуса. Выдержки из всех негативных отзывов, оставленных читателями «Правды и красоты» на «Амазон», распечатали на флаерсах и раздавали прохожим, ну а для тех, кому не хватило бумажек, цитаты также разместили на сайте местной религиозной организации под заголовком «Не только дифирамбы». Помимо этого, любой посетитель этого сайта мог ознакомиться с руководством для читателей моей книги, подкрепленным тезисами из Библии. Местная газета заявила, что к сорока протестующим родителям, дедушкам и бабушкам, а также выпускникам присоединились семь студентов.
– То есть не так уж и много, – сказал мне декан. Едва я приехала, меня от греха подальше укрыли в его кабинете. – И большинство из них приехали с Уингейтом.
Тем не менее людям в деканате, так усердно добивавшимся моего появления, явно было не по себе. Очень не по себе.
– Он выкупил целую рекламную полосу в газете. – Один из сотрудников нехотя протянул мне утренний выпуск «Гринвилл Ньюс». Рекламодателем значилась организация «Апстейт Элайв», о которой я ни разу не слышала.
Сверху большими оранжевыми буквами было написано: КЛЕМСОН: учебное заведение или клуб по интересам?
«Программа летнего чтения Университета Клемсона это:
1. Нарушение академической свободы выбора, потому что это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ чтение.
Отказ невозможен, что лишает студентов выбора и компрометирует образ нашего университета как «рынка идей»…
2. Нарушение политики университета в том, что касается сексуальных домогательств, поскольку сексуальные домогательства в отношении преподавателей, сотрудников или студентов университета запрещены.
При этом первокурсников обязывают присоединиться к групповым обсуждениям девственности, порнографии, мастурбации и обольщения…
3. Попрание ценностей штата Южная Каролина и университетского сообщества.
…Навязывание этой книги студентам Клемсона сейчас особенно неуместно и бесчувственно, учитывая недавнее изнасилование и убийство студентки Клемсона.
4. Отсутствие согласия большинства преподавателей и сотрудников Клемсона.
Эта книга была выбрана малым количеством педагогов без совета или согласия большинства преподавателей и сотрудников.
5. Разбазаривание средств университета, налогоплательщиков и студентов.
В дни рекордного роста платы за обучение, когда столь многим студентам приходится занимать десятки тысяч долларов, чтобы оплатить колледж, потребуется приблизительно 50 000 долларов, чтобы покрыть стоимость приблизительно 3000 экземпляров книги, гонорар автора за выступление и путевые расходы. Это грубое злоупотребление средствами налогоплательщиков и студентов».
То есть каким-то чудесным образом я стала соучастником изнасилования, убийства, сексуальных домогательств и аферы на 50 000 долларов. Также в объявлении приводился полный текст письма мистера Уингейта президенту университета с предложением отменить выступление автора. Стоя в деканате, я хотела, чтобы кто-нибудь именно это и сделал. Затем отправилась на встречу с семьюдесятью пятью отличниками.
– Это хорошие ребятки, – заверил меня мой провожатый. – Только один из них не прочел книгу, обосновав это тем, что она оскорбляет его чувства.
Вот интересно, а от математики или французского можно отказаться на тех же основаниях?
Встреча с отличниками прошла гладко. Возможно, потому что их было немного, или потому что в аудитории было просторно и светло, или потому что их угощали печеньем, или просто потому, что они были умнее своих однокашников. Не знаю. Они задавали внятные вопросы о различиях в работе над прозой и нон-фиком, о надежности памяти, о том, как я отношусь к протестам. Они задержались в аудитории, чтобы пожать мне руку и получить автограф.
Может, мой визит окажется не таким уж провальным? Мне хотелось в это верить. Голос неприглядного меньшинства занял центральное место. В конце концов, кому когда приходило в голову на целой полосе расписаться в своем возмущении выбором программы летнего чтения?
В Клемсоне приятный кампус: здания из красного кирпича, старые деревья – все это вкупе с определенной степенью величавости, как и положено южному колледжу. Худшее, что я могу сказать о кампусе, так это что там было очень трудно найти туалет. Когда в 1955 году сюда стали принимать и женщин, никто не озаботился вопросом оборудования дамских комнат. Поэтому, в то время как найти мужской туалет в старых корпусах достаточно легко, поиск женского – целое приключение.
– Достаточно ведь просто поменять таблички на паре дверей – неужели это так сложно? – спросила я. Какой уж тут разговор о равноправии.
– Э-э-э… нет, – шепотом ответил мой провожатый. – Там, внутри, писсуары.
В итоге нам с сестрой пришлось подниматься на третий этаж – там все же нашлось место, где можно сделать свои дела сидя, не будучи потревоженными видом писсуаров.
Затем мы отправились на поздний завтрак в дом президента. Присутствующие преподаватели и попечители, а также сам президент полностью поддержали мой визит. Последние шесть недель они провели на передовой линии критики в качестве моих неутомимых защитников. Законодательное собрание штата в течение некоторого времени настаивало на большем контроле над учебным планом Клемсона, и буря вокруг «Правды и красоты» в конце концов поставила вопрос о том, кто делает этот выбор. Казалось, все сидевшие за тем длинным обеденным столом были более чем довольны, что я приехала, чтобы принять праведный бой за высшее образование. Проблема была в том, что изначально я не собиралась ни с кем биться. Мне не за это заплатили. Меня привезли сюда, чтобы я обсудила со студентами книжку.
– Если во время вашего выступления что-то пойдет не так, – сказал мне президент, – просто отойдите в дальний угол сцены. Там будет человек, который вас проводит.
– Пойдет не так? – переспросила я.
На столе – салат из куриных слайсов с какими-то гигантскими ягодами. Меня заверяют, что, скорее всего, проблем не возникнет. Родители и остальные протестующие будут смотреть мое выступление в прямом эфире на другом конце кампуса. Поглазеть на гладиатора живьем придут только новички. Ну а если возникнет проблема, у меня будет телохранитель.
Мне кажется, о телохранителе стоило упомянуть несколько раньше, как и о протестующих в удаленном логове. Это бы повлияло на ход моих мыслей касательно того, как действовать дальше, потому что, хотя я верю в свободу образования и право выбирать книгу без вмешательства законодательного совета, также мне бы хотелось верить и в собственную безопасность, а в штате Южная Каролина это затруднительно. Возможно, я была готова принести себя на алтарь высшего образования в Теннесси, но уж точно не здесь.
Мне предстояло выступить перед приблизительно тремя тысячами первокурсников в «Колизее Литлджона» – гигантском стадионе для команд баскетбольного сообщества «Тигры Клемсона». Когда я прибыла на место, там все кипело энергией, можно было подумать, вот-вот начнется умопомрачительный рок-концерт. Половина стадиона была закрыта черной тканью, чтобы оставшиеся места могли под завязку заполнить студенты. В центре баскетбольной площадки, рядом с гигантским принтом оранжевой лапы на полу стояла напоминавшая коробку сцена, временно украшенная пальмами в горшках и кафедрой с микрофоном. За сценой был размещен киноэкран, размерам которого позавидовал бы любой пригородный синеплекс. На экране должно было появиться гигантское изображение моего лица, которое смогут рассмотреть как студенты на стропилах, так и разъяренная толпа на другом конце кампуса.
После того как президент рассказал обо всех замечательных вещах, которые принесут следующие четыре года обучения в Клемсоне, я прошла через непроглядную тьму, поднялась по лестнице и вышла в луч прожектора. Последовали длительные ободряющие аплодисменты. В конце концов, из трех тысяч студентов только семеро примкнули к протесту. Я никогда не считала, что Уингейт и его приспешники говорят от лица Клемсона. Мне лишь казалось, они говорят достаточно громко, чтобы заглушить все остальные голоса вокруг.
Я приложила до смешного огромное количество сил, чтобы написать эту речь, и не меньше энергии, чтобы ее прочесть. Я страстно взывала к праву на чтение, говорила о важности обращения к первоисточнику для формирования собственного мнения, о том, что нельзя полагаться на опосредованные суждения, что никто не должен принимать решения за других. Большинство студентов были достаточно взрослыми, чтобы голосовать или отправиться на войну. Они смотрели кабельное телевидение, сидели в фейсбуке, слушали рэп. Соглашаясь с тем, что книга в теории способна их развратить, мы свидетельствуем о собственном неверии в их способность принимать самостоятельные решения. Неужели «Анна Каренина» научит их изменять и станет причиной их трагической гибели под колесами поезда? Я сказала, что люди, которые пытаются защитить их от моей книги и лично от меня, считают, что первокурсникам не хватает зрелости и здравого смысла для принятия собственных решений, а затем я перечислила список других книг, писателей и учебных дисциплин, от которых их, возможно, стоило бы защитить. Всего хорошего, Филип Рот. Прощай, «Лолита». Давай, Джей Гэтсби, до свидания. Я объяснила, как легко они могут лишиться науки, истории, искусства. Я продолжала говорить, являя собой чудо цивилизованности и здравого смысла, в то время как гигантская проекция моей головы повторяла мои движения. Стоя на окруженной тьмой арене, я громко оплакивала право на чтение и взывала к студентам, умоляя их не позволять никому отнимать у них книги. Лишь несколько недель спустя до меня стала доходить нелепость моих доводов. «Анна Каренина»? «Великий Гэтсби»? Хотя бы кто-то из этих детей знал, о чем я говорю? Пугать их тем, что следом за «Правдой и красотой» они могут потерять великую «Лолиту» – был ли в этом смысл? Для того чтобы представить величину этой потери, нужно сперва прочесть «Лолиту».
С техническим оснащением на баскетбольной площадке все было негладко. Когда дело дошло до общения с залом, все чуть было не пошло прахом. Микрофоны поначалу не работали, и вскоре студенты уже выкрикивали свои вопросы из темноты: Вы сожалеете о каком-нибудь аспекте вашей дружбы с мисс Грили? Вы иначе относитесь к другим вашим друзьям – ведь им никогда не сравниться с Люси? Некоторые вопросы были с душком: У многих есть друзья, раком тоже многие болеют, так почему нас должна интересовать именно ваша история? Некоторые были очаровательно тупыми: Можете посоветовать, как найти настоящую любовь?
Какой-то парнишка все же нашел рабочий микрофон. Его интересовало, как давно я знакома с моим мужем.
– Двенадцать лет, – ответила я.
– Ясненько. После того, что я прочел и услышал, хотелось бы узнать, сколько раз вы ему изменяли?
Я подняла руки к слепящим лучам. Я понятия не имела, откуда шел голос. О чем спросил бы этот восемнадцатилетка, если бы в зале горел свет, если бы я видела его, могла узнать его имя? Я задала встречный вопрос: с чего он взял, что я изменяю мужу.
– Ну, судя по тому, что вы описали в книге, это вполне в вашем характере.
Я дала приемлемый ответ о сострадании и неосуждении других – один из тех ответов, которые позже тысячу раз переписываешь у себя в голове, – но на самом деле я не понимала, о чем он говорит, – ни когда уходила со сцены, ни позже во время глумливой пресс-конференции. Я не понимала его, когда телохранитель посадил меня и мою сестру в микроавтобус, ждавший у «Колизея», чтобы отвезти нас на другую сторону кампуса к моей машине, чтобы мы могли убраться прежде, чем кто-нибудь вычислит, в какую сторону мы поехали. Дождь, начавшийся во время моего выступления, теперь, когда мы пробирались к машине, опускался на землю плотной завесой, превращая кампус в грязную яму. Сделав три шага, мы промокли насквозь. Мы уносились прочь так быстро, насколько позволяла погода, и все же я не понимала того парня. Лишь посреди ночи, когда я благополучно вернулась в гостевую спальню сестры, до меня наконец дошло: он считал меня безнравственной не потому, что я не осуждала Люси. Он считал меня безнравственной из-за моих собственных поступков.
Университет Клемсона любезно обеспечил меня всеми документами, необходимыми для написания этой статьи. Они переслали мне не только копии всех газетных статей, о чем я просила, но также письма, адресованные президенту, – вопли ярости и отвращения, вызванных как моей работой, так и моей персоной.
Если Клемсон продолжит распространять порнографические материалы, вроде книги Пэтчетт, не видать вам больше ни моей дочери, ни моих денег… У меня в голове не укладывается: почему эта ахинея вообще стала предметом изучения.
По причинам, которые вам хорошо известны, это был неуместный выбор. Не читал, но осуждаю.
Университет, безусловно, мог бы выбрать и другую тему, чтобы простимулировать умы первокурсников: эпидемию СПИДа на Африканском континенте, непреходящий кризис на Ближнем Востоке или универсализацию мира вследствие влияния технологий на мировую экономику. [Серьезно – Африка? Письмо было от сенатора штата.]
Я верю в свободу образования. Но также я верю, что это свобода сеять добро. Каковы, раз уж на то пошло, основополагающие цели высших учебных заведений в Соединенных Штатах? Уж вам-то это явно должно быть известно.
Ладно бы услышать, что такое происходит в каком-нибудь раю для либералов – Гарварде или даже Чапел-Хилл, – но как до подобного мог опуститься Клемсон? Я обескуражен. Каким бы ни был предполагаемый мотив всей этой затеи, это не более чем очередная попытка либерально настроенных академиков с их воспаленными умами навязать сексуально-девиантную повестку юным студентам.
Я горжусь тем, что в Университете Клемсона до сих пор молятся перед каждым футбольным матчем, даже несмотря на угрозы судебных разбирательств от Американского союза защиты гражданских свобод. А вот программой летнего чтения совсем не горжусь.
В 2002 году, вскоре после 9/11 в Университете Северной Каролины первокурсникам задали прочесть книгу, состоящую из главок (или сур) Корана. Несколькими годами позже последовал этот социалистический фолиант («На последние гроши» Барбары Эренрейх). Теперь и Клемсон взялся за дело. Но вместо религии или политики вы выбрали секс.
Именно последнее письмо заставило меня осознать, до какой степени я не разбиралась в правилах ангажированности: если «На последние гроши» Бар-бары Эренрейх был социалистическим фолиантом (хотя скорее фолиантиком), то «Правда и красота» была порнографией. Подобно красоте, порнография тоже была в глазах смотрящего.
Единственное письмо, которое я сохранила, было написано карандашом на тетрадной странице. Один из студентов сунул его моему телохранителю, а тот передал мне: «Дорогая миссис Пэтчетт. От лица штата Южная Каролина приношу извинения за случившееся».
Уже после всего сестра сказала, что мне стоит заглянуть в руководство для читателей «Правды и красоты» с примерами из Библии. Она прочла его, планируя дать бой религиозной общине, но в итоге передумала. «Все не так плохо, как ты думаешь», – сказала она.
Не так плохо, и тем не менее ничто в моем опыте не сравнится с тем, когда ты видишь себя в качестве наглядного примера в околобиблейском опроснике (любезно дополненном отсылками к текстам Писания) или когда читаешь четкое обоснование страданий и смерти твоей подруги.
Пятый вопрос: Как бы вы охарактеризовали дружбу Энн и Люси? Каким образом в этой дружбе была явлена благодать? Что такое друг? Опишите.
Шестой вопрос: Иисуса обвинили, что он «друг мытарям и грешникам». Как вы считаете: можно ли включить Люси в список Его друзей – или, напротив, исключить? Обоснуйте. Помните ли вы примеры, чтобы Иисус заводил дружбу с людьми, подобными Люси? Как Он вел себя с ними? О чем это нам говорит?
Восьмой вопрос: Фарисейство – опасная духовная болезнь, лишающая благодати и препятствующая пониманию Евангелия. Что такое фарисейство? Почему оно мешает пониманию евангельских текстов? Каким образом благодать дает нам возможность раскаяться в лицемерии, а также свободу проповедовать Евангелие в духе и истине?
Поначалу мне это практически нравилось. Ответы я тоже читала, и в них Люси и Иисус были представлены друзьями. Фарисеи излучали снисходительность и моральное превосходство, которые не-христиане справедливо отвергают[17]. Я это оценила. Меня остановил десятый вопрос: «Как донести Слово Божие до Энн?»
Я смотрела на него долгое время и, даже не сверяясь с ответом, знала, что к внутреннему согласию здесь не прийти.
В лучшие моменты я говорю себе, что случившееся было благородной битвой между свободой и угнетением, но я знаю, что в равной степени возможно и то, что все это не было столь возвышенно. Многие считают секс, страдания и крепкую женскую дружбу неприемлемыми темами, и, видя, как эта книга тянет ко дну их детей, несомненно чувствовали, что должны попытаться все это пресечь. Они не преуспели, но я всерьез сомневаюсь, что это чтение хоть кого-то ранило. Если я – худшее, чего стоит бояться студентам Клемсона, значит, их жизни будут несомненно прекрасны.
2007
Право на чтение
Выступление перед первокурсниками Университета Клемсона, 2006
Хочу поблагодарить руководителей Университета Клемсона за приглашение, а также за то, что впоследствии не передумали и не отменили это приглашение. Я очень рада оказаться здесь. Хочу поблагодарить моих сторонников за доброту, а недоброжелателей – за терпение. Когда я думаю о состоянии государственной системы образования, системы здравоохранения, когда думаю о бедности и ведущихся войнах, то хочу надеяться, что страсти протестующих могли бы послужить более благой цели. Но я не в силах на это повлиять, поэтому, пожалуй, начну.
Представьте себе хрупкую девятилетнюю девочку, которой на школьной переменке в голову прилетает волейбольный мяч. Девочку показывают врачу, и выясняется, что у нее сломана челюсть. Однако перелом почему-то никак не заживает, и родители продолжают таскать ее по специалистам, пока наконец через несколько месяцев кто-то не выясняет, что у девочки рак челюсти. Саркома Юинга; выживаемость – пять процентов. Никто не говорит об этом Люси, потому что ее считают ребенком, да и она все равно умрет. Никто не говорит об этом, когда ее кладут на операцию, а все то время после, пока она носит повязки, никто не упоминает, что она потеряла половину челюсти. Когда наконец ее выписывают из больницы, начинается химиотерапия. Люси – одна из первых детей в стране, прошедших через химиотерапию, и поскольку в те времена облучение было куда менее совершенным и более агрессивным, нежели сейчас, по ее собственным словам, ощущения были, будто горишь заживо. Пять дней в неделю она ходит на химио- и радиотерапию, и все вместе это продолжается два с половиной года. Во рту у нее осталось шесть зубов. Во время лечения она лысеет. Когда наконец она возвращается в школу, никто из девочек не хочет сидеть с ней в столовой. Мальчики подкарауливают ее на лестничных клетках и лают на нее, кричат на нее, преследуют ее. В течение жизни она переносит тридцать восемь восстановительных операций. Фрагменты мышц, костей, тканей и вен отделяются от разных частей ее тела в попытках заново собрать ее лицо, но из-за огромного количества радиации ни один трансплантат в итоге не приживается. И несмотря на все это, а возможно, именно поэтому она оказывается самым умным человеком из всех, что вы когда-либо встречали; самой начитанной, обладающей самым пытливым умом, а еще невероятно веселой и лучше всех на свете умеющей танцевать.
Когда она была сыта по горло чужими любопытными взглядами, Люси написала книгу «Автобиография лица». Историю того, что с ней случилось. И о том, что, по ее мнению, никто из нас никогда не чувствует себя в достаточной степени хорошим, достаточно красивым, достаточно любимым и принимаемым окружающими. На некоторое время она стала знаменитостью. Выступала на CNN, была гостем Опры и шоу «Сегодня». Она смотрела прямо в камеру, надеясь, что кто-нибудь по ту сторону телеэкрана влюбится в нее. Вы никогда не встречали такого смелого человека. Не бесстрашного, заметьте: Люси была слишком умна, слишком многое пережила, чтобы не понимать, насколько ужасной порой бывает жизнь, и все же она не сдавалась. Я не могу выразить словами, как сильно ее любила, как восхищалась ею; а когда любишь кого-то, по-настоящему любишь, тебе и в голову не придет, что за такого человека можно не держаться.
Я держалась за Люси и после того, как она умерла. Ее смерть, как и ее жизнь, была объектом множества слухов. Говорили, что она умерла от рака. От передоза после отмененного издательского контракта. Спрыгнула с крыши дома, где когда-то снимала квартиру. Я хотела вмешаться, рассказать правду о том, что произошло, но это лишь одна из многих причин, побудивших меня написать книгу. Люси была непростой, как те книги по философии, что она любила читать; я знала, что моему разуму никогда не вместить все то, чем она являлась. Я знала, что с каждым годом после ее смерти память о ней будет упрощаться. Люси станет податливее и милее, а мне бы не хотелось, чтобы это произошло. В конце концов, именно ее браваду и ярость я любила особенно сильно. Мне казалось, если запишу нашу историю, историю нашей дружбы и того, что нам вместе довелось пережить, то смогу сохранить ее саму, зажав между страницами как кленовый листок.
Безусловно, даже люди, происходящие из самых интеллектуально ограниченных кругов, знают, что книги гораздо непристойнее моей издаются и читаются повсеместно. То есть дело не в том, с какими выборами Люси и мне приходилось сталкиваться в жизни, – опять же, даже малейшее столкновение с чем-то неприятным показало бы, что многие люди делают выборы и похуже. Дело даже не в том, что вы прочитали мою книгу – скорее всего, вы уже играли в компьютерную игру GTA. Вы сидите в фейсбуке, смотрите фильмы сети HBO, и новости тоже смотрите. Какими бы чистыми ни были ваши сердца, я очень сомневаюсь, что можно заподозрить, будто моя книга стала для вас первой встречей с упоминанием секса, наркотиков, депрессии или крепкой дружбы. Людям может не нравиться сама идея, что подобные вещи существуют, или что я написала о них, или что вы об этом прочтете, но это не повод устраивать протесты или обзванивать новостников. Проблема в том, что высшее учебное заведение, в которое вы поступили, выбрало эту книгу в качестве задания. То есть, чтобы здесь учиться, вам вроде как необходимо ее прочитать.
Люди, выступающие против «Правды и красоты» как обязательного чтения и против моего сегодняшнего визита сюда, делают это не для себя. В конце концов, их никто не заставляет читать книгу. Они действуют от вашего имени. Они хотят защитить вас от меня, хотя от игры GTA они вас не уберегли. И поскольку вы еще толком не начали учиться на первом курсе, давайте на минутку остановимся и подумаем, от чего еще вас стоит уберечь. Я постаралась сделать этот список максимально компактным, потому что в противном случае могла бы продолжать говорить в течение всех следующих четырех лет вашего обучения. Никто не захочет платить деньги, чтобы читать о безнравственном поведении, поэтому «Анна Каренина» – на выход. Речь там о супружеской измене, романе замужней женщины с другим мужчиной и ее последующем самоубийстве. Мало того что это эпатажная книга, так она еще и невероятно длинная. В «Великом Гэтсби» адюльтера и того больше, а также алкоголизм и убийство, так что его тоже в топку. С этим романом сложнее расстаться, потому что он короткий, да и вы, скорее всего, уже прочли его в школе. «Сто лет одиночества»? Там инцест, что, конечно, прискорбно – а так-то хорошая книжка. Лично для меня безусловно лучшим романом двадцатого века является набоковская «Лолита», и, если я сейчас начну о ней говорить, уверена, все кончится тем, что со сцены меня уведут сотрудники нацгвардии. Фолкнера – запретить. Хемингуэя – запретить. Тони Моррисон, Джон Апдайк, Филип Рот, величайшие американские писатели из живущих – уж точно не для вас. В их книгах столько секса и нецензурной брани, что мне, пожалуй, и имена-то их не стоит произносить.
Однако, возможно, с этими книгами как раз-таки все в порядке, потому что это художественная проза. Возможно, самое удручающее в моей книге – тот факт, что в ней нет вымысла. Так что давайте, пожалуй, откажемся от чтения любого нон-фика, который может вывести из равновесия. Если истории о девочках, страдающих от рака, унижаемых незнакомцами и пытающихся посредством секса и наркотиков притупить нечеловеческую боль, слишком неприятны и порнографичны, то давайте откажемся и от упоминаний Холокоста. Русская революция, кровавые поля Камбоджи, война во Вьетнаме, Крестовые походы – все это олицетворяет такие чудовищные проявления безнравственности и извращенности, что о них лучше и думать забыть.
Но и это еще не все. Практически любая область изучения – искусство, экономика, философия – имеет множество спорных моментов. Перестанете ли вы читать Ницше, ведь он говорит, что Бога нет? Наука в этом случае тоже скомпрометирована, ведь там столько разногласий с верой. Математика – о’кей. Алгебра, физика, химия. Вот ими придется заняться вплотную.
Само по себе предположение, что вас стоит защищать от таких, как я, означает, что у вас нет внутренних фильтров, нет жизненного опыта, критического мышления и интеллекта как такового. Вы настолько податливы, что чтение заданной университетом книги, где упоминаются наркотики и секс, заставит вас, отбросив книгу, тут же поспешить и самостоятельно все это попробовать – что кажется мне не более вероятным, чем тот факт, что, прочитав «Анну Каренину», вы окажетесь под поездом. Также это может означать, что книга Толстого, в первую очередь, не о безусловной красоте жизни, а моя книга не о всепоглощающем значении верности.
Поскольку это ваша первая неделя в университете, сейчас самое время задуматься о том, почему вы, собственно говоря, здесь. После двенадцати лет, проведенных в школе, образование больше не является обязательным. Что означает: вы здесь по собственной воле. Никто, включая родителей, больше не может навязывать вам образование. Образование – огромная привилегия, отличающая вас от большинства людей как в мире, так и в этой стране. Лишь около двадцати пяти процентов американцев посещают колледж. Один из четырех. Хочу еще раз подчеркнуть: образование – это привилегия и выбор. Возможно, это первый сознательный выбор в вашей взрослой жизни. Многие из вас берут кредиты, устраиваются на работу, взваливают на себя часть, а то и полную стоимость этого выбора. Остальные, надеюсь, ценят людей и учреждения, которые делают это образование возможным. Главная цель вашего пребывания в Клемсоне – расширить и углубить сферу ваших интеллектуальных возможностей. Все прочее – спорт, общественная жизнь, студенческие братства, женские клубы, политика кампуса – вторично. Вы здесь, чтобы учиться. Проверенный веками способ получения образования – при помощи учителя. Если вы хотите стать стеклодувом, то нанимаетесь в ученики к мастеру; следуете каждому его движению и пытаетесь впитать его мудрость. Университет – по сути, большой консорциум людей, имеющих опыт работы в соответствующих областях, так что у вас есть возможность обучаться у тех, кто всерьез занимался математикой, литературой и экономикой. Вы можете попробовать огромный перечень интеллектуальных занятий и узнать, что именно подходит вам лучше всего.
Если, конечно, вас не будут оберегать от всего того, что может оскорбить чувства или испортить настроение, если другие люди не будут решать за вас, чему вам стоит учиться, а чему нет. Лучший отклик на это я нашла в обращении к первокурсникам поэтессы Адриенны Рич. В своей речи «Претендуя на образование» она писала:
«Ответственность перед собой кроется в умении не позволять другим думать, говорить и что-то заявлять за вас; в умении уважать и использовать свои разум и чувства… Ответственность перед собой означает, что вы не будете падки на необдуманные, мелкие решения – одобренные книги и идеи… вы не будете записываться на малосодержательный курс вместо того, чтобы идти туда, где могут чему-то научить, не будете списывать домашку, вместо того, чтобы самостоятельно и твердо идти вперед… Это значит пестовать критическое мышление, понимание того, что самое главное, что кто-то может сделать для вас, – это потребовать, чтобы вы продвинулись дальше, показали вам спектр того, на что вы способны».
Вы выбрали учебу в университете. Вы достаточно взрослые, чтобы управлять автомобилем, голосовать, платить налоги или воевать. Вы не дети, даже если по-прежнему ощущаете себя таковыми. Лучший способ добиться, чтобы ваши родители и учителя относились к вам как взрослым – вести себя по-взрослому. Взять на себя ответственность за свою жизнь и свой разум и попросить других уважать вашу самостоятельность. Будьте горды тем, что поступили в учреждение, где вас считают взрослыми, где уважают и защищают ваше право учиться, где не идут на поводу у тех, кто считает, что вы не в состоянии принимать решения.
Вы намерены распахнуть ваши умы. Высшее образование – в приятии многообразия. Суть в том, чтобы научиться различать другие голоса, уважать другие точки зрения. Вы обнаружите, что чем больше учишься, тем сложнее становится жизнь, потому что ваш ум оказывается способен рассматривать один и тот же вопрос под множеством углов. Вы научитесь использовать свой ум так же, как атлет использует свое тело. Вы будете тянуться, крепнуть и расти. Именно поэтому столь многие боятся высшего образования; делить мир на черное и белое куда проще. На все у них есть четкий ответ, которого они и придерживаются. Но у вас появился шанс бесстрашно выйти за эти рамки, исследовать все, что только вам доступно.
Я всегда была писателем, но многие годы зарабатывала на жизнь журналистикой, а первое, что должен осознать любой журналист, – разница между первичным и вторичным источником. Если вы сможете усвоить эту идею, многое из того, что ждет вас в колледже, окажется гораздо проще. Первичный источник – это явление или персона как таковые, вторичный – интерпретация или пересказ. Скажем, вы пишете заметку о «Великом Гэтсби». Вашим первичным источником будет сам роман. Статьи и книги о романе будут вторичными источниками. Сборники кратких содержаний, хотя не приведи вас Господь в них заглядывать, тоже будут вторичными источниками. Скажем, вы хотите написать о губернаторе Южной Каролины. Ваш первичный источник – сам губернатор, и лучшим решением будет договориться об интервью; также первичными источниками могут стать люди, знающие его лично: его помощник, начальник его штаба, его жена. Если вы черпаете информацию из газет, значит, пользуетесь вторичными источниками. Любой преподаватель и любой журналист скажет вам, что вторичные источники чрезвычайно важны. Потому что это возможность обратиться к мнению других людей, которое может помочь вам сформулировать ваши тезисы, а также изучить другие аспекты идеи, которые вы, возможно, не брали в расчет. Но всегда, когда это возможно, стоит обращаться к первоисточнику, чтобы иметь возможность сделать самостоятельные выводы. Вне зависимости от того, учитесь вы в колледже или нет, полагаться на мнение других недостаточно. Вам необходимо самостоятельно рассмотреть явление и сформировать собственное суждение. Именно это значит изучать и учиться. Некоторые вторичные источники столь громко и пристрастно заявляют свою точку зрения, что может возникнуть искушение поверить им на слово. Может возникнуть соблазн не проверять сведения самостоятельно. Однако грань между послушанием и ленью бывает чрезвычайно тонкой, и если вы идете по жизни, принимая на веру слова других людей о том, что правильно, то таким образом позволяете вести себя по темным дорожкам.
Помимо возможности учиться, лучшее, что есть в колледже, – это друзья, которые у вас непременно появятся. Возможно, сейчас вам слегка одиноко, но это изменится. Сегодня в этом помещении находятся люди, с которыми вы не знакомы и которые станут самыми важными людьми в вашей жизни; вы забудете работы, которые написали, оценки, которые получили, но ваши друзья останутся с вами. Когда мне было нужно определиться с тезисами для сегодняшней речи, я обратилась именно к друзьям. И мне ужасно жаль, что я не могла позвонить Люси. В свете всего произошедшего я обнаружила, что упускаю из виду тот факт, что меня пригласили сюда поговорить о книге, которую я написала о моей лучшей подруге – моей дорогой, моей милой, скандальной Люси. Она наверняка бы решила, что все это ужасно весело. Она не принимала критику близко к сердцу. Она собаку съела на критике до того озлобленной и гнусной, что то, с чем столкнулась я, показалось бы ей прогулкой в парке.
Возможность иметь друга, быть другом не сильно отличается от возможности учиться. То и другое уходит корнями в нашу способность быть восприимчивыми и открытыми к предстоящим трудностям. Если вы намерены тянуться, рисковать, если вы намерены любить, чтить и лелеять людей, которые важны для вас, пока смерть не разлучит вас, тогда вас ждут большие страдания, но и еще большая награда.
Я рада, что у меня было время так тщательно все это обдумать, и я рада, что пришла к выводу, что все кривотолки сосредоточены на моей книге, а не на поведении моей подруги. Если вы находите поведение Люси предосудительным, то я советую вам помолиться сегодня перед сном, чтобы то, что случилось с ней, никогда не случилось с вами или теми, кого вы любите. Ее осуждали множество раз в жизни, ее осуждали каждый раз, стоило ей выйти за дверь. Я полагаю, пора это прекратить.
На первых страницах «Великого Гэтсби», этой эпатажной классики, рассказчик Ник Каррауэй говорит: «В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память. «Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, – сказал он, – вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты[18]».
Когда я впервые прочла эту книгу, мне было двенадцать. Я помню это, потому что взяла ее с собой в летний лагерь для девочек. Это был роман взросления о молодом человеке, который пытался соответствовать ожиданиям всех остальных. Уверена, чего-то я в нем не поняла, но основное от меня не ускользнуло. И уж конечно я понимала, о чем шла речь в той цитате. С тех пор я перечитала эту книгу, наверное, дюжину раз, и с каждым разом она значила для меня все больше. Снова и снова я возвращалась к совету, который Ник Каррауэй получил от своего отца. И находила в нем утешение, когда больше нигде не могла его найти. Сегодня я так активно ссылаюсь на этот роман, потому что мне хочется осуждать, но потом я останавливаюсь и напоминаю себе, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладаю я. У меня была возможность учиться у Люси, учиться на ее неудачах и успехах, учиться у нее ее невероятной способности любить и умению быть любимой. Я рада, что никому не удалось отнять у вас мою книгу, потому что теперь вы тоже сможете многому научиться у Люси. Спасибо за ваше время и за внимание. Что бы вам некоторые ни говорили – не прекращайте читать.
2007
Не беспокоить
В детстве я была компактной и обладала настоящим талантом к неподвижности. В сочетании с хорошим воображением эти две особенности означали, что в прятках я была более-менее непобедима. Я могла просто засунуть подушку в шкаф, занять ее место на кровати, аккуратно сложить покрывало у себя на спине и оставаться там в форме подушки в течение нескольких часов, пока другие дети выкрикивали мое имя. Годы спустя меня пугает, сколь многие аспекты моей воображаемой жизни связаны с сокрытием. Уверена, что программа защиты свидетелей – чудовищная вещь, и все же, когда жизнь грозит слишком захлестнуть меня, я начинаю размышлять, нет ли какого-нибудь гангстера, которого я могла бы сдать в обмен на фиктивную личность. То же касается тюрьмы: кошмарно, пугающе, но телефон никогда не зазвонит, а уж сколько всего можно прочитать. Ни в коем случае не хочу сказать, что недовольна своей жизнью, – я довольна. Но все эти славные гости, которые приходят на ужин, а затем возвращаются, чтобы остаться на подольше (потому что они тебя любят, а ты любишь их), превратили мою жизнь в подобие перенаселенного русского романа. Иногда именно чудесная жизнь – многочисленные друзья, большая семья и настоящая любовь – вызывает в вас желание с криком броситься в сторону холмов.
В этот момент мой разум делится на две предельно ясные части. Одна половинка ликует: «Какое же это богатство – полный дом». Другая причитает: «Если я хочу когда-нибудь что-нибудь закончить, мне лучше начать паковаться».
И вот, чувствуя, что моему разуму скоро придет конец, меня гонит из дома компания, стирка, бумажные и электронные письма, моя собственная глупая одержимость желанием испечь шарлотку из «Библии пирогов и пирожков», несмотря на то, что это трудоемко сверх всякой меры и гарантирует лишь то, что каждый, кто зашел, зайдет снова. Я делаю пару телефонных звонков, вытаскиваю из подвала дорожную сумку и в двух словах объясняю все мужу, который знает меня достаточно хорошо, чтобы понимать: когда мне нужно уехать, лучше не мешать.
Затем я лечу в Лос-Анджелес и заселяюсь в отель «Бель-Эйр».
Это не лучший выбор по многим причинам: в Лос-Анджелесе у меня куча знакомых, со многими из них я состою в родстве, и никто из них не будет рад узнать, что я пряталась в непосредственной близости от них и даже не зашла в гости. Я просто решаю не говорить им, вводя себя во временное заблуждение, что они никогда этого не прочтут. За малую часть тех денег, что я потрачу на свое гламурное уединение, я с тем же успехом могла забронировать номер в «Бест Вестерн» в Омахе или Толедо, в городах, где я не знаю ни одной живой души, чьи чувства могла бы ранить. Учитывая, что моя цель – запастись тишиной и сделать невероятное количество работы, – какая разница?
«Бест Вестерн»? Отель «Бель-Эйр»? Я не дурочка. Жизнь предлагает нам не много возможностей сбежать, и, если я собираюсь сделать это, мне стоит сделать все правильно. И потом, я люблю Лос-Анджелес – хоть я здесь и не росла, это город, где я родилась. Мне нравятся пальмы, и бугенвиллии, и послеполуденный голубой свет. Кроме того, в последнее время я перечитывала все книги Джоан Дидион, и она пробудила во мне желание отправиться на запад. Заселение в «Бель-Эйр» на некоторое время кажется именно тем, что сделала бы она сама, если бы на ее пороге замаячило слишком много гостей.
Поскольку у меня нет планов куда-либо выбираться, я не арендую машину. У меня нет желания осматривать достопримечательности или ходить по магазинам. Мгновение я думаю о том, что было бы неплохо снова наведаться в «Центр Гетти», но выбрасываю это из головы. В этом году я приглашенный редактор «Лучших американских рассказов», поэтому я прибыла сюда с чемоданом, полным рукописей, которые необходимо прочесть, и ноутбуком с половиной написанного романа, который к настоящему времени должна была закончить. Каникулы для меня – возможность выполнить мою работу в уединении и тишине, а не разъезжать туда-сюда. Все развлечения, которые мне нужны, – это вид из моей комнаты на амбровые деревья во внутреннем дворе.
Калифорнийцам становится неуютно от одной идеи оказаться без транспортного средства. Когда портье регистрирует меня, то рассказывает обо всех тех местах, куда гостиничный автомобиль с радостью доставит меня совершенно бесплатно: в Уилшир или вниз по Родео-драйв, туда, где кинозвезды пьют латте, а на коленях у них трясутся чихуахуа. Я качаю головой.
– Я не намерена никуда выбираться, – говорю ему. – Меня ждет работа.
– В отеле «Бель-Эйр» мы не употребляем слово «работа», – отвечает он. Мысленно помечаю себе больше его не произносить.
Я приехала в «Бель-Эйр» не потому, что останавливалась здесь раньше, а потому, что однажды отец привез нас с сестрой сюда на ланч, когда мы были детьми. Я запомнила землю, походившую на заросшие джунгли, где крутые овраги переходили в ручьи и лозы переплетались над каждой доступной поверхностью. Я запомнила лебедей – огромные плавучие пуфы со стройными белыми шеями, за которыми мы наблюдали из-за стола, пока ели. Здесь останавливалась Мэрилин Монро, а позже Нэнси Рейган, а в промежутке многие другие из тех, кто хотел, чтобы их оставили в покое.
По моему прибытии отель «Бель-Эйр» посылает мне чайник чая и восхитительную фруктовую тарелку. Моя подруга Жанетт, которая останавливалась здесь пятнадцать лет назад, рассказывала, что каждый вечер перед сном гостям приносили печенье и стакан молока. Печенье было таким красивым, что она его сфотографировала. Но времена изменились. Любители печенья в «Бель-Эйр» больше не останавливаются.
В первое же утро я бросаюсь в галоп – иначе говоря, переворачиваюсь на другой бок и принимаюсь за стопку рассказов. На завтрак я ем фрукты и допиваю остывшие остатки чая, и меня это устраивает. Тишина комнаты так пьянит, что я не в состоянии ее покинуть. В полдень отправляюсь поплавать – температура воды в бассейне заботливо поддерживается на уровне 28 градусов. Больше никого не видно и, в соответствии с повешенным объявлением, я плаваю на свой риск.
Распаковав вещи, обнаруживаю, что уделила слишком много места в чемодане рассказам и недостаточно – гардеробу. Когда прихожу в ресторан отеля на обед, одетая опрятно и представительно, но ни в коей мере не стильно, хостесс спрашивает, бронировала ли я столик, чего я, конечно, не делала. Уже довольно поздно. Люди, поздно приходящие на обед, уж точно должны выглядеть классно. С полдюжины столиков на террасе свободны, но она усаживает меня в зале, где я оказываюсь совершенно одна. Я могла бы пожаловаться, но раз уж я приехала сюда, чтобы побыть одной, значит, так тому и быть. Из-за моего столика я наблюдаю за расфуфыренными женщинами снаружи, поедающими Кобб-салат без голубого сыра и соуса. Мужчина с хлебной корзинкой бродит от стола к столу, одинокий, как облако. Когда он подходит ко мне, его корзина полна и прекрасно оформлена. В ответ на мое желание взять и бездрожжевую булочку, и сырную палочку, он одаривает меня довольной, широкой, искренней улыбкой.
Мне требуется немного времени, чтобы осознать тот факт, что заселение в этот конкретный отель с целью затеряться свидетельствует об уровне гениальности, которым я, сама того не зная, обладаю. Репутация отеля построена на том, что это место для тех, кто желает спрятаться, но прячутся они в гораздо более яркой манере, чем я. Они прячутся под нарощенными волосами и гигантскими солнцезащитными очками «Шанель». Окна их «ягуаров» затонированы. Это вид сокрытия, который требует и получает большое внимание, в отличие от моего вида сокрытия, который по большей части состоит в том, что я сижу в комнате и огорчаю обслуживающий персонал. Хостесс заверяет меня, что, если завтра я захочу снова поесть в ресторане, мне правда необходимо бронирование, поэтому я бронирую столик, но назавтра понимаю, что у меня нет на это внутренних сил. Я остаюсь в бассейне, плаваю и читаю рассказы. Парень, который разносит полотенца, позволяет мне есть все фрукты, что я захочу, из шикарной корзины рядом с бутылками «Эвиан». Я по-прежнему немного голодна, но не настолько, чтобы что-то с этим делать. Некоторое время спустя на шезлонге рядом со мной устраивается блондинка, на вид ей под шестьдесят. Хотя вокруг бассейна, наверное, сорок шезлонгов, это единственные два, на которые проливается слабый солнечный свет. Растительность в «Бель-Эйр» так пышна и изобильна – тасманские древовидные папоротники и гигантские пальмы, возвышающиеся камелии и гардении, – что вся территория находится в тени. Женщина рядом со мной очень красива, как стареющая Эльке Соммер или любая из жен Джона Дерека. У нее стройный ноги, мягкая зона декольте; на ней крошечное розовое бикини, отделанное тем, что при ближайшем рассмотрении оказывается крошечными цветочками. Каждые пятнадцать минут или около того мы берем полотенца и передвигаем наши шезлонги, следуя за солнцем, насколько это возможно. «Холодно», – говорит она с русским акцентом, а затем возвращается к своей головоломке судоку. Это единственное, что мне здесь сказал кто-то не из персонала. На минуту я представляю, что мы с ней прибыли в «Бель-Эйр» в надежде, что воздух укрепит наши хрупкие нервы, или что мы гости в туберкулезном санатории из «Волшебной горы», завернутые в меховые одеяла и ждущие, когда нам измерят температуру.
У отеля «Бель-Эйр» две половины. На одной – оживленный ресторан, где холеные люди в полный голос и с предельной серьезностью обсуждают телешоу. Чтобы сделать широкое обобщение, основанное на нескольких днях невольного наблюдения, я могу сказать, что мужчины встречаются за завтраком, женщины – за обедом, и все они говорят о «Золотом глобусе», Рэе Романо, сериях «Остаться в живых» и «CSI: Место преступления», или, по крайней мере, именно эти слова я постоянно слышу, намазывая маслом тост («тост» – еще одно слово, которое используется постоянно, например: «Я не буду тост» или «Яичные белки, без тоста»). После нескольких дней пребывания в вынужденной роли пассивного наблюдателя звездных ролей других я решаю, что теперь и я хочу немного внимания. Если бы я так полно наслаждалась своим одиночеством, как утверждала, я бы заказала овощную фриттату, но я такая дикая, такая спонтанная дура, я практически Анита Экберг, входящая в фонтан Треви. Я говорю официанту, что возьму блинчики. Что является ошибкой: они черствые и слегка кислят. Никогда не стоит заказывать блюдо, к которому никто больше не притронется. И все же в «Бель-Эйр» множество прекрасной еды. На ужин стоит попробовать что-нибудь максимально тяжелое и наиболее формальное; фондю из морского гребешка и вареный мэнский омар столь же вкусны, сколь дороги. Если же вы не готовы к причудливому ужину, то можете ускользнуть в бар, где официанты дружелюбны, пианист очарователен, а еда ужасна. Если вдруг по случайной ошибке вы закажете пирог с курицей, ни при каких обстоятельствах не ешьте его.
На другой половине «Бель-Эйр» – вы поймете это, когда увидите табличку «Вход только для постояльцев», – расположены номера. Там стоит такая тишина, что иногда я задаюсь вопросом, не единственный ли я человек, кто здесь ночует. (Мою подругу в розовом бикини я больше ни разу не встречала.) Как-то вечером, когда я в одиночестве возвращаюсь к себе после ужина, за мной в сторону демаркационной линии поспешно увязывается мужчина в костюме. «Вы что-то хотели?» – спрашивает он многозначительно. Я чувствую себя несколько неловко, потому что приложила все усилия, чтобы приодеться к ужину и, как мне кажется, вполне могу сойти за гостя, но, похоже, я ошибаюсь. Объясняю, что живу в отеле, причем уже какое-то время, и, хотя он не выглядит полностью убежденным, позволяет мне пройти. Аромат магнолии Суланжа смешивается здесь с запахом хлорки, идущим от бурлящих фонтанов. Этот запах всегда ассоциировался у меня с Южной Калифорнией, и я его очень люблю.
То, чего мы ждем от отпуска, меняется с возрастом. Меняется от путешествия к путешествию. Было время, когда меня интересовали исключительно культурные впечатления. Мое представление об отдыхе заключалось в том, чтобы таскаться по музеям, пока ноги не загудят, а потом еще отстоять очередь за билетами в оперу или театр. Позже я стала приверженцем релаксации и, составляя планы, искала слова «пляж» и «массаж». В то время крошечные бумажные зонтики, балансирующие на краю бокала с ромовым коктейлем, казались мне чрезвычайно привлекательными. Теперь я стремлюсь к абсолютной невидимости и мне важен шанс закончить то, чего я не могу сделать дома. Но, упаковывая вещи в номере «Бель-Эйр», я думаю, что лучший отпуск – тот, что на некоторое время освобождает от собственной жизни, а затем заставляет страстно желать вновь к ней вернуться. Я полностью готова вновь стать заметной, взволнована при мысли о моей любимой цивилизации. За пять дней я сделала работу на месяц вперед. Я по самые жабры полна одиночеством. Понимая, что еду домой, я не испытываю ничего, кроме благодарности.
2006
Предисловие к сборнику «Лучшие американские рассказы 2006»
Рассказу необходим скандал.
В рассказе должно быть заявлено, что он основан на реальных событиях, чтобы затем, после серии пламенных публичных опровержений, можно было бы собрать пресс-конференцию в Каннах и сделать смелое, хотя и слегка неуверенное признание: ничего из этого не произошло. Всю дорогу это был вымысел. Да, несмотря на ходившие слухи, это изначально был вымысел, чем вполне можно гордиться. Рассказ должны выкрасть, а затем, три недели спустя опубликовать в «Нью-Йоркере» с припиской, что историю с похищением редакция обсуждать не вправе. Или, допустим, рассказу может оказать поддержку какая-нибудь неочевидная знаменитость – Тайгер Вудс, например, – заявив, что ему и в голову не придет отправиться к девятой лунке, если в заднем кармане не припасена история. Такая, знаете, идеальной длины, чтобы прочесть между раундами. На самом деле неважно, что там произойдет с рассказом, важно, чтобы что-то вообще произошло. Нужен хайп. Нужен хороший пиарщик. И побыстрее.
Я знаю, о чем говорю, поскольку за последнее время прочла множество рассказов, и в подавляющем большинстве они были невероятно хороши. Получше многих романов, что мне попадались. Они более дерзкие, более искусные, более оригинальные. И хотя есть множество людей, с которыми я могу обсудить прочитанный роман, лишь с двумя из них я могу, захлебываясь, говорить о рассказах: Катрина Кенисон Льюэрс (подробнее о ней позже) и мой друг Кевин Уилсон, молодой писатель, для которого литературные журналы будут покруче шпионских романов, друг, которому можно позвонить посреди ночи и спросить: «Ты читал последний выпуск «Тин Хаус»? Однако, как бы я ни ценила дружбу этих людей, вынуждена сказать, что мне этого недостаточно. Поскольку с недавних пор я посвятила себя чтению рассказов, мне необходима аудитория более широкая, чем два человека. Во мне есть азарт новообращенного. Мне хочется стоять в аэропорту и раздавать выпуски «Уан стори» и «Агни Ревью». Я хочу говорить со случайными незнакомцами о сюжете, персонажах и языке. Я более чем готова донести послание до людей, но рассказ должен поработать со мной здесь. Ему стоит вести себя менее скромно.
Первое, что необходимо пересмотреть в отношении рассказа, – это его роль «ассистентки Большого Романа»; тренировочного забега, разминки. Недавно я расписывала достоинства одного особенно великолепного рассказа Эдит Перлман – моей подруге, работающей в крупном издательстве, – и она прервала меня на полуслове, сказав, что не хочет даже слышать об этом. «Вот я сейчас влюблюсь, – сказала она с горечью в голосе, – но все равно не смогу купить эту рукопись; а если и куплю, книга все равно не будет продаваться». В издательском деле рассказы ассоциируются с чем-то романтичным и безнадежным. В редких случаях, когда издательство все же не выдерживает и покупает сборник рассказов, то делает это с непременным условием, что следом автор должен написать роман – другими словами, то, у чего есть шансы окупиться. Но стоит ли загадывать так сильно наперед, чем дело кончится? Любите рассказ за то, чем он является: несколько славных страниц, которые приведут вас туда, где вы и не предполагали оказаться. Рассказ не обязан быть частью сборника и уж точно не пытается выдать себя за роман. Откуда вообще взялась идея, будто автор рассказов – это нераскрывшийся романист? Принимают ли спринтера в команду лишь при условии, что также он пробежит марафон? Конечно, многие писатели делают то и другое, и некоторые писатели делают то и другое хорошо, но мне всегда очевидно, когда рассказ написан романистом или когда рассказ пытаются растянуть до романа. Есть горстка людей, которые, как мне кажется, равно хороши в своих талантах, и первый из них Джон Апдайк: он, вероятно, смог бы выиграть спринт на сто метров так же ловко, как и бег по пересеченной местности.
Это был настоящий вызов – выбрать лишь двадцать историй из тех примерно 120, что я получила. Там было столько блестящих рассказов, что я с куда большей радостью выбрала бы тридцать, а то и сорок; также я знаю, что не смогла бы выбрать двадцать лучших романов 2006 года. Чем же объясняется такое количество отменных рассказов? (Стоит заметить, что на самом деле это сборник не лучших американских рассказов. Это рассказы, которые больше всего понравились мне, а я предвзята и уперта. Гениальность задумки и, конечно же, причина долголетия этой серии заключается в том, что она опирается на приглашенных редакторов, меняющихся каждый год, и у каждого свое представление о том, что такое хороший рассказ; стоит им войти во вкус роли отборщика «лучшего», их сменяет другой писатель, точно так же уверенный в непогрешимости собственных суждений. Такие уж мы люди, писатели, – знаем, что именно нам нравится, когда дело доходит до письма.) Возможно, рассказ проще написать, нежели роман, но, поломав кости и на том и на другом, сама я не столь в этом уверена. Думаю, дело скорее в том, что рассказы – в большей степени расходный материал. Потому что они короче, автору проще учиться на собственных ошибках, и он отбрасывает как плохие, так и вполне терпимые. Знание того, что что-то можно отбросить, провоцирует на больший риск, и это, в свою очередь, обычно приводит к совершенствованию стиля. Грустно выбрасывать плохой рассказ, но в конце концов это всегда приносит облегчение. С другой стороны, для того, чтобы избавиться от плохого романа, нужно немало самоотверженности. В роман вложено столько времени и усилий, что писатель порой героически борется за его публикацию, даже когда для всех было бы лучше назвать это попыткой самообразования и приступить к другой книге. Я знаю многих людей, которые опубликовали свой первый роман. Я не могу вспомнить ни одного, кто бы опубликовал свой первый рассказ.
Так почему, если то, что я вам говорю, правда – давайте в целях этого предисловия предположим, что так оно и есть, – почему все больше людей не выбегает из дома, чтобы купить новый номер «Харперс», и не пролистывают от оглавления сразу к рассказу. Рассказы меньше стоят, часто они лучше написаны, они требуют меньше времени. Почему же мы недостаточно глубоко им преданы? Опасаюсь, что это каким-то образом связано с неспособностью рассказа создавать ажиотаж. Будучи романистом, я бы сказала, что читаю гораздо больше среднего количества (чтобы под этим ни подразумевалось) романов в год. Меня не нужно долго уговаривать, чтобы убедить прочесть что-нибудь новое. Я прочту роман из-за убедительной рецензии, по рекомендации друга или даже если мне просто понравится обложка. Я прочесываю стенды летнего чтения в книжных магазинах, чтобы заполнить бреши в моем образовании. Я непременно возьму в руки что-то, что всегда хотела прочесть («Самопознание Дзено» ждет меня на прикроватном столике, а сколько еще Диккенса не прочитано). Но все, что я намереваюсь прочесть, и почти все, что я прочла, каким бы странным оно ни было, так или иначе изначально привлекло мое внимание. И напротив, рассказ, опубликованный вне сборника – в газете или в литературном журнале – не может предложить ничего, кроме имени автора и, возможно, броского названия, чтобы привлечь ваше внимание. Лишь на самых крупных площадках рассказу удается заполучить еще и иллюстрацию. Он не выскакивает, чтобы схватить вас за руку. Он ждет вас. Ждет, и ждет, и ждет.
Если только вам не посчастливится однажды стать редактором «Лучших американских рассказов». Потому что тогда как отдельно взятый рассказ может переживать свои нелучшие времена – не создает достаточно шума, чтобы заглушить шум цивилизации, – рассказы, собранные в одном месте, могут иметь тот же эффект, что и рой пчел: упразднять другие звуки, затмевать солнце и оказываться тем единственным, о чем вы способны думать. Поэтому, хотя не в моих правилах указывать на то, в чем мне повезло больше, нежели вам, должна сказать, в этом случае мне и правда повезло, если только в ваш почтовый ящик не приходят регулярно сборники рассказов. И даже если у вас есть истории, присланные по почте, скорее всего, их отправила не Катрина Кенисон Льюэрс, и именно в этом мое подлинное преимущество. Ладно бы я просто получила некоторое количество рассказов – хороших, плохих, – но нет, эти рассказы были внимательно и любовно отобраны из целого моря тех, что вышли со времени публикации последнего сборника «Лучшие американские рассказы». Катрина занимается самой трудоемкой частью проекта, продираясь сквозь скучную и плохую прозу, чтобы найти драгоценные камни и отослать их мне. Она прочла все, чтобы мне достались только хорошие тексты, а я читала их, чтобы собрать воедино те, которые посчитаю лучшими. Истории появлялись на моем пороге в мягких конвертах – непрерывный поток беллетристики, которую я складывала штабелями вблизи стратегических объектов, таких как ванная комната и задняя дверь. Когда в вашем доме оказывается много рассказов, они образуют толпу. Чем больше я читала, тем больше мне хотелось читать, тем больше рассказов я рекомендовала друзьям, тем больше рассказы создавали свою собственную шумиху, просто в силу многочисленности, разнообразия и исключительности. Каждая история становилась актом общения, полноценным, самостоятельным опытом, ограниченным малым количеством страниц. Где бы я ни оказалась, меня больше не смущало длительное ожидание, ведь со мной были рассказы. Я пошла дальше: воскресным утром встала в бесконечно длинную очередь на автомойке, достала из бардачка рассказ и принялась читать. Я смогла отложить прочую работу, потому что в тот период моей работой стали рассказы. Я не чувствовала даже малейшего укола вины за то, что целыми днями лежу на диване и читаю. Что вообще может быть лучше? У меня было такое чувство, будто я провела целый год в языковом лагере с системой полного погружения, а в конце могла бегло говорить на языке малой прозы.
Конечно, новичком я не была. Я могу отследить мои отношения с рассказом начиная с моих первых читательских шагов, но подлинная связь возникла, когда мне было двенадцать, в год, когда я прочла «Благотворительный визит» Юдоры Уэлти. До этого были и другие рассказы, которые мне нравились: «Ожерелье» и «Дары волхвов» – прозаический минимум, основа среднего образования по литературе; но «Благотворительный визит», хотя это была история о маленькой девочке, показался мне исключительно взрослым. Читатель этого рассказа не был в конце вознагражден лихим сюжетным твистом или ясным моральным выводом. Но больше всего меня поразило, что у этой писательницы, чья фотография и краткое жизнеописание предшествовали тексту, после имени стояла лишь дата: 1909 год, дальше тире, за ним – ничего. Снова и снова я возвращалась к этой фотографии, чтобы увидеть вытянутое кроткое лицо автора. Она была жива и помещена в учебник – такого я раньше никогда не видела. Как бы я ни была уверена к своим двенадцати годам, что хочу стать писателем, я вовсе не была уверена, что это делают живые люди. Рынок рассказов был забит мертвецами, и Юдора Уэлти, насколько я могла судить, первой пробила брешь. В начале седьмого класса я решила связать свою судьбу с живыми и выбрала Юдору Уэлти своей любимой писательницей. Четыре года спустя, когда мне было шестнадцать, мисс Уэлти приехала с чтениями в Вандербильт. Я приехала пораньше и села в первом ряду, держа в руках увесистый сборник ее рассказов в твердом переплете, который мама подарила мне на день рождения. Это были первые публичные чтения, которые я посетила и, когда все закончилось, я попросила подписать мне книгу. Я открыла ее не на той странице, она посмотрела на меня и сказала: «Нет-нет, дорогуша. Подпись должна стоять на титульном листе». Она взяла у меня книгу и сделала все по правилам. За чистую, останавливающую сердце силу, за это чудо, изменившее мою жизнь, я противопоставлю этот опыт опыту любого, кто видел живьем «Битлз».
Впечатления, которые мы получаем в детстве, когда наш ум мягок и податлив, как губка, вероятнее всего, продержатся дольше остальных. С тех пор как в седьмом классе я увидела фотографию живой и невредимой Юдоры Уэлти, уже не могла отделаться от мысли, что авторы рассказов – знаменитости и что сами по себе рассказы способны менять жизни. Мне кажется, это в человеческой природе – пытаться убедить других, что наши самые страстные убеждения – истинные, чтобы другие тоже могли познать радость наших самых глубоких воззрений. В то утро, когда по радио объявили, что мисс Уэлти умерла, я стояла на кухне и готовила завтрак. Был июль 2001 года, комната была залита светом. Я позвонила своему хорошему другу Барри Мозеру, иллюстратору, который работал с ней над самым запоминающимся изданием «Жениха-разбойника», и сказала, что приеду на похороны. Он сказал, что будет ждать меня. Ночь перед похоронами я провела со свекровью в Меридиане, штат Миссисипи, а утром довольно быстро доехала до Джексона. Шел проливной дождь, что сделало последний этап моей поездки мучительным, но, как только я добралась до города, погода утихомирилась, небо прояснилось. Я заехала за Барри и его женой Эмили, и вместе мы отправились в церковь – за два часа до начала похоронной мессы. Мы приехали так рано, потому что были уверены, что это единственный способ занять место – я думала, люди не поместятся в церковь. Я была готова стоять на улице, но мы пришли самыми первыми. И хотя в конце концов церковь заполнилась людьми, по краям все еще оставалось несколько свободных мест. Гроб казался мне крошечным, но мисс Уэлти, которая никогда не была высокой, в последние годы усохла. Есть немало историй о том, что она едва выглядывала из-за руля своей машины. Если вы когда-нибудь бывали в Миссисипи в июле, вы знаете, что там никуда не деться от жары, и все же в тот конкретный день дождь, который при обычных обстоятельствах лишь ухудшил бы ситуацию, каким-то образом сделал ее лучше. Когда мы подошли к могиле, температура была не выше 24 градусов, и это было нечто, максимально близкое к божественному вмешательству из всего, что я когда-либо испытывала. Когда героя моей жизни закапывали в землю, я тихонько плакала, стоя среди друзей, бывших на кладбище. Ко мне подошла женщина и представилась как Мэри Элис Уэлти-Уайт. Конечно я знала ее. Мои любимые «Избранные рассказы» были посвящены ей и ее сестре, Элизабет Уэлти-Томпсон. Я видела ее имя каждый раз, когда открывала книгу. Мэри Элис Уэлти-Уайт спросила, как меня зовут. Она спросила, была ли я подругой ее тети, я ответила, что нет. Я сказала, что я была ее преданной читательницей и пришла засвидетельствовать почтение. Она спросила, откуда я приехала. Затем взяла меня за руку. «Вам нужно кое с кем познакомиться».
Мы шли маленькими шажками: земля была мягкой, а мы обе на каблуках. Она привела мне к ряду машин, припаркованных за кладбищем, и группе подростков, прислонившихся к этим машинам. Они ослабили галстуки, сняли пиджаки. Они уже были готовы убраться оттуда.
Она представила меня одному из парней. Хотя было не похоже, что он горит желанием с кем бы то ни было знакомиться «Это Энн Пэтчетт, – сказала Мэри Элис. – Она приехала из Нэшвилла на похороны твоей тети Додо. Они даже не были знакомы, а она проделала такой путь. Вот насколько значительным человеком была твоя тетя Додо».
Мы с мальчиком обменялись неловкими репликами и рукопожатиями. Мэри Элис поблагодарила меня, что я приехала. Даже на похоронах величайшего мастера рассказов нашего времени члену ее собственной семьи нужно было напоминать, кто она такая. Рассказ никогда не привлекал к себе много внимания, но перед лицом его исключительности, думаю, пришло время отдать ему дань уважения.
«Лучшие американские рассказы» – это Олимп сторителлинга. Это пятнадцать минут славы рассказа, я благодарна «Хоутон Миффлин» и Катрине Кенисон Льюэрс за то, что их стараниями рассказ, по крайней мере один раз в год, становится краеугольным камнем. Что касается этой конкретной подборки, я питаю слабость к уравнительному эффекту алфавита. Мне кажется, это самый справедливый способ расположить тексты. Несмотря на то что в этом году алфавит диктует нам поставить первой Энн Битти и хотя она безусловно заслуживает этого как писатель, ее рассказ, который скорее ближе к повести, – высочайший образец и впечатляющий пример гениального творческого мышления – казался тем самым отвесом, в котором книга нуждается в конце. И, вопреки алфавиту, прекрасный рассказ Пола Юна «Однажды на берегу», – кстати, это первый рассказ, который он опубликовал, и первый, который я выбрала для сборника, – оказывается в самом начале. Когда я была девочкой и посещала католическую школу, монахини часто так с нами поступали – выстраивали, а потом заставляли меняться местами: чтобы первый стал последним, а последний – первым. Мне кажется, это хорошая метафора для жанра рассказа. Достаточно смирения. Становись во главу угла.
2006
Непрерывная любовь
Люди всегда из кожи вон лезли, чтобы сообщить мне, какая это удача, что я могу столько времени проводить с бабушкой. Стоило мне упомянуть, что я должна отвезти ее за покупками или на прием к врачу, или что она ждет меня, поэтому мне надо бежать, как кто-нибудь непременно пускался в долгие рассуждения о моем счастливом жребии. «Моя бабушка живет в Пеории, в Такоме, в Нью-Брансуике… – говорили они. – Мы видимся от силы раз в год. А сейчас прошло уже целых три… На прошлое Рождество не получилось съездить домой, но думаю о ней все время». Дальше следовали многочисленные охи и вздохи. Как жаль, что время и расстояние разлучили имярека с его пекарем-кондитером, хранителем счастливых детских воспоминаний! Мне клали руку на плечо. От меня не должен был ускользнуть смысл сказанного. «Радуйся каждой минуте. Впитывай ее мудрость. Как бы мне хотелось оказаться на твоем месте».
Затем они отправлялись на обеденные свидания и теннисные корты, а я садилась в машину и ехала к бабушке.
Советы, которые я получала почти от каждого (внуки мертвых бабушек были в этом смысле ничуть не лучше, а то и хуже), лились бесконечным потоком и невероятно меня раздражали, – так во время готовки на День благодарения раздражает тот, кто, прислонясь к дверному косяку, говорит, как мило ты выглядишь, вытаскивая индейку из духовки. Хуже всего то, что я сама планировала стать одной из таких людей. Планировала жить вдали от семьи и нестерпимо по ним скучать. Была твердо намерена ужасно переживать, что не была рядом с бабушкой в годы ее угасания, – я любила бабушку, любила сильнее, чем кого бы то ни было, так же сильно, как она любила меня. В том далеком городе, где я поселюсь навсегда в силу вынужденных обстоятельств, я буду встречать идеальных незнакомцев, которые с нежностью заботятся о своих дорогих стариках, и почувствую такой укол зависти, что буду вынуждена сказать: «Цени, что имеешь! Она с тобой не навсегда. Мне остается лишь жалеть, что мне самой повезло меньше».
В 1994-м мне было тридцать, и моя стипендиальная программа в Рэдклифф-колледже подходила к концу. Бабушке было восемьдесят пять, и она жила в маленькой квартирке рядом с домом моей матери. К тому моменту она прожила там восемь или девять лет. Все эти годы, находясь вдали, я писала ей письма и регулярно звонила. Приезжала домой погостить. Посылала книги, подарки. Если бы существовала некая оценочная шкала отношений с бабушкой на расстоянии, я занимала бы твердую позицию выше среднего. Я была чрезвычайно горда собой. Но затем случилось нечто непредвиденное. По пути в Лос-Анджелес, где я собиралась начать работу над книгой о местном департаменте полиции, я заехала в Нэшвилл и пробыла там дольше обычного. Помимо прочего, начала встречаться с мужчиной по имени Карл. Он нравился мне, хотя и жил в городе, где я выросла, и, соответственно, не планировала связывать свою жизнь с этим местом. Из-за Карла, из-за перспективы чего-то, что может на некоторое время меня развлечь (а также потому, что у меня не клеилось с книгой), я в конце концов решила временно отложить переезд на запад. Рассматривала это как своего рода отсрочку. Сняла однокомнатную квартиру на полгода, взяла из маминого подвала старую кровать и письменный стол и начала писать новый роман. Сунула ногу в смоляную яму в надежде, что это сойдет мне с рук.
Вернуться в Нэшвилл было хорошо в первую очередь потому, что мне предстояло проводить время с бабушкой. Я покупала кошмарные рыбные палочки в «Капитане Ди», которые она любила есть на обед, и вместе мы смотрели сериал, а затем проходили милю по окрестностям. Или мы пренебрегали прогулкой и проводили час, толкая тележку между торговых рядов магазина «Таргет».
– Хизер всегда ходила в «Уолмарт», – задумчиво проговорила бабушка во время одной из таких вылазок, полагая, что в «Волмарте» было подешевле, потому что там грязно и ехать до него дольше.
– Но теперь она живет в Миннесоте, – ответила я. Моя сестра, о которой раньше можно было подумать, что она останется в Нэшвилле навечно, внезапно взяла на себя роль в буквальном смысле дальнего родственника. – Ты обречена на мое общество.
Ее взгляд скользнул по пачке тонких мочалок, которые всегда ей нравились, но она прошла мимо.
– Хизер тщательно выбирала, что купить. Мы могли пойти в магазин тканей и весь день рассматривать узоры. Ты не такая. Ты знаешь, что тебе нужно, идешь и покупаешь.
– Можем сходить в магазин тканей, – сказала я.
Но бабушка не обращала на меня внимания. Она все еще взвешивала в уме все за и против касательно того, чье общество ей больше подходит, мое или сестры, прекрасно понимая, что обеих сразу ей не заполучить. Она решила дойти до самой сути.
– Ты никогда не опаздываешь. Если Хизер говорила, что приедет к десяти, раньше полудня ее можно было не ждать. Как же меня это выводило.
– Вот именно.
– По пути домой мы с ней всегда останавливались поесть мороженого. С тобой – ни разу, – здесь ей пришлось хорошенько поразмыслить, потому что мороженое она любила. – Но так даже лучше. Ни одной из нас лишние калории ни к чему.
В 1994-м моя бабушка ездила со мной за покупками в «Таргет». После бесконечных уговоров ее можно было раз в год затащить в универмаг, чтобы примерить одежду. Она могла прошагать милю. Она была способна понять, о чем речь в телепрограмме и высказать мнение касательно того, что хочет на обед. Она могла вспомнить о своих племянницах в Канзасе, найти в телефонной книжке их номера и позвонить им, чтобы поболтать. Она сама управлялась со стиркой, пользовалась зубной нитью, вместе с соседкой ездила на ежемесячное собрание по изучению Библии, хотя не была религиозна. Теперь все это кажется мне таким непостижимым, что с тем же успехом я могла бы сказать, что моя бабушка в свои восемьдесят пять лет ходила по канату или, сидя в гостиной, строчила математические доказательства. В те безмятежные дни в «Таргете» ни одна из нас об этом не догадывалась, но наступало время, когда способности и радости жизни моей бабушки будут постепенно исчезать одна за другой.
Как это часто бывает в жизни, прежде чем начать свой стремительный спуск с холма, бабушка долго и медленно поднималась к вершине. Эва Мэй Нельсон, предпоследняя из девяти детей, родилась в Огдене, штат Канзас. Семья жила в заброшенной гостинице, и детям было запрещено даже близко подходить к комнатам, где провалился пол. Младшие проводили дни, играя на верхнем этаже, который когда-то был бальным залом. Там, наверху (где все оставалось нетронутым), они могли делать все, что заблагорассудится: поднимать на длинной веревке ящики с камнями и землей, рисовать на стенах. Когда Эве исполнилось девять, мать отправила ее на несколько лет в Канзас-Сити – пожить со старшим братом Роем и его женой Сарой. Детей у них не было, а один был нужен, чтобы освободить Роя от призыва на Первую мировую войну.
Эва Нельсон была красивой девочкой. Я видела фотографии. Субботними вечерами солдаты из Форт-Райли выстраивались в очередь, чтобы потанцевать с Эвой и ее сестрой Хелен. Вместе со старшими сестрами Мэри, Энни и Дейзи они управляли домашней прачечной: рассказывали друг другу анекдоты, кипятили воду в чанах и развешивали тяжелые мокрые простыни на веревке для просушки. Эва нашла работу в городе в «Коффи Кап», где сперва работала официанткой, затем менеджером ночных смен. Она часто рассказывала мне историю о докторе, заказавшем кусок яблочного пирога и ломтик чеддера, и как она отказалась его обслуживать, потому что в штате Канзас подавать пирог с сыром было запрещено – сочетание считалось смертоносным. Позже она устроилась на работу получше – гувернанткой девочки по имени Хуанита. Родители Хуаниты переехали в Калифорнию, и позже Эва должна была привезти ребенка на поезде. В Калифорнии она встретила моего деда, вдовца с двумя детьми, нуждавшегося в хорошей надежной девушке из Канзаса, чтобы присматривать за ними.
Каждый день я ездила к бабушке обедать, пока мама была на работе. Где-нибудь по пути от своего к ее дому покупала большой сэндвич, и мы делили его. Каждый день она говорила, что мне не стоит тратить столько денег на сэндвичи. Я брала ее в продуктовый магазин и, толкая тележку вдоль рядов, задавала одни и те же вопросы: «Взять тунца? Кашу будешь? Как насчет яблок?» Но вскоре это потеряло смысл: она не говорила, что ей нужно. Все ей было не так. Ее зрение ухудшалось, и она приходила в ужас каждый раз, когда я от нее отходила, даже чтобы взять с полки банку арахисовой пасты в двух шагах. «Думаешь, я забуду, что взяла тебя с собой? – говорила я. – Оставлю тебя здесь?» Я заполняла за нее чек, а она подписывала, но затем и это стало слишком трудно. Ей казалось унизительным быть не в состоянии написать свое имя и при этом не вылезти за строку, или не уместить на бланке свою фамилию. Все чаще и чаще мы полагались на наличные.
– Это моя внучка, – говорила она скучающей тинейджерке за кассой. – Не знаю, что бы я без нее делала.
Я улыбалась, отсчитывая мелочь: «Ты никогда не узнаешь».
Несколько месяцев спустя бабушка отказалась ходить со мной за продуктами. Сказала, что устала от всего этого. Затем она перестала давать мне список покупок, так что я покупала еду, которая, как мне казалось, может ей понравиться. С каждым днем Лос-Анджелес удалялся от меня. Я завела собаку, сняла квартиру получше. Становилось все очевиднее, что я никуда не уеду.
Дело было не в Карле; мы, кстати тогда вообще расстались. Просто я не могла представить, как говорю бабушке, что больше не заеду к ней на обед. Я не могла представить, как говорю маме, которая брала на себя львиную долю забот – записывала бабушку к врачам, оформляла страховки, готовила ужин, – что уезжаю. Не могла сказать маме и бабушке, что они теперь сами по себе, – в частности потому, что я писательница, а уж эту работу можно делать примерно везде. И я осталась. Мы снова начали общаться с Карлом, и через какое-то время снова сошлись. Я всегда говорила ему, что за это он должен благодарить мою бабушку. Если бы не она, я бы не осталась.
Моя бабушка жила в страхе, что я выйду за Карла и рожу ребенка. Стоило мне пожаловаться на головную боль или расстройство желудка после порции жареной рыбы, она тут же делала поспешные выводы.
– Я не беременна, – говорила я ей. – Не была и не буду.
– Не рожай ребенка, – предупреждала она меня. – Тебе оно ни к чему.
Бабушка имела в виду, что она и есть мой ребенок, и другой мне не нужен. Она любила свою дочь, мою маму. Она любила мою сестру и ее детей, но на этом все. Ей было необходимо мое безраздельное внимание. Ее зрение ухудшилось, она больше не могла читать или смотреть телевизор. Какое-то время помогали аудиокниги. Каждую неделю я ходила в библиотеку и выбирала кассеты, которые, по моему мнению, должны были ей понравиться, но вскоре мы отказались и от этого. Она не могла запомнить, как управляться с магнитофоном. Она отказывалась вязать, даже когда я купила ей пряжу пообъемнее и спицы потолще. В приступах отчаяния она пыталась сломать спицы, а затем выбрасывала все в мусорное ведро. Я начала читать ей вслух после обеда. Прочла ей книжку «Перепел Роберт», которую она читала мне в детстве. В конце, когда Роберт умер, мы обе рыдали до болезненного изнеможения. Моя бабушка провела жизнь, заботясь о других людях, готовила для них, наводила чистоту в их домах. Это было ее доказательство собственной ценности. Теперь я убиралась в ее квартире, чем неизменно ее ранила. Она считала это унизительным, как бы тихо я себя ни вела.
Моя всегда спокойная бабушка становилась все более взвинченной. Банковские квитанции и счета от врачей повергали ее в ужас и панику. Вечерами она ждала у задней двери, когда мама вернется домой, и, со слезами размахивая бумагами, говорила, что произошла ужасная ошибка и она ничего не понимает. Иногда маме приходилось успокаивать ее часами. Я начала фильтровать ее почту и, когда днем мы шли к почтовому ящику, изымала предложения о бесплатных кредитках, сообщения о возможных выигрышах, счета, которые стоило отложить для мамы. Все, что содержало цифры, я рассовывала по карманам, потому что цифры, похоже, сводили бабушку с ума.
Именно мама поняла, что разница между хорошим и плохим днем нередко определяется тем, уложены ли у бабушки волосы. Когда она была в отчаянии, ее волосы выпрастывались из заколок и дыбились взъерошенными клочками. Моя мать, которая готовила ужин для своей матери и по вечерам приносила его на подносе, теперь вставала рано утром, чтобы уложить бабушке волосы, прежде чем уйти на работу. Когда ее белые, спадавшие до плеч волосы бывали убраны в аккуратный французский пучок, бабушка, казалось, чувствовала, что держит все под контролем. Нечесаные волосы означали еду на одежде, забытую кастрюлю с выкипевшей водой, дымящуюся на плите, и панические всхлипы по неизвестным причинам.
Здесь от меня не было никакого толка. Я не хотела прикасаться к ее волосам. Я могла готовить, убираться, делать покупки. Я могла отвезти ее на прием к врачу на час раньше, чтобы привести ее в чувство. Когда бы она ни позвонила, я могла оставить работу, если была нужна ей, чтобы починить радиоприемник или собрать осколки стеклянной банки с патокой на кафельном кухонном полу. Я могла целовать, обнимать ее, дважды в месяц вставать на колени, чтобы распарить ей ноги и подстричь ногти. Я могла делать все, что не касалось ее прически.