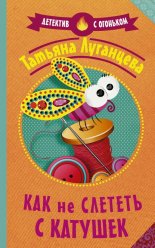Это история счастливого брака Пэтчетт Энн

2003
Стена
Май 1992-го, вскоре после окончания массовых беспорядков из-за Родни Кинга[11] Тед Коппел ведет телевизионный репортаж из развалин Южного Лос-Анджелеса. В двадцати милях оттуда, в Глендейле, мы с отцом сидим в его берлоге, смотрим телевизор, пьем джин с тоником. Коппел говорит, отец объясняет. Он знает их – не репортеров, а тех, о ком идет речь. Некоторых лучше, некоторых хуже. Большинство из молодняка ему не знакомы, но он знает их тип, знает, что у них в голове. Мой отец проработал в департаменте полиции Лос-Анджелеса тридцать два года, на пенсию вышел в 1990-м в звании капитана третьего класса – за год до того, как несколько полицейских избили Родни Кинга, до того как была обнародована видеозапись[12], до того как по результатам длительного судебного дела полицейских оправдали и заполыхали целые районы Лос-Анджелеса.
Когда на экране появляется шеф полиции Дэрил Гейтс, мой отец кивает в сторону телевизора. «Этот никогда никого не слушал и ничьим советам не следовал. Он сделал много хорошего для города, ошибался, конечно, тоже немало, но все это теперь не важно. Теперь его будут помнить только за одно».
Я смотрю на отца, который смотрит телевизор, и думаю, что речь не только о Гейтсе. Моего отца тоже будут помнить именно за это, хотя все случилось уже после его ухода; хотя он был хорошим полицейским, вполне возможно отличным, выдающимся полицейским, поступившим на службу в славные дни шефа Паркера и сериала «Облава». Он был человеком, отдавшим полицейскому департаменту тридцать два года; в свое время это значило, что он мужественно и преданно служил своему городу, а теперь – что он расистская мразь.
Когда я росла, на свете не было места лучше, чем Полицейская академия: каменные лестницы, красная черепичная крыша, длинный голубой бассейн, протянувшийся в тени эвкалиптов. Здание будто бы врезано в склон холма над Елисейским парком. Мне нравилось представлять, как мой отец, задолго до моего рождения, молодой и красивый, взбегал по этим бесконечным ступенькам в аудиторию. Каждый раз, когда я бывала в городе, мы ходили в академию обедать. Именно туда мне хотелось прежде всего. Мне нравились фотографии Джека Уэбба, выставленные в витрине напротив кассы в кафе, нравились курсанты в темно-синих свитерах, поедающие салаты за стойками (салаты, говорил мне отец, потому что все остальное не усваивается организмом, когда приходится бежать двенадцать миль в полуденную жару). Мы ели бутерброды с тунцом, картошку фри и пили пиво. Как правило, мне нравились копы, подходившие к нашему столику во время обеда, чтобы засвидетельствовать отцу свое почтение. Большинство из них называли его «капитан Пэтчетт». Некоторые говорили «кэп», а исключительное меньшинство, те, что были ему ровней, называли по имени. Когда они отходили, отец рассказывал мне его или ее историю – как вон тот только что сдал экзамен на лейтенанта, какую вот этот провел прекрасную работу с несовершеннолетними. Он рассказывал мне о делах, над которыми они работали, о рисках, на которые шли, о преступлениях, что они раскрыли. Мужчины и женщины, подходившие к нашему столику, были веселыми и умными, иногда лихими. Уверена, что эти обеденные реверансы не давали полного представления о жизни полицейского участка. Возможно, плохие копы не подходили к нашему столу, или же отец предпочитал не рассказывать мне об их неудачах и недостатках. Так или иначе, мое представление было составлено с весьма привилегированного наблюдательного поста и основано на том, что я видела; я выросла, полагая, что все полицейские трудолюбивы и храбры, как мой отец.
Тот выпуск «Ночного эфира» побил все рейтинги. Вряд ли я была единственной, кто тогда думал о Лос-Анджелесе и его полиции. Они заняли особое место в коллективном воображении страны. Есть что-то успокаивающее в том, чтобы знать, кого ненавидеть, а кого любить, и тем летом объектом ненависти стала лос-анджелесская полиция. Прошли те дни, когда мы знали полицию по сериалам «Облава» и «Адам-12». Теперь мы узнавали о ней из минутной видеозаписи, которая непрерывно крутилась в вечерних новостях.
Примерно месяцем ранее я зашла в «Баскин Роббинс»; на мне была старая футболка с эмблемой департамента полиции. Дело было в Теннесси. Я возвращалась с пробежки и не думала о том, что на мне надето, но парень за стойкой сказал, что ему не особо хочется продавать мне мороженое. Затем, повысив тон, он спросил меня, а не куклуксклановец ли я, часом. Вечер был жарким, забегаловка полна народа, и все уставились в мою сторону. Я вышла, так и не получив мороженого, и, возвращаясь домой, бежала немного быстрее, несомненно, дав парню за прилавком почувствовать, что он постоял за правое дело. Я смотрела ту видеозапись. Я прекрасно понимала, за что можно не любить полицейских. Но то, что я не вступила в диалог в «Баскин Роббинс» (впрочем, что я могла ответить?) ощущалось мной как неспособность защитить отца.
Хотя уж он-то не нуждается в защите, о чем первый бы вам и сообщил. Он был третьим из семерых детей, и первым, кто родился в этой стране, после того, как его родители эмигрировали из Англии; первым, кто родился в Лос-Анджелесе. Он вырос в многолюдном бедном католическом квартале рядом с парком Макартура, где местными героями были священники и копы. В юности отец провел некоторое время в семинарии, но вскоре обнаружил ее минусы. И тогда он пошел в полицию. В последующие годы мой отец водил патрульную машину и фургон вытрезвителя. Он был личным охранником шефа Паркера. Он был детективом, работал в отделе по борьбе с наркотиками и занимался внутренними расследованиями. Он возглавлял несколько подразделений, в том числе «Ньютон» в Южном Централе, а это уж точно не работа мечты. Именно он установил связь между убийствами Шерон Тейт и семьи Ла-Бьянка и отправился в пустыню за Чарльзом Мэнсоном. Он задержал Серхана Серхана в ночь убийства Бобби Кеннеди и участвовал в последующем расследовании. Он служил своему городу и хоронил друзей, которые тоже служили своему городу. Видеозапись, которую в тот вечер крутили в новостях, рассказывала правдивую историю, но это была не единственная правда.
И все же, несмотря на ярость в отношении полицейских сил, Полицейская академия Лос-Анджелеса осталась одной из самых престижных в стране. Туда до сих пор невероятный конкурс. Я всегда понимала, почему мой отец захотел стать полицейским в Лос-Анджелесе, но в нынешней сложившейся ситуации я сама задаюсь вопросом, почему кто-то до сих пор хочет получить эту работу. Вас будут ненавидеть не только жители вашего родного города. Жители Нью-Йорка и Чикаго, этих рассадников полицейского произвола, тоже будут вас ненавидеть. Перспектива получить хорошую пенсию не кажется достаточной, чтобы поступать на эту неблагодарную и опасную службу.
Это, думаю я про себя в момент откровения, отличная идея для книги. Это может стать моей первой большой работой нон-фикшн. Залпом выпиваю джин с тоником. Тед Коппел все еще говорит, когда я начинаю излагать свою идею отцу. Формулирую прямо на ходу.
– Ты хочешь работать в полиции? – спрашивает меня отец.
– Ни в коем случае.
– Но ты хочешь попытаться сдать тест?
Он очевидно польщен, и меня это удивляет. Да, говорю, хочу сдать экзамен, хочу поступить в Полицейскую академию и написать об этом. Мне интересно узнать о работе, которую хотят получить эти люди, но также мне интересно узнать о работе моего отца. Мне интересен мой отец, с которым мы так близки, но с которым проводили очень мало времени вместе.
Погостив у отца, я возвращаюсь в Кембридж, где мне предоставлена резиденция по стипендиальной программе в Институте Бантинга при Рэдклифф-колледже. Пока студенты Гарварда проводят дни в аудиториях и ночи в библиотеках, я начинаю свой собственный курс обучения. Моя цель – найти нечто более сильное и выносливое в собственном теле. Я плаваю в бассейне до полного изнеможения, а затем отправляюсь на пробежку вдоль реки Чарльз. Начинаю ощущать расстояние между мостами и коротко киваю людям, которых встречаю каждый день на своем пути в одно и то же время. Меня предостерегают по поводу пробежек. Советуют не бегать ранним утром или поздним вечером, бегать только там, где бегают другие, но я не прислушиваюсь к советам. Я начинаю понимать, чего мне действительно стоит бояться, – самой по себе затеи поступить в Полицейскую академию Лос-Анджелеса.
Обучение, которое когда-то сводилась к запоминанию дат сражений и смен президентов, теперь подразумевает преодоление почти двухметровой стены. Это большой камень преткновения для всех желающих поступить в Академию, в особенности для женщин, поэтому я начинаю искать в окрестностях Кембриджа стены, на которых можно попрактиковаться, – для начала какую-нибудь пониже. Выбираю стену возле Кембриджской публичной библиотеки. Выходные, стоит солнечная погода, я жду на другой стороне улицы, когда проедут машины, а затем беру разгон, чтобы взлететь на стену. Это неестественно – перепрыгивать через стену, и чаще всего я просто в нее врезаюсь. У меня кровоточат ладони. Ноги и предплечья в синяках. Собирается небольшая толпа зевак, стонущих над моими неудачами, пока я наконец не сдаюсь. Мне хочется того же, что и любому, кто пытается в чем-то преуспеть, – отсутствия свидетелей, но я не знаю ни одной двухметровой стены в Бостоне, построенной посреди пустынного поля. Лучшая стена, которую я могу найти, окружает Гарвардскую школу богословия. Я отправляюсь туда поздно вечером, самозабвенно тыча в кнопки плеера, пока не расходятся гуляющие парочки и собачники, а затем бегу, так быстро, насколько позволяет узкая улица, и наконец атакую стену в прыжке, цепляясь пальцами за шероховатые края. Подтягиваюсь, подтягиваюсь, пока наконец, к моему собственному удивлению, не оказываюсь на вершине. Присаживаюсь ненадолго, смотрю на сады с той стороны и думаю о своем отце, который, в двадцать пять лет уволившись из флота и работая в винном магазине, ничего не хотел так сильно, как получить престижную работу в полиции Лос-Анджелеса. Мне тридцать лет.
Мой самостоятельный курс перепрыгивания через стены вскоре становится моей второй натурой. Хорошо освоив перепрыгивание через стены, я могу делать это даже в юбке. Впечатляю друзей этим новым крутым трюком. Одолев то, что считается главным препятствием, я начинаю практиковать захват, поскольку упражнения на перекладине – тоже часть экзамена. Подобно перевернутой летучей мыши, я вишу на руках так долго, насколько хватает сил, вишу на гимнастических канатах на детских площадках и наблюдаю, как на моих запястьях напрягаются сухожилия. Сильная хватка однажды поспособствует моему умению обращаться с пистолетом. Я покупаю эспандеры – две пластиковые ручки на тугой металлической пружине, – держу их на рабочем столе и то и дело сжимаю. Пронзительный скрип, который они издают, как пружины в пожилом болезненном матрасе, напоминает мне о том, как я каждое лето проводила неделю с отцом. Мы с сестрой узнавали, что он проснулся, когда слышали скрип эспандера, который он держал на прикроватной тумбочке. Мы выходили на заднюю веранду, где в первые годы после развода отец спал в доме своего отца. Он сидел на краю застеленной кровати в белой футболке и спортивных штанах, хрустя костяшками в устойчивом ритме, пока я не видела, что его руки достаточно размяты. Скрип катушек в моей собственной комнате в Кембридже заставляет меня скучать по нему.
– Будь бдительна, – говорит отец в телефонную трубку. – Пружины быстро изнашиваются. Их нужно менять раз в две недели.
– Они и так меня практически убивают, – говорю я, хотя позвонила не ради этого. Я хочу поговорить о прошлом, а не о мышцах.
– Тебе кажется, что ты стала сильнее, но это просто пружины пришли в негодность. Зажми четвертак между ручками и удерживай его в течение шестидесяти секунд, – говорит он. – Вот в чем разница.
Что я и делаю, во всяком случае, пытаюсь. Я пытаюсь удержать монету на месте, пока смотрю на часы, но мои руки начинают дрожать, и мне приходится выпустить ее.
Когда приходит время возвращаться в Калифорнию для экзамена, отец хочет, чтобы я приехала пораньше. Так было всегда. Любая поездка на запад должна начинаться пораньше и длиться подольше. Он говорит, что мог бы поднатаскать меня перед устным экзаменом, но на самом деле он хочет посмотреть, как я бегаю. На следующее утро после моего прибытия мы идем на территорию Общественного колледжа Глендейла, где я бегаю кругами по дорожке, а мой отец стоит с краю на траве и смотрит на часы. «Пятнадцать секунд», – выкрикивает он, когда я пробегаю мимо: настолько он хочет, чтобы я оторвалась от следующего круга. Пятнадцать секунд – это целая жизнь, и я обращаюсь глубоко внутрь себя, чтобы отказаться от нее. В жизни случались моменты, когда отец мной гордился, но сегодня он просто в восторге от меня. Пока я пинаю пятками спину и пробираюсь мимо других бегунов, мой отец, глядя то на меня, то на свои часы, – полицейский, а я – лучший ученик у него на курсе. Он кричит, чтобы я рванула – бегом! – последние сто ярдов, и мои подошвы выдирают комья мягкой грязи. «Господи, Энн, – говорит он, когда я останавливаюсь. Пока справляюсь с одышкой, он подходит и крепко обнимает меня за плечи. – Ты их всех порвешь».
Я не такой уж выдающийся спортсмен, но в данный момент моей жизни я очень хороший абитуриент. Это экзамен, и я готовилась к нему месяцами.
Отец хочет пойти в Полицейскую академию, чтобы увидеть, как я справлюсь со стеной. Когда мы приходим, то обнаруживаем, что тренировочная стена занята группой женщин в одинаковых толстовках, их фамилии напечатаны большими буквами на спинах. Это слушательницы подготовительного курса для прохождения физкультурного теста. Офицер со свистком на шее ободряюще лает на них. Он инструктирует их, как перебраться через стену, а затем приступает к демонстрации. Несмотря на телевидение, я никогда не видела, чтобы человек перепрыгивал через стену, и он делает это так, как мне никогда не приходило в голову, хватаясь за верх руками, в то время как одна нога находится у его груди. Затем он отталкивается, а не тянется вверх. Отец велит мне встать в очередь к группе в толстовках, но я отстраняюсь, внезапно смутившись. Даже при таком четком наставлении многие женщины барахтаются и падают в своих попытках перебраться. Я жду, пока их отпустят, прежде чем пойти и попробовать. Теперь, когда я полагаюсь на законы физики, а не только на силу верхней части тела, у меня все получается – снова и снова, даже без разбега.
Вечером мы сидим на заднем дворе дома моего отца и мачехи, дома, где я жила, когда это был дом моих родителей. (В течение многих лет после развода отец сдавал его в аренду, а затем снова переехал сюда, когда снова женился.) Не помню, чтобы отец был так счастлив из-за меня, как в тот вечер. Я прошу его рассказать мне: кто был его любимым напарником? Какое дело было самым лучшим в его карьере? Мы говорим о работе полиции до самой темноты, пока моя мачеха, Джерри, не устает и не уходит в дом.
– Тебе бы, конечно, хотя бы на годик остаться, – говорит отец. – Если ты намерена по-настоящему это прочувствовать, примерно столько времени и нужно.
Я отвечаю, что не хочу работать в полиции. Я хочу об этом написать. Я писатель.
С минуту он раздумывает над этим. «А если на два останешься, сможешь попасть в ФБР. И тогда, – говорит он, глядя сквозь лимонное дерево, растущее на подъездной дорожке, – тогда это бомба будет, а не книга».
Отец договорился, чтобы меня взяли покататься с патрульной машиной, пока я в городе. С какой радости копам позволять совершенно незнакомому человеку сидеть на заднем сиденье и задавать вопросы, пока они пытаются работать, для меня загадка, но в Лос-Анджелесе, где режиссеры вечно в поисках идей, а актеры пытаются максимально вжиться в образ, это, в общем, обычное дело. Меня определяют в машину к сержанту Джону Пейджу и офицеру Рэю Мендосе из «Ньютона», подразделения, которое много лет назад возглавлял мой отец. Когда отец посвящает меня в свои планы, я благодарю его. Это звучит очень заманчиво. Но когда, выехав из Глендейла, мы оказываемся в части города, из которой я не знаю, как выбраться, я начинаю нервничать. Когда говорю об этом отцу, он отвечает, что ему это непонятно. С чего мне нервничать из-за того, что я проведу один вечер там, где он проработал много лет?
Отец не был в восторге, когда я вышла из дома в джинсах, белой рубашке (льняной, застегнутой на все пуговицы, под ней – футболка) и кроссовках. Он хотел, чтобы я оделась понаряднее. Они с Джерри собираются на свадьбу кузины и одеты соответствующе. В дежурке они передают меня сержанту Пейджу; он весь в синем, на предплечье татуировка. На вид ему лет пятьдесят, седой, с аккуратными усами. Они обмениваются буквально парой реплик – отец с мачехой спешат, чтобы успеть до пробок. Я иду за сержантом Пейджем по коридору, он представляет меня тем, кто встречается нам по пути. «Дочка Фрэнка Пэтчетта. Помнишь капитана Пэтчетта?» – «Еще бы не помнить! Как там папа?» Перед отъездом сержант Пейдж должен закончить бумажную работу, в том числе дать мне подписать несколько форм, подтверждающих, что сегодня вечером я на собственном попечении. Сержант Пейдж предлагает мне пока погулять, осмотреться, познакомиться с кем-нибудь.
Станция «Ньютон» находится на Четырнадцатой улице, недалеко от Саут-Централ-авеню, в паре миль от центра Лос-Анджелеса. Ее зона ответственности охватывает около девяти квадратных миль, включая Южный парк и квартал социального жилья Пуэбло-дель-Рио. Внутри – зеленое ковровое покрытие с большими проплешинами. Стоящие рядами столы так прижаты друг к другу, что любая попытка протиснуться между стульями требует настоящего маневрирования. И, как мне сказали, то, что я сейчас вижу, – улучшение. Некоторое время назад столы стояли так плотно, что два офицера, сидевшие спина к спине, не могли одновременно выдвинуть свои стулья, чтобы встать. Со временем было решено, что это нарушение техники пожарной безопасности, но и сейчас место кажется мне не слишком безопасным. Картонные картотечные коробки башнями громоздятся вдоль стены; над ними несколько темных окон, расположенных слишком высоко, чтобы из них что-то можно было разглядеть. Немного свободного пространства на стене покрыто мужскими галстуками. Это часть обряда посвящения – срезать галстуки с парней, которые становятся детективами, тех, кто, получив повышение, покидает станцию «Ньютон», и приделывать их к стене. Стройный молодой чернокожий мужчина в красной футболке – руки за спиной скованы наручниками – сидит на полу и ждет. Он отвечает на эпизодические вопросы офицера, печатающего отчет. Вежливо передвигает ноги, чтобы пропустить меня.
На станции «Ньютон» всего две камеры предварительного заключения. Нехватка камер восполняется наличием длинной деревянной, видавшей виды скамьи, до такой степени затертой, что она вполне могла бы продаваться в антикварной лавке в колониальном Уильямсбурге. Она стоит в дальнем коридоре, ведущем на парковку; привинчена к полу, к ней приделана дюжина наручников. Трое мужчин и две женщины, все чернокожие, пристегнуты к ней. Сама скамейка не была приделана к полу, пока несколько лет назад один из подозреваемых не покинул здание, волоча ее за собой. В течение вечера, когда я прохожу по этому коридору, персонажи меняются, они выглядят скучающими. Полное отсутствие эмоций по обе стороны места действия странным образом успокаивает.
Над каждым столом – полка, набитая пластиковыми трехкольцевыми переплетами. Хранилище мертвых душ. Под стеклом на одном из столов лежит учетная карточка с фотографией Измаила Мартинеса – дата его смерти отстоит всего на несколько дней от даты его пятнадцатого дня рождения. Худое мальчишеское лицо; хоть он и пытается смотреть в камеру угрожающе, ему это не удается. На карточке указаны дата его рождения и домашний адрес, рядом толстым красным маркером приписана дата его гибели. Я спрашиваю у офицера за стойкой о мальчике, и, похоже, он только рад рассказать эту историю: четверо детей похитили машину. Во время погони врезались в фонарный столб. Двое умерли при столкновении. Измаилу оторвало руку, он умер пару часов спустя. Четвертый выжил, но теперь управляет инвалидным креслом при помощи датчика, встроенного ему в рот.
Что мне на самом деле хочется узнать, но о чем я так и не спрашиваю, – почему его фотография здесь, под стеклом?
Когда сержант Пейдж заканчивает работу с документами, мы отправляемся на ранний ужин с офицером Рэем Мендосой; ему тридцать четыре, у него не хватает полпальца. Мы садимся в машину без опознавательных знаков и едем за мексиканской едой. На улице по-прежнему светло и не слишком жарко. В ресторане мало посетителей, и те, кто там работает, люди, знающие Пейджа и Мендосу, рады нас видеть. Женщина с меню выделяет нам отдельную кабинку, места в которой достаточно для семьи из восьми человек.
Пейдж спрашивает, не подумываю ли я поступить на работу в полицию, но я отвечаю: нет, я просто интересуюсь. Их это вполне устраивает. Они спрашивают, чем я занимаюсь, я отвечаю, что я писательница. «Ты должна написать книгу о копах!» – говорит Пейдж. Пока Пейдж распинается о том, как изменилась их работа, Мендоса отмалчивается. Пейдж говорит, что мой отец – один из немногих, кому удалось уйти, не облажавшись по-настоящему. «Эта работа не обернулась для него тем, чем для большинства парней», – говорит он, размазывая сальсу по куску тортильи. Я задаюсь вопросом, не пришел ли Пейджу конец. «Твой отец застал золотой век, – говорит он. – Времена, когда эта работа что-то значила».
Официантка обращается к Мендосе по-испански, он отвечает на английском. Так продолжается весь вечер.
Офицер Мендоса вернулся к работе четыре дня назад после девяти месяцев отсутствия. Его подстерегли, когда он был в полицейской машине, и выстрелили в него четыре раза, недалеко от того места, где мы едим. Я точно знаю, что ему попали в руку и колено. Про остальные две пули не спрашиваю. Интересуюсь, почему он вообще вернулся на работу, но он, похоже, не понимает вопроса.
– Ты можешь получить пенсию, если тебя травмировали, – встревает Пейдж и указывает на своего партнера через стол. – Но Мендосу не травмировали.
– А хотелось бы, – говорит Мендоса. – И я бы хотел сказать тебе, что меня мучили кошмары, что я боялся из дома выйти, но это не так. Я полицейский. – Он пожимает плечами. – Соглашаясь на эту работу, ты соглашаешься и с тем, что тебя могут подстрелить.
Однако его расстраивает тот факт, что помешать выходу на пенсию может сама по себе работа в организации, предпочитающей мертвого полицейского тому, кто по долгу службы сам кого-то застрелил.
– Если тебя убивают, это дешевле обходится, – говорит он.
– Начальство, – говорят они в один голос и без намека на воодушевление.
– Уильямс? – спрашиваю я.
– Уилли-жиробас, – говорит Пейдж, повторяя слова моего отца. Уилли Уильямс заменил Дэрила Гейтса на посту шефа полиции. Считалось, он идеально подходит для того, чтобы наладить связь с населением. – Во время профсоюзных переговоров он даже не мяукнул ничего. Ни единого звука не издал. Да он и не полицейский, раз уж на то пошло. Так, марионетка управленческая. Постоянно зависает в Филадельфии. Здесь, в Калифорнии ему даже ствол носить запрещено. Начальник полиции – и без оружия.
То есть обвинить полицию всякий горазд, а вот защитить их некому.
Перед нами ставят тарелки, целые горы еды – хватило бы, чтобы накормить столько людей, сколько способна вместить эта кабинка. Пейдж говорит, люди не желают знать, чем занимается полиция. Они хотят, чтобы полиция была, но больше знать ничего не желают. «Мы для них стволы на ножках, и больше ничего», – говорит он, с неподдельным энтузиазмом вгрызаясь в энчилады. – Та официантка, – аккуратно обращается он к Мендосе. – А красивые у нее глаза, правда?»
Пейдж говорит, люди хотят, чтобы полицейские были кем-то вроде соцработников – рукой помощи, на которую можно опереться, – но это не их работа. Их работа – ловить плохих парней. «Плохие парни»: эта фраза еще всплывет в нашем разговоре. «Хотите, чтобы мы были соцработниками? Пожалуйста; только не надо указывать, что именно нам делать. Занимайтесь своими делами, пока мы меняем мир для ваших детей».
Мой отец был таким соцработником: постоянно организовывал программы продленного дня, поощрял детей участвовать в жизни полицейского участка. На День благодарения он велел копам развозить корзины с едой по близлежащим районам. На Рождество рассылал местным детям игрушки – всегда в черно-белых тонах, чтобы люди знали, кто в этом районе хорошие парни. Хорошие парни. Плохие парни.
У Пейджа есть недвижимость в Неваде; он выйдет на пенсию через три года. Недвижимость, говорит он мне, недалеко от «Нордсторма»: «Жена и недели не продержится без похода в торговый центр».
«Каждому хочется свою лужайку», – говорит Мендоса, хотя он знает наперед, что останется в Лос-Анджелесе. Это его родной город, говорит мне многозначительно, место, где живет его семья. Другого не дано, ему больше некуда идти.
Папа поручил мне заплатить за ужин, и они с радостью соглашаются, поскольку общий счет составляет пять долларов. Сдачу я оставляю официантке с красивыми глазами.
В машине эти двое не переставая болтают, шутят и отпускают комментарии об окружающем мире. (Реплики Пейджа, как правило, обращены в окно.) Радио исторгает нескончаемый поток информации. Несмотря на то что за рулем Пейдж, машиной управляют они оба – Мендоса выступает в роли лоцмана: «Движение слева. Сбрось скорость. Желтый светофор. Этот трогается, внимательнее». Именно так отец разговаривает со мной, да и с любым, кто оказывается за рулем. Профдеформация. Пейдж и Мендоса интересуются моей жизнью, я, в свою очередь, спрашиваю о «Ньютоне». На их девяти квадратных милях насчитывается пятьдесят пять бандитских шаек.
Мимо проезжает грузовик с мороженым, из колонок звякает песня It’s a Small World. Дома вокруг по большей части ладненькие. Некоторые сдаются, большинство находятся в собственности. Суббота, на лужайках по всему району празднуют свадьбы и кинсеаньеры – что-то вроде конфирмации для девочек. Девочки в платьях из бледно-зеленой синтетической тафты носятся по тротуару, как экзотические пташки. Мужчины толпятся у гаражей, попивая пиво. Смотрят на нас. Копы пялятся, люди пялятся – никому ни до кого нет дела, никто не боится и не отводит глаз. Старшеклассницы в ярких розовых кринолинах смотрят на меня, молодую белую женщину на заднем сиденье полицейской машины, и гадают, что же я натворила.
В Южном Централе впечатляюще много детей и собак. Беременных собак. Собаки с отвисшими сосками медленно ковыляют по тротуарам. Молодые девушки тоже идут по тротуарам с младенцами на руках и детьми чуть постарше, висящими у них на спинах. За матерью, идущей в прачечную, друг за дружкой следуют пятеро детей. Каждый несет в наволочке столько грязного белья, сколько способен унести, процессию замыкает карапуз с коробкой стирального порошка. Воздух пахнет эвкалиптом.
Мы проезжаем место перестрелки 1974 года между полицией Лос-Анджелеса и Синбионистской армией освобождения. Теперь здесь пустырь. Дом, дом, дом, дом, пустырь, дом, дом. Две улицы спустя мы видим каркасный дом с питбулем на втором этаже, хотя не очень понятно, как он туда забрался, – лестницы в поле зрения нет. Мы заезжаем в «Уинчеллс Донатс» за кофе, пончики не берем – Пейдж называет их «таблетками для ожирения». Кофе ужасен, но я его пью.
Радио продолжает выплевывать непрерывные потоки информации, неразборчивых слов и выкриков; Пейдж и Мендоса не обращают на них внимания, пока внезапно голос не обращается непосредственно к нам, и мы мчимся к ряду коттеджей. Я понятия не имею, что там случилось или вот-вот произойдет. Я предполагаю, что они скажут мне оставаться в машине, но, к моему немалому удивлению, они зовут меня с собой. Вот интересно: может, на самом деле стоило прочесть формы, которые я подписала в участке? Дверь они не запирают, и я беру с собой свою сумку, слишком громоздкую и набитую блокнотами. Мендоса велит мне следовать за ним, я повинуюсь. Пистолеты наготове. После того как они осматривают однокомнатное бунгало, Пейдж кричит, чтобы я зашла внутрь. Пол покрыт толстым слоем битого стекла, сверху валяется голая пластиковая кукла. Больше ничего. Появляются другие офицеры, хотя ничего не происходит. Некоторое время мы болтаем, а затем направляемся к нашим машинам, как будто разъезжаемся после пикника.
Этот первый ложный вызов что-то изменил в воздухе вокруг нас. Когда мы снова трогаемся, Пейдж и Мендоса начинают усиленно искать происшествия. Они притормаживают рядом с каждой группой молодых людей и оглядывают их. «Как дела, парни? Какие-то проблемы?» Полицейские, как и мальчишки, неугомонны. Они будто бы хотят найти ту самую опасность, о которой сами же предупреждают. Тощий подросток, на вид ему не больше тринадцати, с целой россыпью бандитских символов, вытатуированных на его плоском животе, целится в нас пальцем, когда мы проезжаем мимо.
После следующего вызова мы несемся в парк и проезжаем прямо через толпу играющих в софтбол, игра при этом не прекращается. Люди обращают внимание на полицейскую машину, но не останавливаются и даже не смотрят, им все равно. В условленном месте находится несколько других офицеров, но ничего не происходит, только стук биты и аплодисменты.
В сумерках мимо «Макдоналдса» бежит мужчина. Пейдж и Мендоса выходят из машины, но, сделав четыре шага, Мендоса ковыляет назад. «У меня колени прострелены, – говорит он так, будто только что об этом вспомнил. – Не могу бегать».
Пейдж догоняет латиноса через полквартала, винтит его и надевает наручники. Я как будто телевизор смотрю. Тут же появляется полицейская машина и забирает его. В «Макдоналдсе» нам говорят, что он на кого-то наехал и убежал. В машине, которую он оставил, лежит магазин с патронами, и все убеждены, что пистолет, скорее всего, валяется в кустах на обочине. Мы начинаем прочесывать кусты, и втайне я надеюсь, что найду ствол и таким образом принесу хоть какую-то пользу. Несмотря на оживляж на парковке – полицейские, патрульные машины, человек в наручниках, – движение не замедляется. Мендоса говорит мне, что видел очерченные тела на асфальте, но движение по-прежнему не замедляется.
Откуда ни возьмись появляются свидетели. Латиносы говорят полицейским, что пистолет подобрал афроамериканец в полосатой рубашке. Тот, кто говорит больше остальных, постоянно задирает рубашку до самой шеи и гладит свой круглый живот. Мы ездим по кварталу, пока наконец не находим черного мужчину в полосатой рубашке. Пейдж и Мендоса отводят его от двух старших товарищей.
– Он был с нами весь вечер, – говорят мужчины.
– Да-да, – отвечают копы.
– Руки за голову, – говорит Мендоса.
– С чего бы это? – спрашивает мужчина.
Голос Мендосы спокоен и тверд. Он не столько угрожает, сколько назидает: – «Потому что я так сказал».
Мужчину в наручниках увозят, и мы снова патрулируем улицы. Уже стемнело, и я не могу хорошо рассмотреть людей, заглядывающих в окна машины. Когда шесть часов спустя мы наконец возвращаемся на станцию, к скамейке пристегнуты уже другие мужчины и женщины. Пейдж, который, похоже, разочарован, что моя поездка обошлась практически без происшествий, берет одну за другой папки со стола и показывает мне фотографии убитых молодых людей. Я знаю, что каждая папка, которыми забито это здание, содержит еще больше подобных картинок. Поляроидов. Пистолет выстрелил так близко к лицу, что опалил кожу. Пуля прострелила ухо. Бесчисленные фотографии тел, лежащих лицом вниз в лужах крови. Пейдж рассказывает мне о матери, которая убила своих детей, поместив их в большие мусорные баки и залив цементом. До этого она их избила, но не до смерти. «В смысле, – говорит он, – конечно, они умерли. Десять детей». Он показывает мне шкаф с миниатюрными ящиками, похожими на библиотечные каталоги; в каждом ящике огромное количество фотографий, похожих на фотографию Измаила. Каждый человек на каждой фотографии мертв.
Позже вечером, оказавшись дома, я все выкладываю отцу, он хочет знать каждую деталь. Ему нравятся Пейдж и Мендоса. Они позаботились обо мне, и он у них в долгу. Когда рассказываю ему историю о поисках пистолета в «Макдоналдсе», он кивает.
– Но ты не можешь написать об этом, – говорит он.
– Вообще, все ради этого и затевалось, – отвечаю я.
– Ради отдельных деталей, – говорит отец. – Но не ради всего этого.
Я понятия не имею, что плохого в поиске пистолета в «Макдоналдсе».
Я хочу написать о полиции Лос-Анджелеса. Хочу рассказать о людях, выполняющих тяжелую работу. Хочу объяснить, что жизнь под тяжестью всех этих трехколечных папок, до отказа забитых мертвецами, жившими по соседству, через некоторое время начинает давить, что обнаружение детей, погребенных в цементе, истощает вас. Я не собираюсь никого разоблачать, я собираюсь показать, что такое хорошо. Но разговор об этом, как и разговор о полиции, оказывается сложным предприятием.
Вначале был письменный тест. Несмотря на то что отец раз десять проинструктировал меня о том, как доехать от дома до Полицейской академии, в утро экзамена он меняет свое решение – хочет отвезти меня сам. Говорит, что это его единственная возможность поучаствовать, и я соглашаюсь. Это, будем считать, наше общее приключение. Сбор назначен на 8:00, мы приезжаем в 7:40; по всей подъездной дорожке змеится вереница людей. В этот момент я вспоминаю, что на самом деле не хочу быть полицейским. К нам подъезжает фургон. Человек, выходящий из него, тянется назад, чтобы пожать руку кому-то внутри. Так держать. Удачи. Мой отец, который не водил меня в школу, начиная с первых недель первого класса, целует меня и уезжает.
В очереди мне выдают синюю карточку, куда необходимо вписать мое имя, адрес, а также сообщить, откуда я узнала о Департаменте. Я вписываю фамилию отца. Также мне выдают проспекты с перечислением возможностей карьерного роста и памяткой о том, в каком порядке будут проходить экзамены. Симпатичная чернокожая женщина ходит вдоль очереди, снова и снова повторяя громким голосом, что при себе мы обязаны иметь удостоверение личности с фотографией и что возраст поступающих должен быть не меньше двадцати одного года. Несколько человек выходят из очереди и тащатся обратно к своим машинам. Большинство из почти двухсот абитуриентов выглядят так, будто едва наскребли требуемое количество лет. На всех футболки с принтами: «Хаус оф Пицца», «Нирвана», «Тоудс Джим» (рисунок с тщательно прорисованной, слегка зловещей жабой). Все одеты в шорты и кроссовки. На каждом из нас солнечные очки, каждый готов услужливо поделиться карандашом. Женщин среди поступающих меньше десяти процентов и, полагаю, меньше десяти процентов тех, кто старше двадцати пяти. Ровно в восемь часов три белые девушки цокают через парковку – высокие каблуки, мини-юбки в складку, топы из лайкры, серьги-обручи, достающие до плеч. Их пышные волосы свисают свободными блестящими локонами. У всех глаза как у Натали Вуд, красные губы, слой тонального крема. Женщина, информирующая очередь, квохчет на них: «Что, девочки, пораньше встать было никак?» Свои голубые карточки они заполняют друг у дружки на спине. Мне приходит в голову, что эта очередь – вполне подходящее место для знакомства с определенным типом парней.
Я достаточно далеко в очереди, чтобы занять место в последнем ряду первой аудитории, которая вмещает 102 человека. Это обычная аудитория с зелеными досками и рядами одинаковых парт. Предстоит покрыть много информации. Тест проводит чернокожая Дезра из отдела кадров. На высоких каблуках и в синелевом топе она определенно напоминает кинозвезду. Нам раздают оценочные листы, велят вписать свое имя и ждать. Вписать адрес и ждать. Мы не должны вылезти ни за одну из линий. Последний раз я сдавала экзамен в старшей школе, это было десять лет назад. На доску нанесены четыре числовых кода, соответствующих нашим расовым и гендерным категориям. Мы должны вписать относящийся к нам в верхней части оценочного листа. Категории следующие: черные мужчины, латиноамериканцы, остальные мужчины, все женщины. Дезра повторяет это трижды, проходя между партами; ее голос такой лиричный и ясный, что я не могу представить, будто кто-то может неверно понять ее инструкции. Можем ли мы до такой степени перенервничать, что неправильно укажем свой пол? После того как в кружках социального страхования возникают наши номера, мы ждем, пока другой сотрудник отдела кадров подойдет и снимет у нас отпечаток большого пальца для тестового листа.
Парень за соседним столом смотрит на мои права. «Монтана, – говорит он. – Издалека же ты приехала». В Монтане я жила в прошлом году, но с тех пор так и не поменяла права. Мне приходит в голову, что, оставив это без внимания, я, возможно, нарушила какое-то правило. Я говорю ему, что теперь живу в Бостоне, то есть еще дальше, а он говорит мне, что живет в Месе, штат Аризона, где работает в полиции.
– И хочешь перейти сюда? – спрашиваю его.
Он качает головой. Он родом из Лос-Анджелеса, и его лучший друг хочет работать в Департаменте, но не смог пройти тест здесь, да и в Месе, раз уж на то пошло, где, по его словам, так нужны полицейские, что они принимают почти всех без разбора. Он хочет сдать экзамен, чтобы доказать своему другу, что может с легкостью поступить в Департамент, даже не собираясь там работать. Он спрашивает, чем я зарабатываю на жизнь; отвечаю, что я писательница.
– А, – говорит он.
С минуту мы не разговариваем, затем он снова наклоняется ко мне. На затылке у него солнечные очки, прицепленные за уши с другой стороны. Его волосы напоминают щетинистый ворс свежескошенной травы. «У меня есть благодарственное письмо, – говорит он, – получил его, когда написал отчет об ограблении магазина. Хочешь посмотреть? Взял с собой, мало ли, пригодится».
Я и правда хочу посмотреть. В его личном деле есть свидетельство об окончании Полицейской академии Месы, а также то самое письмо и положительная рекомендация. Его зовут Тодд Уайт. У него округлый прилежный почерк, за какой хвалят классе в шестом. Читаю первую страницу, едва добралась до описания, во что были одеты подозреваемые, как наступает моя очередь снять отпечаток большого пальца. Я недостаточно хорошо макнула его в чернила, и мне приходится сделать это еще раз. «Не надо делать это как в телевизоре, – говорит мне женщина с чернильной губкой, – не перекатывай палец из стороны в сторону. Просто надави сверху вниз».
Когда я вижу свой отпечаток пальца на бланке полиции Лос-Анджелеса, у меня возникает легкое болезненное ощущение. Меня поставили на учет. Я навсегда в системе.
Нам говорят положить все наши материалы под парты, и туда же, к сожалению, отправляется пакет с бумагами Тодда Уайта. Нас просят убрать все диктофоны, все учебные пособия, все калькуляторы, логарифмические линейки и компасы. Я не смогла бы сдать ни один тест, в котором нужна логарифмическая линейка, даже если бы она у меня была и мне разрешили воспользоваться ею. Нам раздают тестовые буклеты, кладут их лицевой стороной вниз, а также карандаши. Если эти пронумерованные буклеты окажутся вне комнаты, второго шанса поступить на службу в Департамент у нас не будет. На все про все сорок пять минут – достаточно времени, чтобы справиться. На старт. Начали.
Тест включает задание выбрать один из четырех вариантов написания слов «календарь» и «позиция». Четыре предложения, в которых немного по-разному говорится одно и то же; мы должны выбрать наиболее грамматически правильный вариант. Тест на понимание прочитанного (выберите абзац, который лучше всего описывает роль офицера полиции в ограблении), и ни один из четырех вариантов ответа не описывает то, что я прочитала. Профессиональные термины: заключение, преступление, правонарушение. Тест был бы сложным для тех, кто не говорит по-английски с рождения или для тех, кто спал в старших классах. Я не тороплюсь и перечитываю все дважды. До окончания пять минут.
Когда тестовые буклеты собраны, мы заполняем анонимные опросники: Откуда мы узнали о Департаменте? Каков наш текущий доход? Затем приезжим велят идти в отдельную комнату. Пока мы собираем вещи, Тодд говорит мне, что позже, когда они придут и огласят список людей, которым необходимо пройти в зал, это будут люди, которые завалили тест: подобная деталь, должно быть, известна ему благодаря тому самому другу, который облажался в Месе.
В группе приезжих сорок человек. Выглядят они лучше, чем остальная куча народу: мы пришли сюда не после ночи игр и выпивки. Мы не носим футболки с сомнительными принтами. В комнате по-прежнему меньше десяти процентов женщин. Следующим этапом будет руководить офицер Крейн – очень худой чернокожий мужчина с усами. У него настолько тесная форма, что я могу разглядеть его брюшные мышцы. Рукава обвивают его бицепсы, как жгуты.
«У всех остальных есть возможность пройти пятичасовое учебное занятие, чтобы сдать устный экзамен, – говорит он. – Однако у вас такого преимущества не будет. Поэтому я должен рассказать вам об устном экзамене за максимально короткое время». Он говорит, что нас спросят, почему мы хотим эту работу. «Кто-нибудь скажет: я хочу защищать и служить. Я хочу построить хорошую карьеру. Я хочу служить и помогать людям. Я хочу быть одним из лучших». Он замолкает, поднимает подбородок и целует воздух. «Вы сами-то в это верите? Все так говорят. Если вы скажете это, то получите достаточно высокий балл, чтобы сдать экзамен, но недостаточно высокий, чтобы поступить». (Средний проходной балл – 70, но ходят слухи, что для того, чтобы попасть в список кандидатов, нужно набрать 95.) «Вы должны сказать, что ваша работа в качестве офицера полиции Лос-Анджелеса принесет пользу обществу, Департаменту и вам самим». У офицера Крейна с собой неоново-розовая бутылка с водой, из которой он время от времени отпивает, меряя шагами аудиторию, заставляя нас вертеться на наших стационарных стульях.
«Спросите себя: как ваш предыдущий опыт работы подготовил вас к карьере в правоохранительных органах? Любая работа требует от вас быть командным игроком. Допустим, вы работаете в «Макдоналдсе», «Бургер Кинге» или в любой другой забегаловке с гамбургерами, – он говорит это вежливо. В голосе офицера Крейна ни намека на снисходительность. – И вы думаете: это не поможет мне стать офицером полиции. Но вы можете сказать: я способен принимать самостоятельные решения без посторонней помощи, я честный, надежный и ответственный, я работаю с людьми из разных этнических групп и отношусь к ним справедливо, я уважаю моих клиентов, я КОМАНДНЫЙ ИГРОК. Это относится к любой работе».
Мне хочется поднять руку. Если только вы не писатель, офицер Крейн.
«Покажите им, что вам кое-что известно о городе, скажите, что здесь восемнадцать географических зон, что в школах здесь говорят на восьмидесяти восьми разных языках. Скажите, что вы знаете все о различных должностях в Департаменте, о наркотрафике, о насилии над детьми, о собачьем патруле. Скажите им, что эта карьера позволит вам вести комфортный образ жизни представителя среднего класса. Скажите, что для самоподготовки вы прошли курс молодого бойца. Не просто тренировались, а занимались по индивидуальной программе тренировок: «Я увеличиваю выносливость посредством бега и плавания»; «Я качаю торс, поднимаю тяжести»; «Я могу применить разумную силу, чтобы задержать подозреваемого».
Он говорит о добросовестности, которая ценится во все времена. Хотя мне кажется, я здесь единственный человек, планирующий написать об этом опыте, я не единственный, кто яростно строчит в блокноте. Он намечает возможные сценарии, а мы слушаем. «Скажем, вы и ваш сын пришли посмотреть игру Рэйдерсов, – начинает офицер Крейн, – и ревущая толпа хочет сразиться с полицейским. И ваш сын говорит: «Эй, пап, ты ж полицейский – иди арестуй их!» Но вы должны вызвать службу безопасности. А не геройствовать». Он разворачивается и быстро шагает в другой конец комнаты. «Или гуляете вы с ребенком и натыкаетесь на ограбление в круглосуточном магазине. Грабитель приставляет пистолет к голове кассира. Вы заходите, достаете свой пистолет – в итоге убиты и вы, и кассир. Вы были уверены, что ваш ребенок в безопасности в машине, но снаружи есть и другие грабители, и они убивают и вашего ребенка».
Будущие курсанты резко выдыхают за партами.
«Вы должны вызвать подкрепление, патрульную команду. Вы подробно описываете подозреваемого и ждете, чтобы направить офицеров, когда они прибудут, в том направлении, куда скрылся подозреваемый. Так вы принесете больше пользы. Когда вы не на службе, ваше дело быть лучшим свидетелем».
В аудиторию заходит женщина, и Крейн подает нам сигнал «тайм-аут», который я выучила благодаря моему отцу. У женщины плотная стопка синих карточек, и она говорит, что сейчас зачитает несколько имен, и эти люди должны собрать свои вещи и встретиться с ней снаружи. Тодд Уайт заговорщицки кивает мне. Сейчас она прочтет имена тех, кто потерпел неудачу из всей группы примерно в двести человек, потому что она не знает всех поименно. Каждый раз, когда она произносит «Энтони» или «Эндрю», мне слышится мое имя. Что, если после стольких лет преподавания в колледже я провалю грамматический экзамен для службы в полиции. Как пишется слово «календарь»? Она называет около восьмидесяти имен, большинство из них латиноамериканские. Десять человек встают и выходят. Мы с Тоддом остаемся на месте.
Офицер Крейн холодно резюмирует: «Теперь вы наверняка думаете: хочу ли я быть в группе, которая выходит наружу, или в группе, которая остается здесь? Однако могу вас поздравить. Вы прошли». Мы искренне аплодируем сами себе, а затем получаем расписание устного экзамена. Некоторым нужно идти прямо сейчас. Но у меня еще есть время до часа дня, и я ни за что на свете не пропущу остаток этого инструктажа.
В Департаменте, похоже, не собираются никого обманывать. Они предлагают подготовительные курсы для письменного экзамена. Они дадут вам лучшие ответы на вопросы устного экзамена. Они покажут, как перебираться через стену. Посыл очевиден: они хотят помочь нам, но мы должны быть готовы слушать. Офицер Крейн продолжает свою лекцию. «Далее. О любом нарушении дисциплины следует сообщать инспектору. Но сперва вы должны убедиться, что нарушение имело место». Он повышает голос, приподнимает брови. «Вы с напарником отправляетесь по вызову об ограблении компьютерного магазина. У вашего напарника, проработавшего в полиции двадцать лет, в руках компьютер. Он говорит вам следить за входом. Вы слышите, как он выходит из магазина, затем вы слышите хлопок багажника полицейской машины. Он возвращается с пустыми руками. Сперва вы должны проверить, было ли нарушение. Спросите его об этом вежливо. Возможно, он взял компьютер, чтобы снять отпечатки пальцев. Возможно, он собирается отвезти его на склад. А возможно, он скажет: «О да, у меня уже есть один, теперь выбери и ты себе». В этом случае вы немедленно звоните сержанту и вызываете его в магазин».
Поговорив о простой краже, офицер Крейн поднимает ставки. «На этой работе вам придется иметь дело с худшими из худших». Произнеся это, он смотрит на нас, чтобы убедиться, что до нас дошло, а затем медленно повторяет все еще раз. «Вы отправляетесь на вызов по изнасилованию. Шестилетняя девочка. Парамедики уже там, и, по их словам, шансов на выживание у нее один из двух. Рядом плачет ее мать. На месте происшествия другие полицейские и подозреваемый в наручниках. Он может сказать, что вы стажер, и начать наезжать на вас». Крейн перечисляет список мерзостей, которые подозреваемый, по его собственным словам, намерен сделать с вашими детьми, и с вами лично, и с кем-нибудь еще, пока наконец ваш напарник не решается ему втащить. БАМ! Крейн лупит по воздуху кулаком так сильно, что вся комната чуть ли не вибрирует. «Он бьет подозреваемого прямо в солнечное сплетение, и вы такой – да-а-а!» Крейн поднимает кверху большие пальцы и расплывается в голливудской улыбке. «Ладно, допустим, это перебор, потому что подозреваемый уже в наручниках. Люди, что столпились вокруг вас, аплодируют. Они говорят: «Я бы сделал то же самое! Да на твоем месте я б вообще его пристрелил!» Ваш напарник говорит: «Чувак, я не могу в это поверить. Двадцать пять лет на службе, и ни разу ничего подобного со мной не случалось. Я просто вышел из себя. Этого больше не повторится». Любое нарушение, – повторяет Крейн. – Допустим, вы не стали сообщать, и вот вы уже дома, и в шестичасовых новостях показывают сюжет о жестокости полиции; вы присаживаетесь посмотреть – и кого же видите на экране? На экране вы видите себя, ухмыляющегося и тянущего большие пальцы вверх, в то время как ваш напарник молотит человека. После этого вы потеряете работу. В новостях не говорят о том, что сделал подозреваемый, – в новостях говорят о жестокости полицейских. От вас ждали СОВЕРШЕНСТВА. Как только вы становитесь сотрудником полиции, от вас ждут, что вы будете БЕЗГРЕШНЫ».
Не уверена, что до меня дошла мораль сей басни, но я все это записываю, в то время как офицер Крейн уже проходится по списку грубых нарушений ПДД и важности хорошо составленного итогового отчета. Когда мы выходим на улицу, все направляются в сторону парковки, а я иду к телефону-автомату, чтобы попросить папу заехать за мной. До устного экзамена полтора часа – как раз хватит времени, чтобы пообедать.
Просматриваю документы, которые мне дали, и обнаруживаю, что до экзамена должна заполнить форму с перечислением всех моих рабочих мест за последние пятнадцать лет: организации (включая адреса), количество отработанных месяцев, месячные оклады, имена начальников, должностные инструкции. Я присаживаюсь на тротуар и начинаю набрасывать список у себя в блокноте: ассистент преподавателя в аспирантуре, остальная преподавательская деятельность. Считается ли работодателем мое издательство? А что насчет временной работы? «Хоутон Миффлин», «Брайдал Гайд», «Севентин», Институт Бантинга, Университет Монтаны, Государственный университет Мюррея, «Книжный мир» в Нэшвилле. Приезжают папа и Джерри. В ресторане, пока они едят, я как подорванная заполняю формы и заканчиваю как раз в ту минуту, когда пора возвращаться. В проспекте об устном экзамене было написано принарядиться, и мой отец предусмотрительно привез мне блейзер. В туалете ресторана я мажу губы помадой, которую одолжила у Джерри, и приглаживаю волосы водопроводной водой.
Когда я приезжаю на экзамен, то вижу нескольких человек из моей первоначальной группы, теперь одетых в тесные, плохо сидящие костюмы. Я отдаю свой бланк девушке за стойкой; она жует жвачку, накрашенные ресницы как иголки. Она спрашивает, работаю ли я до сих пор в Рэдклифф-колледже, в «Хоутон Миффлин» и «Севентин». Она спрашивает о ежемесячной зарплате – ответа у меня нет. Я заполняю еще несколько строчек, она вычеркивает пункты, в которых я написала «Не соответствует». Когда я пытаюсь исправить мои ответы, она уже возится с формой следующего человека в очереди. Пользуясь случаем, я отдаю форму женщине за другим столом, которую, похоже, все устраивает, и она направляет меня дальше по коридору в экзаменационную аудиторию Б. Оказывается, есть и другие письменные тесты, и, хотя я этого не осознавала, я рада заняться чем угодно, если это не имеет отношения к моему трудовому стажу.
Уверена, что группа абитуриентов состоит не только из белых мужчин, но в этой комнате все именно так – белые мужчины в костюмах, согбенные над бумагами. Женщина за кафедрой читает роман Даниэлы Стил, наблюдатель дает мне копию бланка, карандаш и говорит, что у меня есть сорок пять минут. Я занимаю место за столом и читаю инструкцию по заполнению формы П: «Использование словарей и справочников по грамматике запрещено». Что бы ни оказалось в самом тесте, он явно хуже предыдущего. Кажется, мужчины в костюмах на грани слез. Все вокруг меня постоянно что-то стирают, я отвечаю на список вопросов, расположенных на первой странице и посвященных моему поведению на рабочем месте: Меня когда-нибудь увольняли? Случались ли у меня серьезные ссоры с начальником или с кем-нибудь из коллег? Меня хвалили за хорошую работу? Если да, когда это было в последний раз? Все, что приходит мне на ум, – это статья о девственности для журнала «Севентин», которая оказалась популярной. Я упоминаю похвалу, умолчав о заголовке статьи. Не упоминаю, что мой первый роман попал в список книг года по версии «Нью-Йорк Таймс». Меня когда-нибудь отчитывали за плохую работу? Да, мне пришлось переписать бессчетное количество статей в моей жизни. Я не хочу показаться подозрительно рьяной в попытке угодить, сказав, что никогда не работала по заниженной ставке. Была ли я когда-нибудь на испытательном сроке? На другой странице, очевидно, находится то, что заставило парней в костюмах вспотеть: опишите в четырех предложениях три наиболее важных для полицейского качества. Теперь напишите пробный полицейский отчет о нарушении спокойствия на публичном мероприятии. Не важно, насколько вам известна процедура, значение имеет лишь качество и ясность письма. Возможно, я не смогу обогнать всех на беговой дорожке, но есть шанс, что здесь я смогу вырваться вперед. У меня осталось сорок из моих сорока пяти минут. Я концентрируюсь на заседании городского законодательного собрания о создании приюта для бездомных на окраине богатого района. Начинается перетягивание каната, и я опускаю детали. По-моему, все, что касается имущественной ценности, – это хороший выбор.
Закончив, я отправляюсь в комнату ожидания, где перечитываю конспект лекции офицера Крейна, пока меня не вызывают на собеседование с Габриэлем Роблесом – мужчиной лет пятидесяти, в сиреневой рубашке и с седым конским хвостом. Он дружелюбен, почти ласков. В тесной переговорной он выдвигает для меня стул, ссылаясь на то, что он довольно тяжелый. Роблес работает в отделе кадров, его имя напечатано на картонке перед ним. Второй член комитета – детектив И. Уотерс – высокая женщина лет тридцати пяти. Ее тело обладает тем же скульптурным совершенством, что и тело офицера Крейна. Мне видны мускулы на ее загорелом лице. На ней платье с принтом лавандового гибикуса и кружевной вставкой сверху, которое выглядит как нечто, купленное к пасхальной мессе. Отец заранее предупредил меня, что вся процедура более-менее сводится к классической схеме «хороший полицейский/плохой полицейский», и по напряжению в ее челюсти я вижу, с какой стороны баррикад окажется она.
– У вас впечатляющая трудовая история, – говорит Роблес.
Признаю, это не совсем обычно. Прямо неловко становится от того, сколько же я заработала.
– Не берите в голову, – говорит он, улыбаясь. – Мы нетрадиционны. У меня степень по социологии, детектив Уотерс была логопедом.
Я уважительно киваю, жалея, что не могу взять у них интервью.
– Значит, вы пишете романы, – говорит Роб-лес. – Это интересно. О чем они?
Я затрудняюсь с ответом, он просит меня быть конкретнее.
– Вы знаете всех этих людей?
– Я их выдумываю.
– Прямо сочиняете? Из ниоткуда?
– Так точно.
– Просто садитесь и пишете? – говорит он, подаваясь в мою сторону. Детективу Уотерс, похоже, скучно, впрочем, не я выбирала тему для разговора. – Никто не говорит, что вам делать. Вы сами принимаете каждое решение?
– Именно.
Затем они говорят о том, как это интересно, как это должно быть здорово, – и они правы. Это здорово.
– Как именно вы готовились к поступлению в Полицейскую академию? Вы читали отчеты вашего отца?
Отвечаю, что не читала.
– Здесь написано, что вы занимаетесь бегом и плаванием. Давайте об этом поподробнее.
Я бегло касаюсь деталей своей новой атлетической жизни, зная, что для детектива Уотерс все это сущие пустяки.
– Как вы считаете: предыдущий опыт работы помог вам подготовиться к службе в Департаменте?
– Я очень целеустремленная, – отвечаю я. – Я принимаю верные решения. Я тщательно все обдумываю. Я рассудительна и спокойна.
– Замечательно, – говорит он. – Но вы задумывались над тем, что фактически примыкаете к милитаризованной организации? К системе власти, где вы всегда должны будете выполнять то, что говорят вам другие, даже если считаете, что они не правы.
– Ага, – вставляет Уотерс, совсем не так мило. – Вот это действительно интересно.
– Я думала об этом, – говорю я. – И меня это беспокоит. Я посещала католическую школу на протяжении двенадцати лет. У меня есть некоторый опыт работы с властью. Во взрослой жизни мне нечасто приходилось выполнять приказы других. Все, что я могу сказать, – я думала об этом и постараюсь приспособиться.
– Почему вы вообще вдруг захотели стать сотрудником полиции?
Отвечаю, что не становлюсь моложе. Рассказываю и о моей семье, о том, как недавно поняла, что хочу исполнить мечту всей моей жизни. Купятся ли они?
Они хотят знать, сталкивалась ли я с реальной опасностью. Откуда мне знать, что я смогу сохранять спокойствие? Уотерс снова раздраженно кивает.
Я быстро мысленно сканирую свою жизнь. В ней нет ни малейшей опасности, ни малейшей угрозы ранения. Правда в том, что я терпеть не могу опасность. Избегаю ее любой ценой. «Последние десять лет я жила в Нью-Йорке и окрестностях, – говорю я беспомощно. – Я ездила в метро по ночам. Общалась с безумцами».
Их устраивает мой ответ. Для жителя Лос-Анджелеса Нью-Йорк по-прежнему остается чем-то вроде декорации к «Безумному Максу». Я говорю им, что знаю, кого необходимо осаживать, а кого игнорировать, но даже если я говорю правильные вещи, сомневаюсь, что мне это как-то поможет.
Они предлагают мне два сценария, похожих на те, о которых говорил офицер Крейн: небольшое нарушение со стороны старшего напарника и случай насилия над ребенком. Я даю правильный ответ. Я бы сдала их всех без подготовительного слушания. Я знаю, что сказал бы мой отец.
Они просят меня о заключительном слове. Я отвечаю, что мой отец, как они знают из документов, был капитаном полиции. Один мой дядя – помощник окружного прокурора, другой – пожарный, оба живут в Лос-Анджелесе. Я говорю, что во мне течет гражданская кровь и мое время пришло.
– Не под запись, – говорит Роблес. – Что ваш отец думает по этому поводу?
Почему бы и не записать: он в восторге.
И я возвращаюсь в комнату ожидания, где жду примерно шестьдесят секунд, прежде чем мне сообщают, что я сдала устный экзамен и теперь мне необходимо направиться в аудиторию Б. Поклонница Даниэлы Стил просит меня явиться завтра для теста на физические способности завтра в шесть часов утра. И снова куча бумаг: она дает мне медицинскую форму, справочную форму и ксерокопию поздравительного письма от Уилли Уиль-ямса, где говорится, что я не должна бросать мою нынешнюю работу, пока меня официально не примут. За то время, что я была на устном экзамене, я чувствую некоторую перемену в отношениях между мной и полицейским департаментом: теперь не я хочу к ним, а они хотят меня.
В машине пересказываю все отцу, и он одобрительно кивает. Он рассказывает мне байки об устных тестах, на которых был он, когда пиджаки кандидатов намокали от пота, или как, если кандидат был слишком высоким, ему не давали стула, чтобы сделать интервью максимально неудобным, или половина комиссии стояла лицом к стене и не поворачивалась в его сторону. По мнению моего отца, Уотерс и Роблес вели себя как мои друзья.
Тем вечером мы едим салат и сидим во дворе после ужина, пока Джерри поливает цветы. Мы говорим о жестокости полиции во время следствия. Я задаю отцу достаточно щекотливые вопросы, и он охотно на них отвечает. «Но писать об этом не стоит», – говорит он.
Я начинаю понимать, насколько все это будет проблематично.
В четверть десятого я уже в постели. В десять я принимаю снотворное.
Будильник звонит в 4:45 утра. Моя левая нога была растянута в течение трех дней после спринта, я пытаюсь размять ее. В 5:20 отец стучит в дверь моей комнаты. Говорит, пора ехать. Я правда не хочу позавтракать? Он сделал мне маленький мешочек на шнурке, чтобы носить его на шее; он ненамного больше четвертака – и для четвертаков, чтобы я могла позвонить ему, когда экзамен закончится. Так каждый год, когда мы с сестрой уезжали из Калифорнии, он делал для нас карточки. На них он записывал все номера, по которым его можно найти, и рядом с каждым номером приклеивал десятицентовик. По приезде в Теннесси я отклеивала монетки и тратила их. Моя сестра сохранила карточки такими, какими они были. Они до сих пор у нее. Все до единого десятицентовики, по одной карточке за каждый год.
Мне кажется, мы выезжаем слишком рано, но, когда прибываем в академию в 5:35, парковка уже забита. Машины припаркованы по обеим сторонам дороги. Всю неделю свидетели Иеговы проводили конференцию на стадионе «Доджер», который находится через дорогу, – океан асфальта неподалеку от академии. Они пеклись на трибунах в своих белых рубашках и темных костюмах. Несмотря на ранний час, на тротуарах стоят женщины, держа в руках таблички на английском и испанском с информацией о судьбах наших душ. Они проповедуют нам не потому, что мы хотим стать полицейскими, а потому, что в этот утренний час мы их единственная публика.
Отец целует меня в щеку, желает мне удачи.
Двести пятнадцать человек пришли сегодня утром сдавать экзамен. Его сдают каждые две недели, и в прошлый раз пришло лишь сорок человек. Трудно сказать почему. Мало того что толпа экзаменуемых нацелена на рекорд, некоторые инструкторы не являются. Выстроившись в линии вокруг столов для пикника, мы ждем, отмахиваясь от мошкары. На всех кроссовки и шорты для бега. Мы выглядим как стадо, согнанное на рекламную съемку «Найк». Я дружески болтаю с девушками по обе стороны от меня, одалживаю им свою ручку. Одна из них рассказывает мне длинную историю о том, как пробовалась в академию в другом городе, но ее последний работодатель, универмаг Робинсона, не выдал ей учетную документацию, потому что, уходя, она поссорилась со своим боссом. Ей пришлось нанять адвоката, чтобы засудить их, но к тому моменту было слишком поздно и она была вынуждена подаваться заново.
Две черные женщины, которые вчера всем заправляли, вернулись. Мы передвигаемся, куда бы и когда бы они нам ни сказали. Одна из них ходит взад-вперед по столам для пикника. «Меня не интересуют ваши грин-карты, – говорит она, размахивая пачкой грин-карт, – вам они не нужны, не надо мне их показывать. Вам нужно удостоверение личности с фотографией. Только не говорите мне, что у вас нет прав. Вы же сюда приехали на машинах, так что лучше иметь при себе права».
Интересно, я здесь единственная, кого привез папа? Мы заполняем белые формы, подтверждающие наше сегодняшнее хорошее самочувствие, и понимаем, что нам не нужно сдавать тест сейчас. Там написано, что нас попросят сделать. Девушки с подготовительных курсов, за которыми я наблюдала, когда они перелезали через стену, на этот раз все в одинаковых футболках с именами на спине. Они льнут друг к дружке, обмениваются шутками. «Вон у той видишь, какие руки», – спрашивает девушка из универмага и указывает на девушку, которая выглядит так, будто дала себе слово отжиматься одной рукой.
Через час нам говорят отправляться на парковку, и ровные линии разбиваются. Те, кто приехали сюда в пять утра, уже не впереди. На стоянке инструкторы умоляют нас уйти. Любой, кто уйдет, в следующий раз получит приоритет. Уходите. Уходите. Человек двадцать пять отваливается, включая девушку рядом со мной, которая говорит, что не знала о шестифутовой стене и считает, что ей все равно нужно еще попрактиковаться. Инструкторы спрашивают, кто приехал из других городов и у кого обратный вылет сегодня вечером. Руки поднимает абсурдное количество человек. «Мы проведем выборочную проверку авиабилетов», – угрожают они, и толпа смеется. Затем они спрашивают, кто из присутствующих живет севернее Фресно, я поднимаю руку и говорю, что я из Бостона. И таким образом попадаю в группу «К северу от Фресно». Мы возвращаемся к столам для пикника и формируем новую линию.
Позади меня группа морпехов, которые уже прошли проверку личных данных. Они даже не пытаются понизить голос. «Офицер спросил меня: сколько раз ты водил в нетрезвом виде? И я такой: «Офицер, мне очень не повезло. Оба раза из тех, что я садился за руль пьяным, меня ловили». Еще один подает голос: «Хотите знать, сколько раз я ездил пьяным? Я морской пехотинец, сэр, поэтому уточните, что вас интересует: сколько раз я ездил пьяным на своей машине или на военном транспортном средстве?» Они вспоминают минувшие дни в Сомали. Один из них во время устного экзамена признался в краже двух спальных мешков у военно-морского флота, и ему сказали, что он должен вернуть их с письмом-извинением и подтвердить их возврат квитанцией о получении.
После того как мы регистрируемся, атмосфера ожидания накаляется – сегодня надписи на футболках более эзотеричны: «Обезвреживание взрывоопасных боеприпасов», «Пау Хана», «Мобильная группа один». На мне рубашка с эмблемой Университета Айовы – напоминание о том, что я училась в магистратуре.
Беговую дорожку Полицейской академии разрыли, чтобы освободить место для новой дренажной системы, поэтому нам придется бегать на парковке у стадиона «Доджер». Мы выходим из главных ворот академии и поднимаемся по длинной крутой дороге. В этот день в Пасадене состоится матч чемпионата мира по футболу между сборными США и Румынии. В полдень воздух на поле разогреется до 49 градусов. В 8:00 на парковке у стадиона «Доджер», я думаю, уже около 35 градусов. Смог над городом подобен толстому шерстяному одеялу, дышать больно – я стою без движения. На парковке нас около ста восьмидесяти человек. Ни тени, ни воды. Выкрикивают имена и номера от одного до тридцати. Мой номер двадцать восемь. Это невероятная удача: это значит, что я буду бежать в составе первой группы, когда температура воздуха 35 градусов, а не 43. Я беру свой неоново-оранжевый прорезиненный жилет с гигантской цифрой 28 на спине и застегиваю его. Поворачиваюсь согласно инструкции; мои имя и номер записывают. Нам предстоит обегать пилоны, которые образуют круг на парковке. Круг – это 0,1 мили; мы должны сделать как минимум десять полных кругов, чтобы получить квалификацию, не останавливаясь в течение двенадцати минут. Каждый раз, когда мы будем пробегать мимо, они будут выкрикивать наш номер. Когда они крикнут «стоп», мы должны остановиться как вкопанные, или будем дисквалифицированы. Марш.
Я рву с места со всеми остальными. Хоть когда-нибудь я участвовала в соревнованиях в старших классах? Соревновалась в беге с другой католической девочкой? Не припомню. Если и так, это было очень давно. Одно я знаю наверняка: я никогда не соревновалась с морпехами. На первом же круге у меня сбивается дыхание, я чувствую слабость, но не от жары или напряжения, а от страха потерять сознание. Я грохнусь в обморок на автостоянке стадиона «Доджер», на глазах у полицейских и морпехов во время первого круга, первого этапа теста. Я никогда не хотела работать в полиции. У меня кружится голова, меня тошнит, мои легкие полны лос-анджелесским смогом, а я бегу рысью. «Двадцать восемь!» – кричат мне. Мимо меня бегут люди, и я бегу мимо людей. Я потеряла счет кругам. Я пытаюсь вспомнить реку Чарльз и ее тенистые берега, спускающиеся к воде. Каждый огибаемый мной пилон – это сделка с Богом. Меня больше не волнует, сдам ли я тест, порадую ли отца. Мне плевать, напишу ли я книгу. Все, чего я хочу, – не потерять сознание. Когда мне кричат «Стоп», я останавливаюсь, кладу руки на колени и хватаю воздух ртом. Следующие полчаса я непрерывно кашляю. Морпехи тоже кашляют. Я плюю на ладонь, потому что чувствую резкий привкус и думаю, что это кровь. Крови нет.
Нам сказано стоять спокойно и прямо, повернувшись спиной к экзаменаторам, чтобы они могли записать наши номера. Я прошла одиннадцать кругов и еще одну восьмую. Лучший из нашей группы прошел тринадцать с половиной. Две из четырех женщин нашей группы не одолели и десяти. Мы расстегиваем жилеты и кладем их на землю в численном порядке для следующей группы в 8:30 утра. А это значит, что последняя группа бегунов, ожидающих на этой открытой стоянке, закончит в 11:30 – примерно в то же самое время, когда футболисты начнут жариться в Пасадене.
Все надо закончить в течение указанного времени, чтобы заработать квалификационные семьдесят баллов. За исключительную скорость можно заработать и все сто. Всего четыре испытания, то есть минимальный проходной балл – 280. Гипотетически одно испытание можно завалить, если остальные завершить в рекордное время, чтобы заработать дополнительные очки. Но всем нам ясно: провал одного испытания означает полный провал.
Следующим пунктом идет преодоление стены. Наша группа из тридцати человек бредет обратно через дорогу к академии, напролом. Наш предводитель – Дезра, которая вчера заправляла экзаменом на своих разумных мулах. Сегодня на ней обтягивающие джинсовые шорты и облегающий топ. Она велит нам пошевеливаться. По статистике стену не преодолевает одна из трех женщин и один из двадцати мужчин. Как у номера 28, у меня есть преимущество – достаточно времени, чтобы отдохнуть, но и не оказаться в конце. У нас есть семнадцать секунд, чтобы пробежать пятьдесят ярдов, вплотную обогнуть пилон, запрыгнуть на стену, не касаясь металлических креплений с обеих сторон, и пробежать еще десять ярдов (это последнее обстоятельство, полагаю, отсеивает от сдачи экзамена людей, которые падают сразу за стеной и не могут встать). Дезра трусит по тропинке и слегка подпрыгивает перед стеной, чтобы не упасть, – нам все ясно. Она поднимает свой секундомер и очень вежливо говорит: «Джим, ты готов?» Когда он отвечает «Да», она говорит: «Марш».
Это моя первая возможность хорошенько присмотреться к нашей группе. Из двадцати шести мужчин, полагаю, двадцать в настоящее время служат в армии или другом полицейском подразделении. Двадцать пять из них в великолепной физической форме: высокие, широкоплечие, молодые. Из женщин – две соседки по комнате в Окленде, играют в команде по софтболу. Одна из них впечатляющая легкоатлетка – компактная, поджарая латиноамериканка, которая с легкостью держит ритм. Ее подруга крупнее, бледнее и носит очки. Там, на парковке, она сделала меньше десяти кругов, как и Джанет, четвертая женщина, тоже миловидная и высокая. Хотя я не уточняла этот вопрос, у меня есть все основания предполагать, что я самая взрослая из нашей группы. Мужчины перепрыгивают через стену. Бледная оклендская софтболистка задевает ногой синий поручень и сходит с дистанции. У нас сплоченная группа. Все хлопают и время от времени подбадривают друг друга. Когда я перелезаю через стену, толпа одобрительно ревет. Я справляюсь за шестнадцать секунд. Мужчины и латиноамериканка делают это за десять-одиннадцать.
Для выполнения следующего задания – виса на перекладине – мы направляемся вниз к полосе препятствий, установленной на склоне холма. Я думала, что вот здесь-то я и завалюсь, хотя теперь я убеждена, что худшим был бег. Мы должны пробежать пятьдесят ярдов вокруг пилона по направлению к перекладине, прыгнуть, ухватиться за нее и провисеть в течение одной минуты. Отсчет времени начинается, как только мы перестаем раскачиваться – это сложнее, чем кажется. Три зафиксированные планки, похожие на те, что я видела на школьных дворах в Кембридже, – с бегунами, выходящими в шахматном порядке. К первой перекладине приделана клейкая лента, что делает ее самой желанной, но это лишь ухмылка судьбы. Женщина из Окленда советует мне растереть листок между ладонями, чтобы сделать их клейкими – это поможет мне удержаться. Я задаюсь вопросом: лист какого дерева достаточно клейкий, чтобы удержать мое тело на перекладине в течение минуты. Самой большой проблемой мне видятся раскачивания. Если ты подпрыгиваешь, ты раскачиваешься. Трюк, судя по всему, заключается в том, чтобы слегка задеть ногой столб и снизить амплитуду. Когда вызывают латиноамериканку, она повисает с такой легкостью, что нас это зрелище гипнотизирует. Такое ощущение, будто она просто стоит с поднятыми руками. На ее лице ни тени напряжения. «Все потому, что она маленькая», – шепчет мне в ухо гигантский морпех. Один человек с базы ВВС в Саванне был исключительно добр ко мне. «Это все у тебя в голове», – говорит он, вернувшись с перекладины. Нужно постараться ни о чем не думать. Считай медленно: один, тысяча один, два, тысяча два… к тому времени, как доберешься до тридцати, будет пора падать. И люди падают. Мужчины пыжатся, хватаются и соскальзывают. Один не выдерживает на 59,4. Температура воздуха поднимается скачками. Я кладу руки на колени ладонями вверх, надеясь сохранить их сухими. Толпа приветствует людей в соответствии с их номерами: «Держись, номер один, у тебя получится!»
Дезра вызывает меня: «Ну что, Энн, готова?» Отвечаю «Да» и срываюсь с места. Я у перекладины номер три – самой дальней, и никакой ленты. И все же не тороплюсь. Напрягаю все силы, чтобы перестать раскачиваться, и начинаю считать: раз Мисиссипи, раз. Закрываю глаза, и мне кажется, что крики толпы я слышу во сне. Отлично выглядишь, номер три. Ты прекрасно выглядишь, солнышко. На самом деле твоим рукам не больно. Это все у тебя в голове. Подумай о бутылке холодного пива, номер три. Я куплю тебе пиво, Айова. Они ошибаются лишь в одном: мои руки болят. Но разве я не смогу продержаться минуту? Когда я добираюсь до девятнадцатой Миссисипи, офицер, ответственный за время, кричит: «Номер три! Слезай!»
«Но почему?» – говорю я, не расцепляя рук. У меня пальцы кровоточат? Меня дисквалифицировали? Я досчитала только до девятнадцати.
«Слезай и займи свое место». Слезаю и занимаю. Мне и в голову не приходит, что минута истекла. Я добежала до перекладины за 16,4 секунды, оставив себе приятный резерв в чуть больше полсекунды.
Последнее испытание – перетягивание 160-фунтового веса – самое легкое. Необходимо доказать, что вы достаточно сильны, чтобы вытащить вашего подстреленного напарника из машины. Пробежать двадцать пять ярдов, затем потянуть за веревку, прикрепленную к свинцовому грузу размером примерно в два сложенных вместе экземпляра «Желтых страниц Лос-Анджелеса» (кто бы мог подумать, что нечто настолько маленькое может быть таким тяжелым?) и протащить еще двадцать пять ярдов назад сквозь мягкую, глубокую пыль. Когда Дезра выкрикивает наши имена, мы должны сказать «лево» и двигаться влево; следующий должен сказать «право» и двинуться направо. Идея в том, чтобы разделить нас на две равные группы и перетянуть вес с одной стороны на другую, но группа, похоже, совершенно сбита этим с толку. Три человека подряд упорно говорят «право».
– Народ, давайте повнимательнее, – говорит Дезра. – Никто не будет мириться с подобными глупостями, если вы поступите в академию.
Постепенно нам удается совладать со счетом. Испытание сопровождается бурным ажиотажем, поскольку к этому времени мы запомнили некоторые имена и можем кричать: «Натан, чувак, давай!» Я хлопаю в ладоши. Скоро все это кончится и я пройду. Когда наступает моя очередь, толпа неистовствует. Я талисман, всеобщая любимица. Нет смысла болеть за тех двоих, которые не пройдут, или за того, кто может побить твое время. Болеть стоит за ту растрепу, которая вот-вот провалит норматив, и все же каким-то чудом укладывается. Я рисковая штучка, темная лошадка. Когда я тяну вес, мои ноги тяжелеют. Часа три назад это не составило бы никакого труда, но теперь, когда я еле держусь, огромные мужики начинают скандировать мое имя, растягивая один слог на два, и получается что-то вроде: «Э-энн, Э-энн, Э-энн». Подобное больше никогда не повторится, и я стараюсь насладиться моментом. Испытание проходит ближе всего к столам для пикника, где мы начали, – под соснами, в тени, в мягкой грязи, где Полицейская академия больше всего похожа на дружелюбный летний лагерь, который я помню с детства. Переступив за финишную черту, я смеюсь. «Вы мои кореша», – говорю я мужчинам, которые хлопают меня по плечам и гладят по голове.
– Ты подожди, – говорит мне полицейский из Юты. – Подожди, пока не поступишь. Так будет каждый день. Вот чем мы здесь занимаемся. В моей группе была девушка, которая однажды не смогла закончить пробежку, и мы с одним парнем подошли к ней с двух сторон, подхватили ее за руки и тащили на бегу.
Я знаю, что в полиции множество разных должностей, многие позиции лучше подходят для женщин, но в эту минуту я придерживаюсь мнения, что только мужчины должны быть копами. Они созданы для этого, они могут тащить людей на бегу, они могут перепрыгивать через стены.
Мы возвращаемся к столам для пикника и ждем результатов. Все подходят, чтобы поздравить меня. Некто Джин из Ларчмонта, штат Нью-Йорк, говорит мне, что в прошлом году он выкупил страховую компанию своего отца, что у него есть жена, двое детей и хороший бизнес, и тем не менее он приехал сюда, чтобы попытаться поступить в академию. Это все, чего он хотел, и жена поддерживала его. Спрашиваю, почему он не пошел в полицию Нью-Йорка.
– Да ни в жизнь, – говорит он, – там одни жирдяи. Только полиция Лос-Анджелеса – настоящая полиция.
В мире есть два типа людей: те, кто больше всего на свете хотят быть полицейскими и полагают, что все остальные втайне хотят того же, и те, кто не может себе этого представить. Двадцать девять человек из первого ряда и один из второго находятся в моей группе. У меня такое ощущение, что я предаю их оптимизм и добродушие, просто находясь рядом с ними. Я прошла тест с общим результатом 288 баллов. Большинство из тех, кто прошел, сдали на 300 и больше, один и вовсе на 360. Я бегу к телефону-автомату и звоню отцу, чтобы он забрал меня. Когда возвращаюсь, чтобы вновь повидаться с группой, все уже разошлись. Дезра пьет лимонад за столом для пикника с другими членами персонала. Я благодарю ее и говорю, что вчерашний тест тоже сдавала ей.
– А, – говорит она. – Ладно.
Я жду отца возле сторожевой будки у главного входа. Черный парнишка из моей группы тоже ждет там. Ростом он, должно быть, под два метра. Он перемахнул через стену, как гимнаст, перепрыгивающий через коня. Он спрашивает, как прошло у меня.
Я пожимаю плечами: «Сдала. Не гениально, но сдала».
Он говорит, что остальное не важно.
Я спрашиваю, откуда он; отвечает, что из Джексона, Миссисипи. Окончил университет штата и поступил в юридическую школу при Университете Миссисипи, но хочет быть полицейским в Лос-Анджелесе. «Мои родители хотят, чтобы я стал юристом, но я здесь, потому что это то, чего хочу я, – говорит он. – Я думал стать полицейским в Миссисипи. Чуть было колледж не бросил, но вовремя передумал. Остался. И вот теперь я здесь».
Мне хочется сказать ему, чтобы он послушал родителей, но у него удачный день и он не нуждается в моем участии. Мы поздравляем друг друга, желаем друг другу удачи. А вот уже и папа приехал.
Сегодня я поняла, что не могу примкнуть к Полицейской академии, я недостаточно прочна. Позже мое видение затуманится. Я уже не буду так хорошо помнить свои страхи и неудачи. Позже я буду помнить лишь то, что сумела пройти. Другие будут говорить, что могла бы завершить начатое, но предпочла отказаться. И все же, возвращаясь в тот полдень с моим отцом, проезжая через Елисейский парк, я знаю правду. Никогда в жизни. Решив, что сейчас самый подходящий момент, говорю об этом отцу.
– Поживем – увидим, – отвечает он.
Но после того, как я принимаю самый долгий душ в моей жизни и съедаю завтрак, который он мне приготовил, он говорит, что хочет мне кое-что сказать.
– Если только ты не собираешься работать в полиции, тогда, думаю, тебе лучше отказаться от зачисления в Академию. Я говорю это лишь потому, что ты сказала, что не хочешь туда идти, и я не думаю, что ты вправе занимать место, которое кто-то другой хочет получить больше всего на свете.
– Но я же сразу сказала, что не хочу быть полицейским, что все это нужно для моей работы, для писательства.
– Я тебе не поверил, – говорил он.
Позже в тот день отец вручает мне два подарка: медальон Девы Марии[13], подаренный ему в школе его любимой монахиней, и обручальное кольцо, оставшееся от их брака с мамой. «Оно увесистое, высокой пробы, – говорит он, – ты можешь расплавить его и отлить что-нибудь приятное».
Как он мог свыкнуться с мыслью, что я не хочу стать полицейским? Это была мечта его жизни, не моей. Папа поступал в академию три года подряд. Раз за разом он пытался обжаловать решение медкомиссии, но его не допускали из-за болезни сердца. Когда он наконец нашел врача, который согласился подмахнуть бумаги, папа не оставил им возможности отказаться от него. Тридцать два года он не выходил на больничный, потому что боялся заново повторять процедуру с медицинской справкой для возвращения к работе. Вот что это значило для него. Так почему бы ему не подумать, что и я могу хотеть того же самого.
Некоторое время после того, как я сдала тест, меня не покидало ощущение провала – хотя я прошла, и результаты моего устного теста, пришедшие через две недели, оказались наивысшими из возможных. Отец сказал, что на его памяти еще никто не получал 100 баллов за устный экзамен. У меня не было того, чем обладал мой отец, чтобы поступить в академию, а если бы и было, теперь я понимала, что книга, которую я намеревалась написать, была невозможна. Когда я думала о тех, с кем сдавала экзамены, об их глубоком и непреходящем желании получить эту работу, я знала наверняка, что никогда бы не последовала совету офицера Крейна сообщать о любом проступке, а уже тем более в письменном виде. Я была своей, даже если не была полицейским, и моя привязанность к этой институции неразрывно связана с моей привязанностью к отцу. Папа всегда настаивал на том, чтобы я не рассказывала историю, если только у нее не счастливый конец.
Поэтому я отложила свои записи, завершила резидентуру в Рэдклиффе и вернулась в Теннесси. Я вернулась к созданию романов. Помимо перепрыгивания время от времени через шестифутовую стену – этот навык я поддерживала, – я вспоминала этот опыт как нечто, чего не делала; как книгу, которую не писала. Но в 2007 году редактор «Вашингтон пост» попросил меня написать эссе о каком-нибудь необычном лете в моей жизни, и я сказала, что напишу статью о том лете, когда пыталась поступить в Полицейскую академию. Перебирая записи, сделанные много лет назад, я вспомнила то главное, что стояло за моими намерениями и все эти годы оставалось неизменным: я горжусь моим отцом. Я горжусь делом его жизни. В течение недолгого времени я видела, как нелегко быть полицейским в Лос-Анджелесе, как просто потерпеть неудачу на этой работе, сколь многие ее потерпели. Мой отец преуспел. Он хорошо служил своему городу. И мне хотелось бы обратить на это ваше внимание.
2007
Факт против вымысла
Выступление в Университете Майами в Огайо, 2005 год
Я взяла за правило не говорить на публике о «Правде и красоте»[14]. Когда она только вышла, я не поехала в книжный тур и не давала интервью, как поступила бы с романом. Не потому, что я не хочу говорить о Люси или потому, что это меня расстраивает; дело не в этом. На самом деле я люблю говорить о Люси. Но я не хотела рассказывать одни и те же истории снова и снова, пока они не износятся, не примелькаются, не станут рутинной рекламной кампанией книги. Приехать в Университет Майами в Огайо я решила, потому что меня чрезвычайно тронуло ваше желание прочесть и мою, и ее книгу. Я всегда представляла их обе как этакую путешествующую парочку, в том же смысле, в каком мы с Люси были парочкой. И все же не могу отделаться от мысли, как было бы здорово, если бы Люси была рядом, чтобы говорить вместо меня. Так было бы лучше, потому что писательство приносило Люси особенные страдания. В лучшем из возможных миров я бы писала книгу, а она могла бы выйти в свет и давать публичные выступления. Она это обожала. Люси принимала любые приглашения, если ей были готовы оплатить дорогу. У нее был врожденный талант находить общий язык с людьми. Куда бы она ни отправилась, неизменно встречала обожание, и была способна это обожание вместить. Впрочем, она часто опаздывала на рейсы или, едва прибыв на место, забывала, на какое время у нее запланирована лекция. Поэтому вы, к сожалению, получили менее колоритного, но более надежного члена команды, что, полагаю, можно счесть за относительное благо. Если бы я умерла первой, уверена, Люси захотела бы написать обо мне книгу. Правда, не уверена, что она бы за нее села.
Я познакомилась с Люси на несколько лет раньше, чем она со мной. Впервые я увидела ее в первый день нашего первого курса в колледже. Не помню, чтобы кто-то рассказывал мне ее историю, тем не менее она была мне известна, как нам бывают известны интимные подробности жизни кинозвезд. Мы не стремимся их узнать, они будто бы просто просачиваются в наше сознание. В детстве Люси перенесла рак. Она потеряла половину челюсти. Она была одним из первых детей, прошедших через химиотерапию. Она едва не умерла. Я наблюдала за ней со стороны – с интересом, но без желания вмешиваться. В течение первых учебных недель она часто бывала одна – крошечное существо с опущенной головой, прячущее свое уродство под плотной завесой волос, – но очень скоро она стала центром внимания. Она остригла волосы. Она вращалась в кругу самых популярных студентов, старшекурсников, а они советовались с ней и смеялись над ее шутками. Несмотря на то что у нее отсутствовала часть лица, я считала ее обворожительной. Даже не осознавая этого, я придумала историю о Люси, а затем эта история заменила мне знакомство с ней. Я превратила ее в смелую гламурную девушку. Она была подобна героине романа, которая встречается с собственной смертью и выходит из этой схватки еще сильнее, чем была, закаленная в огне собственного опыта. Иногда я здоровалась с ней, встречаясь в столовой, а она смотрела на меня, будто видела впервые, и ничего не отвечала.
Мы ни разу не общались, но я забывала об этом, ведь мне так много было о ней известно. Позже, когда мы подружились, меня искренне удивило, насколько сильно выдуманная мной история не соответствовала ее жизни, но также я была удивлена тем, как много всего угадала. Когда мы обе поступили в магистратуру в Айове, Люси стала поэтом, я писала рассказы. Осенью, перед тем как поле засыплет снегом, поэты играли в софтбол против прозаиков. Мы с Люси сидели у исходных линий – единственные писатель и поэт, сидевшие вместе. Стихотворцы всегда выигрывали, беллетристов это нисколько не заботило. Пускай у поэтов сильные подачи, в жизни им придется тяжелее. Едва ли вам посоветуют заниматься поэзией, если только вы не планируете едва сводить концы с концами. Когда мы выпустились из Айовы, Люси решила попробовать рассказать историю своей жизни, которую столь многие годами охотно рассказывали за нее. Первым делом она написала эссе для «Харперс Мэгэзин» о чувстве свободы, которое испытывала, надевая маску на Хеллоуин. За эссе последовал контракт на книгу, и этой книгой стала «Автобиография лица[15]». Люси ворвалась на литературную сцену – как всегда и планировала; только помогли ей в этом мемуары, а не сборник стихов.
Нас часто спрашивали, соперничаем ли мы друг с другом. В конце концов, мы обе писательницы. Мы учились на параллельных курсах, часто выигрывали одни и те же стипендиальные программы; какое-то время у нас и издатель был один. Могут ли лучшие подруги раз за разом оказываться на одном и том же игровом поле, не испытывая некоторого напряжения по поводу того, кто же вырвется вперед? Мы действительно соревновались в определенных аспектах: кто больше и плодотворнее работал или кто смотрелся более эффектно в нашем одном на двоих бледно-зеленом платье; но когда дело касалось внешних признаков успеха, ни о какой конкуренции речи не шло. Раз уж на то пошло, то, чем мы занимались, было слишком разным: я писала романы, вытягивала истории из своего воображения. Люси была эссеистом, она писала нон-фикшн, опираясь на собственный опыт. Если коротко, она говорила правду, а я лгала.
Люси была моей ближайшей подругой на протяжении семнадцати лет. Я знала ее, как никто на свете, она, как никто на свете, знала меня. Она была невероятно сложным человеком: закомплексованной и раскрепощенной, требовательной и любящей, угрюмой и вместе с тем способной быть душой любой компании. Я знала, что мне не под силу удержать ее в моем сознании такой, какая она есть. Я знала, что с каждым годом после ее смерти память о ней будет размываться. Она сама будет казаться все мягче и милее, а мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Именно бесстрашие и свирепость Люси я любила особенно сильно. Почти сразу после ее смерти я написала статью о ней в один журнал. Я подумала, что если запишу все это, нашу общую историю, историю нашей дружбы и того, что мы вытворяли, то смогу запомнить правду о ней. Так же, как это случилось с Люси, моя статья привела к контракту на книгу, и я была благодарна. Мне хотелось рассказать очень о многом. Снова и снова люди спрашивали меня: «Ну что, тебе уже легче? Выглядишь гораздо лучше». Но я не хотела, чтобы мне становилось легче. Я хотела быть с Люси, и книга давала мне эту возможность.
И вот теперь есть три истории: одну я сочинила до личного знакомства с Люси, другую она рассказала мне сама, третью я рассказала после ее смерти. Между этими тремя есть еще три сотни других: те, что Люси рассказывала незнакомым парням в аэропортах, те, что рассказывали о ней глянцевые журналы, те, что я узнала от нее, но не могу рассказать, и те, что она никогда мне не рассказывала, а еще досочиненные факты о ней, которыми делились друг с другом ее студенты и писали в интернете ее поклонники. Каждая из этих историй была портретом необыкновенной, сложной женщины, но не было двух таких, в которых наверняка говорилось об одном и том же человеке. Сам собой напрашивается вопрос: что же такое правда?
Люси говорила правду. А я прозаик. Сочинитель.
Что представляет собой вымышленная история? Раньше я немало гордилась тем, что люди, читавшие мои романы, даже те, кто прочли все мои романы, знают обо мне или моей жизни не больше, чем когда только начали читать, – то есть ничего. Я писала о матерях-одиночках из Кентукки, о черном музыканте из Мемфиса, писала о иллюзионисте-гее из Лос-Анджелеса, о захвате заложников в Перу. Общее количество реальных знаний, которыми я обладала по каждой из этих тем, имело не больше веса, чем выпуск журнала «Пипл». Я придумываю персонажи и их жизненный опыт, но эмоциональная составляющая моих книг реальна. Это моя эмоциональная жизнь. Полагаю, это верно для любого прозаика. Ярко-зеленый космический пришелец с тремя головами и семнадцатью пальцами-присосками из какого-нибудь новомодного фантастического романа, может не иметь сходства с реальным человеком, но при этом обладать теми же эмоциями, что и мать автора. Одно из моих персональных жизненных открытий заключается в том, что неважно, насколько разный у нас жизненный опыт, реагируем на те или иные события мы чаще всего одинаково. Вот почему в нас отзывается история ребенка, страдающего от рака, а впоследствии от унижений и жестокости окружающего мира Каждый когда-нибудь чувствовал себя униженным. Каждый из нас чувствовал, что недостаточно хорош собой или хорош собой не в общепринятом смысле. Мы все чувствовали себя непонятыми. Всем нам хотелось немного больше любви. Поэтому, даже не переболев раком, мы способны понять чувства Люси. Вот в чем заключалось ее искусство: она могла взять крайне специфическую тему и превратить ее в универсальную.
Выдумываю ли я диалоги своим персонажам? Безусловно, но также я верю, что это слова, которые люди сказали бы друг другу в подобной ситуации. Выдумывала ли Люси диалоги своим персонажам – реальным людям, действовавшим в реальные моменты ее жизни? Еще бы. Кто может вспомнить все сказанное?
Кто сочиняет? Кто говорит правду? Все мы превращаем наши жизни в истории. Это определяющая характеристика нашего вида. Мы пересказываем наш опыт. Мы быстро схватываем, какие события интересны другим, а какие лучше опустить, и в соответствии с этим выстраиваем наши истории. Это не значит, что мы лжем; мы просто знаем, о чем стоит умолчать. Каждый раз, рассказывая историю заново, мы не возвращаемся к исходному событию, не начинаем с самого начала; мы отталкиваемся от того, как история звучала в последний раз. Именно эту историю мы совершенствуем, придаем ей форму, не меняя того, что произошло на самом деле. Помимо прочего, это наш способ самозащиты. Это слишком больно – проживать свою детскую болезнь или смерть своей лучшей подруги каждый раз, когда об этом заходит речь. Отталкиваясь от самой по себе истории, а не от реальных событий, мы абстрагируемся от собственных страданий. Также в этом заключена возможность донести историю до других. Есть множество вещей, которые Люси не включила в «Автобиографию лица», главным образом касавшихся того, какой беспощадной и бесконечно долгой была ее болезнь, как тяжко, как выматывающе было проживать ее неделями, порой месяцами. Она в точности понимала, сколько читатель способен вынести, чтобы продолжать чтение. Она писала не о том, что ей самой пришлось пережить; она писала о том, что, по ее мнению, способен пережить читатель.
Подобно тому как каждая рассказанная нами история содержит собственные акценты, каждая прочитанная заключает в себе опыт другого человека. Неважно, что это – газетная статья или глава из школьного учебника, – автор принял решение по поводу того, о чем упомянуть и о чем умолчать. Это не значит, что он или она искажает правду; это означает лишь то, что всего в точности не передашь. События можно лишь трактовать. Даже работа фотографа ограничена рамками кадра. Четыре угла – не меньше, но и не больше. Кого вы предпочтете оставить за кадром? Кого запечатлеете?
Этот вопрос живо интересовал Люси. Создавать искусство было для нее гораздо важнее, нежели придерживаться голого факта, тем более что она понимала: факт невозможно запечатлеть во всем объеме. Об этом, в частности, она писала в эссе «Мой Бог»:
«Винсент Ван Гог в письмах своему брату Тео неоднократно акцентировал внимание на материальности мира. Ему было важно видеть, трогать, вдыхать, чувствовать на вкус окружающий мир. Увидеть нечто, а затем дать физическое воплощение возникшему чувству – при помощи угля или кисти. Руки были проводниками его разума, пытались расшифровать многочисленные зерна мысли, переживания, нащупать тонкую грань между действительным и воображаемым, между светом и тем, чего он касается. Хотя Ван Гог никогда не слышал ни о волновой, ни о корпускулярной теории света, он понимал, что мы не просто «смотрим» на стул или стол, – это свет, отражающийся от них, ласкает наши глаза. Цвет, будучи наиболее прямым визуальным воплощением, например, дерева, создается в том числе светом, которое дерево способно отразить. Оно впитывает все световые волны цвета, делает их частью себя; зеленый, что мы видим, – негатив, отраженная реальность, не имеющая прямого отношения к самой себе. Наше определение реальности начинается за пределами физической реальности как таковой».