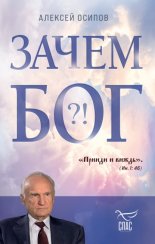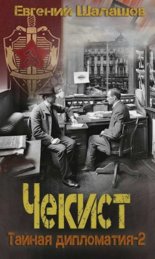Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец Макинтайр Бен

Глава 4. Когда Соня пляшет
1 апреля 1931 года Руди и Урсула Гамбургер переехали в собственный дом, стоявший на усаженном платанами бульваре в самом центре Французской концессии. Снятый у британской компании двухэтажный особняк располагался на авеню Жоффра, 1464, и был отделен от дороги просторным садом.
После девяти месяцев в Шанхае Урсула и Руди были готовы пустить корни. Для растущей семьи квартира Войдтов была уже тесновата. “В жару эти маленькие комнатки под самой крышей были не самым подходящим местом для ребенка”, – рассказывала Урсула матери. Но у нее была еще одна причина для переезда. Зорге, организовывавшему по две-три тайных встречи в неделю, требовалось более надежное место. Марианна Войдт, бывало, совершенно неожиданно возвращалась домой и однажды столкнулась с Зорге прямо на пороге. Постоянные визиты наверняка уже бросались в глаза.
В качестве места для тайных встреч новый дом на авеню Жоффра был настоящей находкой. Прислуга (кухарка, бой и няня, “ама”) размещались в отдельном помещении по ту сторону внутреннего дворика. “Дом хорошо просматривается, другие здания его не закрывают”, – писала Урсула. Любого человека, появлявшегося со стороны фасада, можно было заметить задолго до его приближения к входной двери. “У нас совершенно замечательный новый дом. Руди потрудился над интерьером, все оформлено с большим вкусом. В садах прекрасные лужайки, цветы и несколько старых высоких деревьев. Мы впервые живем одни и получаем от этого огромное удовольствие”. Руди даже не догадывался, по каким критериям этот дом был выбран на самом деле.
Встречи возобновились незамедлительно и проходили по тому же продуманно непредсказуемому сценарию. Урсула незаметно стояла на карауле в гостиной или – в хорошую погоду – нянчила ребенка в саду, внимательно следя за воротами, пока Зорге проводил серьезные тайные собрания с мужчинами (и крайне редко с женщинами), чьих имен она никогда не знала.
В письмах домой Урсула ни словом не обмолвилась о своей подпольной жизни. Зато в красках живописала свои повседневные дела, виды и звуки Шанхая и своего обожаемого ребенка. “Волосы у Миши до сих пор рыжие, рот дедушкин, глаза с каждым днем все ярче, но нос до сих пор сохраняет вполне христианские очертания. Он часто приветствует нас, подняв кулачок, словно он уже красный фронтовик. Но не волнуйтесь, он еще не говорит и свои политические убеждения пока держит при себе”. Иногда она описывала захлестнувшую Китай волну расправ над коммунистами. В некоторых районах вычищались целые семьи. Урсула в полной мере осознавала, что может стать следующей жертвой. С младенцем, требовавшим постоянной заботы, ставки, казалось, неизмеримо возросли. Позже она писала: “Мне приходилось быть все время настороже на случай, если за домом или за мной велась слежка. Перед встречами с товарищами и после них я старалась быть начеку”.
“Белый террор здесь чудовищен”, – писала Агнес Смедли американскому писателю Эптону Синклеру. За четыре кровопролитных года, последовавших за первой Шанхайской резней[4], было уничтожено по меньшей мере 300 000 человек. Подозревавшихся в симпатиях к коммунизму сотнями задерживали – или просто похищали – и убивали гангстеры Ду. “Из тюрем возвращались единицы, – писала Урсула. – Большинство так и не достигало этого рубежа: их расстреливали, избивали до смерти, хоронили живьем или обезглавливали. В провинциальных городах их головы водружали на столбы у городских ворот – для устрашения населения… Иностранные державы, разумеется, всецело поддерживают Чан Кайши в его широкомасштабной кампании по подавлению красных. Я видела чудовищные фотографии, и все это правда”. Но и сами коммунисты были способны на невероятную жестокость, особенно в отношении своих соратников, которых они подозревали в предательстве.
Гу Шуньчжан, некогда профессиональный фокусник, был опытным убийцей и руководителем Красной коммунистической бригады, так называемого “Отряда по истребленю псов”, занимавшегося преследованием предателей партии и убийствами сотрудников тайной полиции Гоминьдана. В апреле 1931 года Бюро общественной безопасности арестовало Гу, который предпочел казни сотрудничество. “Живой справочник” членов партии, он сдал полиции множество коммунистов, и большинство из них были пойманы и казнены. Выжившим руководителям партии пришлось залечь на дно, скрываясь в конспиративных квартирах Шанхая. Однако сперва они должны были расквитаться. По приказу Чжоу Эньлая, самого влиятельного коммуниста из тех, кто остался в Шанхае (в дальнейшем он станет первым премьер-министром Китайской Народной Республики), тридцать членов семьи Гу были похищены, убиты и захоронены в саду Французской концессии, недалеко от нового дома Урсулы. Пощадили лишь его двенадцатилетнего сына.
В одно прекрасное летнее утро, когда Мише было почти полгода, Урсуле позвонил Рихард Зорге – и не для того чтобы назначить новую встречу, а с совершенно иным предложением:
– Не хочешь прокатиться со мной на мотоцикле?
Зорге ждал Урсулу на окраине города, сидя на огромном черном мотоцикле “Цюндапп-К500” с двухцилиндровым оппозитным двигателем. Он объяснил ей, как ставить ноги на подножку, и велел держаться покрепче. И они помчались – на умопомрачительной скорости. За рулем Зорге был фантастически безрассуден. Вскоре город остался позади, они летели по сельской местности, вдоль рисовых плантаций и деревень, и Урсула крепко сжимала Зорге в своих объятиях. “Завороженная его лихой ездой, я кричала, чтобы он ехал еще быстрее”. Зорге жал на газ, и мотоцикл словно отрывался от земли. Урсула оцепенела от восторга.
“Когда мы остановились, – писала она потом, – я словно стала другим человеком. Я смеялась, резвилась и говорила без умолку”. От ее тревоги не осталось и следа. “Ненавистная светская жизнь в Шанхае осталась где-то позади, вместе с постоянной необходимостью соблюдать этикет, ответственностью подпольной работы и чрезмерным беспокойством о сыне… Я перестала бояться”. Много лет спустя она размышляла: “Быть может, он задумал эту поездку лишь для того, чтобы испытать мою силу и мужество. Если же он все-таки искал способ наладить со мной более тесный контакт, то избрал для этого верный путь. Эта поездка меня раскрепостила”.
Зорге понимал соблазнительную силу мощного мотоцикла. Урсула разделила его тягу к риску. Поездка, несомненно, была испытанием, но скорее эмоциональным, нежели физическим. Когда именно Урсула Гамбургер и Рихард Зорге стали любовниками, до сих пор остается предметом споров. Годы спустя на вопрос о своих отношениях с Зорге Урсула ответила уклончиво: “Монашкой я не была”. Как следует из большинства источников, их отношения перестали быть платоническими вскоре после этой головокружительной гонки, а возможно, и в тот же день где-то на китайских просторах недалеко от Шанхая.
До этого Урсула, шпионка-домохозяйка, существовала на периферии агентуры Зорге, ей отводилась роль хранительницы конспиративной квартиры, деликатной помощницы, не задающей лишних вопросов. “Я едва догадывалась, что происходит в моем собственном доме”. Когда между ними установилась близость, она оказалась в ближайшем окружении Зорге и стала его верным единомышленником, партнером и доверенным лицом. “Наши разговоры стали более содержательными”, – писала она. Зорге описывал свое детство в Баку, рассказывал об ужасах, пережитых на войне, о своем убеждении, что лишь коммунизм способен одержать верх над бичом фашизма, о дочери в России, которой ни разу не видел, и о жене, о которой никогда ранее не упоминал. Никакого “сенсационного признания” Зорге, на кого он работает, не случилось, но в дальнейшем Урсуле стало очевидно, что ее любовник руководит масштабной разведоперацией, организованной и финансируемой советской Красной армией, и сама она была теперь ее неотъемлемой частью. Теперь после конспиративных встреч на авеню Жоффра Урсула уже не прогоняла Зорге.
Зорге познакомил Урсулу с другими членами своей агентуры. Его главный радист Макс Клаузен служил раньше матросом в германском флоте; он соорудил крошечный 7,5-ваттовый передатчик, габариты которого позволяли спрятать его в буфете, но при этом мощности хватало на связь с принимающей советской станцией во Владивостоке. Заместителем Клаузена был Йозеф “Зепп” Вейнгартен, которого за постоянное пьянство прозвали Трезвенником. “Белобрысый, розовощекий, доброжелательный” и на редкость некомпетентный Вейнгартен, женатый на белоэмигрантке, не решался признаться ей, что работает на коммунистическую разведку, и жил в постоянном ужасе, что однажды она обо всем узнает. Фотографом группы, отвечавшим за копирование документов на микропленку, был двадцатипятилетний поляк из Лодзи по имени Гирш Герцберг, известный под именем Григор Стронский, или Гриша. Его незаурядная внешность и степенные манеры произвели на Урсулу большое впечатление: “У него были темные вьющиеся волосы на косой пробор, лоб, блестевший так, словно его отполировали, темные глаза и выдающиеся скулы”. В качестве прикрытия он держал фотомагазин, который оформил Руди, даже не догадываясь о его конечном предназначении. Гриша Герцберг стал частым гостем на авеню Жоффра – светская и тайная жизнь Урсулы все теснее переплетались. Урсула окунулась в новую главу истории, потихоньку изучая новых персонажей. Той весной Герцберг ее сфотографировал: Урсула лукаво выглядывает из-за пиалы с кофе. Отдавая ей проявленный снимок, польский фотограф отметил: “Очень здорово схвачено – типичная ты. Фотографию можно назвать «Портрет пиратки»”. Озорной и жизнерадостный вид и правда делал ее вылитым корсаром-коммунистом.
Еще была Иза. Ирен Видемайер (или Вайтемайер), немецкая еврейка из Берлина с “веснушками на белой коже, светло-голубыми глазами и непослушными рыжими волосами”, управлявшая книжной лавкой “Цайтгайст” у бухты Сучжоу, понравилась Урсуле с первого взгляда. “Есть одна подруга, о которой я должна вам рассказать, – писала Урсула домой. – Однажды сюда приехала юная девушка, одна как перст, зато с ящиками книг… Ей 23 года. Отважно, правда?”
“Цайтгайст” был не просто книжным магазином, а “Иза” Видемайер – не просто решительной его владелицей. Вступив в КПГ еще в подростковом возрасте, Видемайер вышла замуж за китайского коммуниста, училась в Москве в Университете имени Сунь Ятсена в 1926 году, ушла от мужа, когда тот примкнул к троцкистам, похоронила маленькую дочку, заболевшую менингитом, и оказалась в Шанхае. Ее книжный магазин был филиалом берлинской группы Zeitgeist Buchhandlung, сети магазинов, существовавшей за счет Коминтерна. Магазин Видемайер использовался как тайник и место встречи Коминтерном, 4-м управлением (агентурой Зорге), НКВД и другими отделениями действовавшей в Шанхае советской разведки. “Указания и информацию агенты получали в записках, вложенных между страницами определенных книг”. Глава американской военной разведки генерал Чарльз Уиллоуби в дальнейшем называл книжный магазин “Цайтгайст” “вербовочным пунктом 4-го управления РККА”. Советские и другие иностранные коммунисты буквально сбивали друг друга с ног в магазине фрау Видемайер, занимавшем небольшое пространство 5,5 на 3,5 метра.
Урсула и Ирен тут же сблизились и стали единомышленницами. “Она была мне как сестра”, – писала Урсула.
Урсула нашла новую, тайную семью. “Товарищи стали моими ближайшими друзьями, – писала она в дальнейшем. – Мне хотелось оберегать их, как моего маленького сына… подобно тому как среди ночи я просыпалась при малейших звуках моего ребенка, так и тут я была настороже, стараясь не упустить даже самых незначительных происшествий и вообще всего, что могло нарушить привычный ход жизни моих товарищей”. По указанию Зорге Урсула теперь передавала послания членам агентуры, зачастую в книжном магазине, став – на шпионском жаргоне – “связником”. Она получала от него рукописные записки с нелегально полученной военной и экономической информацией и перепечатывала их. Слишком длинные, чтобы отправлять их по рации, эти документы, насчитывавшие порой по несколько сотен страниц, отправлялись в Москву на советских кораблях.
Как привратница на встречах Зорге, Урсула водила шапочное знакомство с некоторыми из его агентов, в том числе с “хрупкой юной китаянкой с короткой стрижкой, бледным лицом и слегка выдающимися вперед зубами”, дочерью генерала Гоминьдана, имевшей доступ к полезной военной информации. Двумя завсегдатаями дома на авеню Жоффра были чиновники правительства, учтивые молодые люди, работавшие в Институте общественных наук. Ей они были знакомы только как Чэнь и Ван. Они предложили преподавать ей китайский. Зорге согласился, что уроки китайского были бы хорошим прикрытием для частых визитов Чэня и Вана. Обладая природной склонностью к языкам, Урсула получала удовольствие, разбираясь в головоломках трудного предмета. Даже фамилию “Гамбургер”, писала она матери, можно было разложить на составляющие: “«Хан-бу-га», где Хан = известная китайская фамилия, Бу = живописец, а Га = добрый нрав. В итоге: «высококлассный художник с добрым нравом из семьи Хан». Разве это не вылитый Руди? А теперь Урсула: Уссула = «чистая, как орхидея», что совершенно мне не подходит”.
Однажды Зорге втащил к ней в дом чемодан с документами, попросив Урсулу подыскать для него какое-нибудь надежное место. Она спрятала его во встроенный буфет за тяжелым, обработанным от моли сундуком с зимней одеждой. Так Урсула стала хранительницей пленок агентуры Зорге, а также печатных материалов коммунистической пропаганды и прочих компрометирующих материалов. Спустя несколько недель Зорге вернулся с тяжелым запертым дорожным сундуком и двумя носильщиками-китайцами, которые внесли его наверх. Его Урсула поставила рядом с чемоданом.
Приезжие немцы, чья компания раньше так утомляла Урсулу, превратились теперь в ценный источник информации. По наущению Зорге она стала обращать больше внимания на сплетни в “Конкордии”, у бассейна Каттвинкелей и на чаепитиях у Бернардин Сольд-Фриц. Константин фон Унгерн-Штернберг и Карл Зеебом проявляли удивительную неосмотрительность, обсуждая деловые контракты своих нанимателей, “Сименс” и “ИГ Фарбен” – немецких компаний, поставлявших китайскому правительству военные технологии. Урсула внимательно слушала пространные политические лекции журналиста Плаута, даже не подозревавшего, что она “без зазрения совести выуживает из него все до капли”. Даже генеральный консул Генрих фон Колленберг-Бёдигхайм получал удовольствие от бесед с привлекательной юной женой муниципального архитектора. “Мне не приходилось мучить себя, прикидываясь нацисткой”, – писала она. Вместо этого она играла роль любопытной, безобидной и слегка скучающей молодой домохозяйки, которая не прочь пройтись по магазинам и нисколько не интересуется политикой. Зорге просил ее давать собственную оценку собранной информации. “Одних фактов Рихарду было мало. Если я бывала излишне лаконична, он говорил: «А что ты думаешь на этот счет?»” Когда она возвращалась с более полным докладом, он хвалил ее: “Хорошо, вот достойный анализ”. Она впитывала методы шпионской работы, почти не осознавая этого: внешняя оболочка и скрытая внутренняя жизнь, отсеивание посторонних материалов, неусыпная бдительность, обманные приемы.
“Скрытность стала моей второй натурой”, – писала она.
В любой вечер за ужином у Гамбургеров могли оказаться Джимсон из муниципального совета, Плаут из Трансокеанского телеграфного агентства Гоминь, обладательница самой первой точки G Рози Грэфенберг, журналисты, военные чиновники и коммерсанты из клуба, Агнес Смедли и профессор Чэнь Ханьшэн из университета. Подогретые вином из запасов Руди, гости непринужденно болтали, в большинстве своем не допуская даже мысли, что в их компании скрываются шпионы, и уж тем более не подозревая в шпионаже хозяйку дома. Частым гостем таких ужинов бывал Рихард Зорге. Руди нравился этот бесшабашный немецкий журналист, разъезжавший на большом мотоцикле и знавший множество откровенных анекдотов. Развлекая своих гостей, Урсула то и дело ловила на себе взгляд Зорге, ощущая незримую чувственную связь с ним. “Мне нравилось наблюдать, как Рихард меня слушает, по выражению его лица я могла судить, значим для него обсуждаемый предмет или нет”. Как писал биограф Зорге, “застольные беседы в изложении Урсулы стали регулярно появляться в его телеграммах Центру”.
В своих донесениях в Москву Зорге дал Урсуле кодовое имя Соня.
По-русски Соня – это не только имя, но еще ласковое наименование любителя поспать. Таким образом Зорге отметил способность Урсулы скрываться у всех на виду, быть “кротом”, как на жаргоне разведчиков называют агента глубокого внедрения. Но в Шанхае 1930-х годов Сонями называли еще и русских проституток, стоявших вдоль Норт-Сычуань-роуд, которые зазывали клиентов “дежурной фразой: «Прынц, не откажи в любезности, купи Сонечке бутылочку вина»”. А шлягером в ночных клубах Шанхая была песня со словами: “Когда Соня пляшет под русскую песню, нельзя перед ней устоять. Ей в подметки никто не годится. В крови ее бурлит Волга, водка, Кавказ. И Владимир влюбился без памяти, водку прочь отставляет, лишь бы на Соню глядеть…”
Это кодовое имя скрывало смысл, понятный лишь Зорге и Урсуле.
Как и многих разведчиков, Урсулу все сильнее пьянила рискованность ее двойственного положения, переплетение опасности и семейного быта, необходимость вести публичную и глубоко засекреченную жизнь одновременно. “Никто из наших знакомых даже в самых безумных снах не мог бы себе представить, что я, мать маленького ребенка, буду рисковать семьей и всем, что мы создали своими руками в Китае, связавшись с коммунистами”. И все же мысль о том, чт может произойти, не давала ей покоя во сне. В одном из ее кошмаров полиция выбивала дверь их дома, находила компрометирующие доказательства и хватала ее ребенка. Урсула просыпалась в ознобе и холодном поту. Она знала, что подвергает семью огромной опасности. Но одного этого знания было мало, чтобы ее остановить.
Шпионаж требует огромного напряжения. Как и воспитание ребенка, ведение домашнего хозяйства в чужой стране и сокрытие внебрачной связи. Разрываясь между супружеским долгом и любовником, буржуазными светскими обязанностями и подпольной коммунистической деятельностью, ребенком и идеологией, Урсула должна была идеально распределять приоритеты в различных сферах своей жизни и обладать повышенной психологической выносливостью. “Подпольная работа глубоко отразилась на моей личной жизни, – писала она. – Руди был добр и внимателен как никогда, а я не могла говорить с ним ни о самых близких мне людях, ни о работе, вокруг которой строилась вся моя жизнь”. Ее брак дал трещину, не выдержав двойного давления – разведки и супружеской неверности.
Рудольф Гамбургер был мягким и доверчивым человеком, но не дураком. Он наверняка заметил, что жена проводит все больше времени со своими друзьями-леваками, рыжеволосой Изой и мрачноватым Гришей. Урсула просила мужа приглашать на ужин чиновников. Неужели его не удивил ее внезапный интерес к общению с теми, кого она раньше презирала? Неужели он не задавался вопросом, почему едва ли не на каждом званом ужине в их доме появляется Джонсон, немецкий красавец журналист с английским именем? Неужели он не подозревал, что у его жены могут быть какие-то дела днем, пока он работает в конторе в центре Шанхая? Большинство рогоносцев, зачастую не догадываясь об этом, являются соучастниками измен. Не закрывал ли он глаза на то, чего не желал замечать?
Агнес Смедли, разумеется, знала, что происходит между Урсулой и Зорге, и не была этому рада. Агнес выступала за свободную любовь, пока свобода была в ее руках. Романтический аспект ее отношений с Зорги уже исчерпал себя, как она и предсказывала, но она была не готова к тому, что ее юная протеже станет любовницей ее бывшего любовника. “Агнес плохо восприняла слухи о нашем романе”. Наедине с Урсулой она была все так же приветлива, но в присутствии других людей, особенно Зорге, отпускала презрительные ремарки и всячески старалась унизить подругу. Она высмеивала интерес Урсулы к нарядам, стряпне и развлечениям. У радиста Клаузена сложилось мнение, что Агнес – “истеричная, самовлюбленная женщина”. Смена любовниц Зорге добавила к и без того взрывной смеси из секса и политики новый, совершенно непредсказуемый элемент.
Однажды днем Зорге появился в доме Урсулы в компании крупного ужчины “с круглой, почти лысой головой, маленькими глазками и неожиданно дружелюбной улыбкой”. К ним присоединились два китайца, которых Урсула никогда раньше не видела. Спустя полчаса она принесла поднос с чаем в комнату на верхнем этаже и увидела в руках у четверых мужчин револьверы. “В открытом чемодане и на ковре лежало оружие”: ружья, пистолеты, автоматы и боеприпасы. “Два китайских товарища учились собирать и разбирать оружие”. Зорге вывел ее из комнаты, но, безусловно, весь этот арсенал предстал перед глазами Урсулы неслучайно. Этот эпизод был новым подтверждением важности ее роли. В шкафу ее спальни хранилось достаточное количество улик, чтобы подвести их всех под эшафот. Теперь Урсула была не только любовницей, доверенным лицом, курьером, секретарем, тайным агентом и архивариусом Зорге, она была еще и хранительницей арсенала его группы. “Я была гораздо полезнее, чем подозревала”, – писала она. Гораздо опаснее было теперь и ее положение.
В конце июня Зорге появился в ее доме без предупреждения, взмокший от пота и взволнованный, у входа его ждали двое носильщиков. “Приготовь чемодан себе и Мише, – сказал он ей. – Возможно, тебе придется срочно покинуть Шанхай и скрыться с товарищами во внутренних районах страны”. Зорге дал ей адрес конспиративной квартиры, где она сможет спрятаться с ребенком и ждать эвакуации в Китайскую советскую республику. О том, чтобы их сопровождал Руди, речи не шло. Зорге обещал позвонить с условным сигналом, если настанет момент для побега. Когда носильщики выволокли сундук и чемодан с оружием и документами вниз, Зорге поспешил прочь. Трясущимися руками Урсула немедленно собрала небольшой чемодан с пеленками, детской одеждой, стерилизованной водой, сухим молоком и сменным бельем. В ожидании звонка она пыталась убедить себя, что, раз “Рихарду было известно о конкретной опасности и о путях к отступлению, положение было не более опасным, чем прежде”. Лежа по ночам без сна рядом с Руди, замирая от волнения и зашкаливающего адреналина, она ждала сигнала к побегу. Пока няня играла в саду с Мишей, Урсула оставалась в доме, не отходя от телефона дальше чем на метр. Военные часто рассказывают, как, оказавшись под обстрелом, испытывают острый прилив воодушевления. Урсула была очень напугана – и окрылена. Перед лицом смерти в ней было больше жизненных сил, чем когда-либо прежде.
Урсула знала о причинах этого кризиса и без лишних вопросов: агентура была скомпрометирована. За несколько дней до этого, 15 июня 1931 года, муниципальная полиция Шанхая арестовала профессора Хилэра Нуленса и его жену Гертруду в их доме на Сычуань-роуд.
Нуленс обладал обескураживающим количеством имен, национальностей и профессий, и все они были фиктивными. В зависимости от обстоятельств он называл себя Полем Кристианом, Ксавье Алоисом Бере, Полем Ругом, Донатом Буланже, Чарльзом Алисоном, Филиппом Луи де Бакером, Самуэлем Херсенсом, Фердинандом Ванеркрюйсеном, Ричардом Робинсоном-Рубенсом и доктором У. О'Нилом. В разное время он провозглашал себя гражданином Бельгии, Швейцарии и Канады, преподавателем французского и немецкого языков, оклейщиком обоев, чернорабочим, механиком и организатором пацифистского профсоюза. Под стать мужу, мадам Нуленс называла себя Софи Луизой Эрбер (урожденной Лоран) и Мари Мотт. Нуленс был низкорослым, “крайне нервным” мужчиной под сорок с пронзительными глазами, он “находился в постоянном движении и, по-видимому сам того не замечая, говорил то на одном, то на другом из трех известных ему языков”.
Еще не будучи уверен, кем именно был этот маленький дерганый человечек, инспектор Гивенс быстро определил, чем тот занимался – он был важным советским шпионом. Все началось с ареста в Сингапуре “подозрительного француза” Жозефа Дюкру, известного курьера Коминтерна, путешествовавшего под именем Сержа Лефранка. На клочке бумаги Дюкру нацарапал телеграфный адрес: “Гилонул Шанхай”, принадлежавший таинственным Нуленсам. Гивенс неделю вел наблюдение за парой, а затем распорядился о “внезапном обыске” среди ночи. В кармане пиджака Нуленса лежал ключ от квартиры на Нанкин-роуд, где полиция обнаружила три стальных ящика с сотнями документов, многие из которых были зашифрованы двойным кодом. Ключ к этому шифру был найден в лежавшем на книжной полке экземпляре “Трех принципов” Сунь Ятсена. После расшифровки тайник оказался настоящей энциклопедией советского шпионажа в Шанхае, включая связи с КПК. В расчетных ведомостях раскрывались “имена курьеров и агентов по всему региону” и коммунистических разведчиков во всех уголках города, в том числе, к изумлению Гивенса, и в самой полиции.
Арестованный Гивенсом человек явно был “центральным звеном провокационного коммунистического заговора”, обладавшим шестью “украденными, «заимствованными» или искусно подделанными” паспортами, штатом из девяти человек, не менее чем пятнадцатью конспиративными квартирами по всему Дальнему Востоку, десятью сберегательными книжками, восемью абонентскими ящиками, четырьмя телеграфными адресами, двумя конторами, одним магазином и необъятным бюджетом на подрывную деятельность: в предыдущие десять месяцев он снабдил невероятными суммами коммунистов в Китае, малайских государствах, Японии, Бирме, Индокитае, на Формозе и Филиппинах. На советские деньги финансировалась также Красная армия Мао, воевавшая с националистическим правительством. Нуленсы, как представлялось, участвовали в “каждом этапе коммунистической деятельности” на Дальнем Востоке под руководством Москвы.
На самом деле Нуленс был Яковом Матвеевичем Рудником, украинским евреем с безукоризненным революционным прошлым: он принимал участие в штурме Зимнего дворца в 1917 году, после чего работал агентом Коминтерна в Крыму, Австрии, Франции и наконец в Китае. Его жена, Татьяна Николаевна Моисеенко-Великая, дочь аристократа и талантливый математик, оставила место на экономическом факультете Петроградского университета ради разведки. В Шанхай они прибыли в марте 1930 года.
Гивенс так и не узнал, как по-настоящему звали человека, попавшего к нему в руки, но торжествовал: “Эти архивы представляли уникальную возможность изучить изнутри и на основе неопровержимых документальных доказательств деятельность разросшейся коммунистической организации «нелегального» порядка”.
Арест Рудника нанес сокрушительный удар по советской разведке на Дальнем Востоке. Сам Сталин немедленно дал указания Коминтерну “закрыть все масштабные операции в Шанхае и немедленно эвакуировать сотрудников”. Советские шпионы бежали, ожидая грядущей волны массовых арестов. Агнес Смедли отправилась в Гонконг, “уехав в такой спешке, что даже не взяла с собой никакого багажа”. Герхарт Эйслер, немецкий соглядатай, настаивавший на том, чтобы Урсула носила шляпу, уехал в Берлин. Некоторые не успели бежать, или бежать им было некуда, и десятки коммунистов оказались арестованы. И без того хрупкая партийная организация в Шанхае была полностью разрушена. В Гонконге британская полиция схватила индокитайского повара по имени Нгуен Ай Куок, сына ученого-конфуцианца. Увлекшись коммунизмом, юноша побывал во Франции, Америке, Китае и Британии (где он работал кондитером на пароме между Ньюхейвеном и Дьепом). Как глава Индокитайской коммунистической партии, он регулярно контактировал с Нуленсом и был приговорен к двум годам заключения военным трибуналом Гонконга. После освобождения в 1933 году Куок сформировал движение за независимость Вьетнама, был премьер-министром и лидером Вьетконга во время Вьетнамской войны. Значительно больше этот человек известен под именем Хо Ши Мин.
Вооружившись документами Нуленса, китайские власти вычислили еще сотни коммунистов в рамках “бескомпромиссного, своевременного и решающего применения карательных мер”, как хладнокровно назвали это британцы. Городское коммунистическое движение в Китае было разгромлено, его руководители разбежались, а оставшиеся на свободе жили в страхе. Тайная полиция прочесывала город, устраивая налеты то на одну, то на другую явочную квартиру. Чжоу Энлай, переодевшись священником, бежал в горы Цзянси. К началу 1932 года в Шанхае остались всего два члена Центрального комитета КПК. Один иностранный журналист (писавший до Холокоста) сообщал, что Белый террор “не имел прецедентов в истории, если не считать завоеваний и убийств гуннов в IV–V веках”.
Зорге не разоблачили. Ни одного из его агентов не было в ведомости Нуленсов, и пока полиция не установила между ними никакой связи. Зорге теперь был “единственным сотрудником советской разведки в городе” с незавидной задачей – разобрать завалы и сделать “все возможное для освобождения Рудников”. Урсуле, Изе Видемайер, Грише Герцбергу и другим членам группы Зорге было дано распоряжение быть готовыми к побегу в кратчайшие сроки. Но дни шли, сигнала к экстренной эвакуации все не раздавалось, и беспокойство Урсулы постепенно улеглось. Чемодан с документами и сундук с оружием вернулись в укромное хранилище в буфете Урсулы. Встречи возобновились. “С этих пор, – писала она, – я держала наготове чемодан с моими и Мишиными вещами”.
Называясь все новыми именами, арестованные Рудники поставили власти в безвыходное положение. Очень трудно вести следствие в отношении человека, если не знаешь, кто он такой на самом деле. Между тем “дело Нуленса” получило международный резонанс: знаменитости левых убеждений, сочувствующие, интеллектуалы и писатели выступали в защиту обвиненных супругов, утверждая, что те являются лишь мирными профсоюзными деятелями, подвергнувшимися жестоким гонениям со стороны китайских фашистских властей.
В этот момент Зорге попросил Урсулу выполнить задание, опасность которого превосходила все, за что она бралась до этого. “Ты спрячешь китайского товарища, которому грозит опасность?” Это было указание в форме вопроса. А также расчетливая игра. Скрывать беглого коммуниста в доме на авеню Жоффра было бы невозможно, не поставив об этом в известность Руди. Это задание требовало его активного содействия. Урсула знала, что Зорге проверяет на прочность и ее решимость, и ее брак, но выбора не было. “Я была вынуждена открыться Руди”. Никаких иллюзий она не питала. Вряд ли Руди обрадуется, узнав, что его жена – коммунистическая шпионка.
Глава 5. Шпионы, которые ее любили
В Шанхае Урсула отметила небольшой, но отчетливый сдвиг в политических взглядах Руди. Как и ее, его ужасал Белый террор, неизбывная бедность, самодовольство приезжей немецкой буржуазии, жиревшей на нищете китайцев. Кроме того, ко все более левым убеждениям Руди подталкивали события, происходившие в Германии. За два года нацистская партия из маргинальной группы экстремистов превратилась в самую мощную политическую силу в стране, сочетавшую традиционные политические кампании с тактикой террора и лавиной расистской, антикоммунистической и националистической пропаганды. Пока Гитлер, гастролируя по стране, подстегивал своими речами ярость антисемитов, нацистское ополчение избивало оппонентов, устраивало массовые митинги и громило витрины еврейских магазинов. На выборах июля 1932 года нацисты получили почти 14 миллионов голосов, став крупнейшей партией в рейхстаге. Столкнувшись с электоральным забвением, КПГ все чаще прибегала к насилию.
Урсула считала тревожные новости из Германии очередным доказательством, что лишь коммунизм сможет противостоять набирающему обороты фашизму, и, к ее радости, Руди постепенно приходил к тому же выводу: “В политическом отношении он стал мне ближе”, – писала она.
Но всему был свой предел: когда Урсула призналась мужу, что хочет приютить в их доме скрывавшегося от властей китайского коммуниста, Руди был вне себя. “Ты переоцениваешь свои силы, – настаивал он, – считаешь себя сильнее, чем на самом деле. Риск для тебя и Миши слишком велик”.
Она не уступала: “Твое отношение может стоить товарищу жизни, и я никогда не смогу тебе этого простить”.
Они продолжали ссориться, пока Руди не уступил или, скорее, не смирился с неизбежными обстоятельствами, противостоять которым он был почти бессилен, в конце концов согласившись приютить коммуниста. Теперь он против собственной воли и голоса разума был замешан в этом сговоре, став частью агентуры Зорге. Это могло сблизить Урсулу и Руди. Но их отношения дали трещину.
Их тайный гость появился на следующий день: молодой вежливый китаец небольшого роста был явно благодарен, крайне напуган – и не знал ни слова по-английски. Гамбургер стремился проявить себя в этой странной ситуации с лучшей стороны: “Когда он уже жил у нас, Руди изо всех сил старался сделать так, чтобы гость чувствовал себя как дома, был с ним приветлив, насколько это было возможно без общего языка”. Молодой коммунист прятался на верхнем этаже дома и лишь по ночам выходил на прогулку в сад. Когда за ужином бывали гости, он не шелохнувшись лежал в кровати, опасаясь, что его движения услышат внизу. Даже слуги не догадывались о его присутствии. Спустя две недели его тайком вывезли в безопасную зону Цзянси. Непосредственная угроза миновала, но напряжение не исчезло. “Мне было ясно, – писала Урсула, – что наш брак долго так не протянет”.
Тайные встречи возобновились, но стали не такими частыми. По отношению к Урсуле Зорге был заботлив и предупредителен, но дело Нуленсов не давало ему покоя, и его захлестнула очередная волна безрассудства. Однажды он влетел на мотоцикле на всей скорости в стену и раздробил левую ногу. “Одним шрамом меньше, одним больше – какая разница?” – шутил он, когда Урсула навестила его в госпитале. У Нуленсов, ожидавших суда в нанкинской тюрьме, был пятилетний сын, “Джимми”. (На самом деле его звали Дмитрий – даже у детей шпионов бывают псевдонимы.) Агнес Смедли вернулась в Шанхай, чтобы координировать работу Комитета защиты Нуленсов. Став временным опекуном Джимми, она выполняла эту роль, “заваливая его подарками, словно маленького принца”. Когда Урсула предположила, что это не лучшая идея, Агнес злобно парировала, что Урсуле следовало бы забрать ребенка к себе. Урсула едва не поддалась искушению: “Я постараюсь окружить его материнской заботой, а у Миши появится старший брат”. Но Зорге напрочь отмел эту идею, ведь таким образом можно было проследить прямую связь между Урсулой и заключенными под стражу советскими шпионами. “Это подразумевало бы отказ от моей нелегальной работы, а ни он, ни я этого не хотели”, – писала она. Чего нельзя было сказать об Агнес: втянув когда-то Урсулу в шпионские игры, теперь она хотела, чтобы та вышла из игры.
Планируя расширить советскую сферу влияния на Дальнем Востоке, Москва усилила подпольную поддержку китайских коммунистов. В Шанхай прибыло свежее пополнение советских агентов, чтобы заново создать коммунистическую агентуру после оглушительного провала Нуленса и “поддержать боевой дух членов партии и их единомышленников”. В 1932 году здесь появился опытный немецкий революционер Артур Эверт, ставший главным связным Коминтерна с КПК. Он прибыл вместе со своей женой, полькой по рождению, Элизой Саборовской, известной как Сабо. В дальнейшем судьба оказалась жестока к Эвертам: Сабо погибла в немецком концлагере, а Артура Эверта схватили в Бразилии и пытали, пока он не лишился рассудка. Лысый толстый улыбчивый мужчина, которого Урсула видела за несколько месяцев до этого у себя в доме с оружием в руках, оказался полковником Карлом Риммом, кодовое имя Пауль, ветераном Красной армии из Эстонии и заместителем Зорге. Во Французской концессии Римм держал ресторан вместе со своей женой Луизой, “дородной, окружающей всех материнской заботой” латышкой, которая зашифровывала и расшифровывала телеграммы в Москву и из Москвы.
В кулуарах этой группы был еще один заслуживающий внимания человек – двадцатисемилетний англичанин по имени Роджер Холлис, ныне знаменитый не столько тем, чем он занимался в 1932 году, сколько ролью, которую он сыграет много лет спустя. Сын англиканского епископа, в Оксфорде Холлис заигрывал с коммунизмом, пока не был отчислен. Отправившись в Китай внештатным журналистом, он поступил на службу в “Бритиш Американ Тобакко”, международную компанию, шанхайский завод которой производил по 55 миллиардов сигарет в год. Холлис был человеком компанейским и социалистом и не мог не знать кого-то из группы Зорге, например Карла Римма, а быть может, встречал и самого Зорге. По словам биографа Зорге, Холлис “бывал в доме Гамбургеров”. Энтони Стейплс, снимавший вместе с Холлисом квартиру, в своих показаниях в дальнейшем говорил, что дома у Холлиса бывали американка и немец – предположительно, Агнес Смедли и новый коминтерновский начальник Артур Эверт. Есть даже свидетельства, что у англичанина в течение трех лет был роман с Луизой Римм, женой Карла. Урсула впоследствии заявляла, что не помнит никакого Роджера Холлиса.
Принадлежность или, напротив, непричастность этого англичанина к кругу Зорге не играла бы никакой роли, если бы в карьере Холлиса не произошло кардинальных перемен по возвращении с Дальнего Востока в Великобританию. В 1938 году он поступил на службу в британскую службу безопасности МИ-5 и в дальнейшем стал ее генеральным директором, напрямую ответственным за вычисление советских шпионов в Британии в разгар холодной войны. Многие годы спустя из-за подозрений о связях Холлиса с Урсулой и ее друзьями-коммунистами в рядах МИ-5 начнется весьма пагубная для службы охота на крота, основанием для которой послужила недоказанная, но сохраняющаяся до сих пор конспирологическая теория, будто Холлис работал на коммунистов и был завербован еще в Шанхае в 1932 году.
В агентуре Зорге сформировались тесные внутренние связи, как это всегда бывает в тайных обществах. Группа выезжала на экскурсии за город, совмещая осмотр достопримечательностей с рабочими поездками. Руди редко сопровождал жену в этих вылазках. “Как всегда щедрый и великодушный, он радовался всякий раз, когда мне удавалось выбраться из Шанхая, даже если он не мог поехать со мной”. Руди оправдывался тем, что у него слишком много работы – в мебельной фирме “Современный дом” теперь было двадцать сотрудников-китайцев и очередь из заказов, но это был лишь предлог, чтобы не связываться слишком тесно со шпионской компанией Урсулы. Сохранился пронзительный снимок того периода: Руди и Урсула спят на солнце во время пикника. Он обнимает ее, словно пытаясь удержать, а она лежит, слегка отстранившись.
Они продолжали строить совместные планы. В мае 1932 года Урсула написала родителям: “Мы с Руди все чаще думаем, что, когда его контракт закончится, мы начнем все заново в России. Я вполне уверена, что мы оба найдем работу в Р[оссии]. У нас сотни доводов за Р[оссию] и против Шанхая. К сожалению, не обо всех могу написать”. В другом письме она писала: “Я собираюсь активно учить тут русский язык в ближайшие полгода и хочу, чтобы Руди тоже его выучил. На всякий случай”. Она не обмолвилась ни о том, что многие из ее новых друзей-коммунистов говорят по-русски, ни о том, что указания из Центра поступают на русском языке, ни о том, что Зорге рекомендовал ей выучить язык, если она хочет продолжить работать на советскую военную разведку в будущем.
В фотоальбомах Урсулы запечатлено множество сцен, где она играет со своими друзьями-разведчиками: на одной Урсула, стоя спиной к спине с Карлом Риммом и сцепившись с ним локтями, играет в “качели”, на другой Агнес Смедли ведет серьезную беседу с Чэнь Ханьшэном, университетским преподавателем и тайным агентом-коммунистом. Однажды Урсула и Агнес отправились со всей остальной компанией в трехдневную поездку по реке Янцзы. “Сабо готовила на всех нас на камбузе… Агнес рассказывала анекдоты”. Зорге старательно пестовал их командный дух. “Для товарищей, работающих нелегально, такого рода вылазки не были обычным явлением, однако никакого элемента безответственности здесь не было”, – писала Урсула. Позднее она вспоминала эти поездки как “нечто очень необычное и ценное”. Ей было всего двадцать пять лет. “Я бегала наперегонки по поляне с Рихардом [Зорге] и Паулем [Карлом Риммом], пока мы все не валились на траву от беготни и хохота”. Своим жизнелюбием она заражала всех. Эту незатейливую игру в салочки в поле с друзьями и тайным любовником Урсула будет хранить в памяти всю жизнь.
Однажды вечером в начале 1932 года Урсула встретилась с Зорге, Риммом и Гришей в номере отеля в центре Шанхая, чтобы познакомиться с новым товарищем. “Нас встретил темноглазый, темноволосый, жизнерадостный мужчина, которого я раньше не видела”. Представили его Урсуле как Фреда. Встреча проходила в теплой, подогревавшейся алкоголем атмосфере. Фред рассказывал забавные анекдоты, пел приятным баритоном немецкие и русские песни. “У него был прекрасный голос”, – вспоминала Урсула. Спустя два дня Зорге поручил Урсуле отнести Фреду картонный тубус с документами. Фред предложил ей выпить. Она так и не смогла себе объяснить, что подтолкнуло ее разоткровенничаться с этим едва знакомым человеком, рассказать ему о политических размолвках с Руди и о том, каким бременем ложилась на их брак ее подпольная работа. “Не следует ли нам разойтись?” – спросила она. “Фред внимательно выслушал меня и сказал, что польщен моим доверием”. Как чуткий собеседник, он не высказал никаких суждений о ее браке. Проговорив с ним три часа, Урсула возвращалась по ночному городу в странно приподнятом настроении. Потом она догадалась, что отзывчивый Фред проводил с ней собеседование, “проверяя, подходит ли она для работы”. Еще позже она узнала, кто он.
В действительности Фреда звали Манфред Штерн, он был одним из героев коммунизма XX века и, что было почти неизбежно, одной из его жертв. Один из первых революционеров, он возглавлял партизанский отряд Красной армии в борьбе с “Безумным бароном” Романом фон Унгерн-Штернбергом, чей брат Константин был завсегдатаем Немецкого клуба. Штерн поступил на службу в 4-е управление Красной армии и был направлен в Нью-Йорк в 1929 году, где из конспиративной квартиры на 57-й улице руководил агентурой, добывавшей военные секреты Америки. Украденные документы копировали в специально для этой цели приобретенном фотомагазине в Гринич-Виллидж и отправляли в Москву. Отзывчивый сладкоголосый Фред был восходящей звездой советской военной разведки. В Китай он прибыл в роли главного военного советника КПК и агента-вербовщика Центра. Москва начинала проявлять интерес к “агенту Соне”.
Михаэль уже учился ходить и говорить. “Миша вовсю топает в белой рубашечке и зеленых льняных штанишках в цветочек, – рассказывала Урсула матери. – Он уже три недели ходит самостоятельно по саду и по всем комнатам, нюхает все цветы, падает, с рыком встает снова, пытаясь одолеть лестницу в сад, спотыкается, истошно кричит, обнаруживая внезапно сидящую на дереве птичку, и затихает посреди рыданий. Он говорит «папа, папа, мама», а чаще – «деньги-деньги-деньги», чему, к моему ужасу, его научила ама. Я исправила это упущение, научив его слову «грязные», – и теперь он без конца повторяет «грязные деньги»”.
28 января 1932 года японская императорская армия напала на Шанхай. Осенью предыдущего года Япония вторглась в Маньчжурию, оккупировала 1,3 миллиона квадратных километров китайской территории, установила там марионеточное правительство и назвала регион Маньчжоу-го. Далее экспансионистская армия Японии обратила внимание на Шанхай, где у нее до сих пор сохранялись экстерриториальные права. Заявив, что она защищает своих граждан от китайской агрессии, Япония выставила флот из тридцати кораблей, сорока самолетов и 7000 солдат вдоль набережной Шанхая и совершила нападение на китайские районы города. Китайская 19-я армия оказала яростное сопротивление. Международные концессии остались почти не тронуты этим конфликтом, который тем не менее всерьез встревожил Москву, так как японские вторжения в Китай представляли потенциальную угрозу для Советского Союза. Зорге получил указания оценить обстановку. В зону военных действий он направил Урсулу Гамбургер и Изу Видемайер.
“С этой небезопасной миссией лучше всего могли справиться женщины”, – писала впоследствии Урсула, явно преуменьшая угрозу. Две иностранки привлекали пристальное внимание, но их никто не трогал, и они беспрепятственно бродили по выжженным и разоренным китайским районам. “Японские солдаты рыщут повсюду, – докладывала Урсула. – На улицах никого, если не считать нескольких трупов, а единственный звук, раздающийся в этой мертвой тишине, – это грохот японской тяжелой военной техники… Беднякам остались их разгромленные дома, миллионы безработных и погибшие родные”. Урсула с Изой посещали раненых солдат в госпитале, расспрашивали о настроениях в армии, оценивали урон, нанесенный в результате нападения японцев. Зорге был “поражен” качеством информации, собранной шпионками, которые работали теперь скорее как военные корреспонденты на передовой. “Я смогла представить Рихарду достаточно точную картину настроений европейцев”, – писала она в дальнейшем. Сражения завершились спустя несколько недель перемирием, достигнутым при содействии Лиги наций, но то, что Урсула успела увидеть, потрясло ее до глубины души.
“Я нашла на улице мертвого младенца”, – писала Урсула. Она подняла крошечный труп. “Пеленки были еще мокрые”. Ребенок был почти ровесником Миши. Так с ужасающей наглядностью перед ней предстало все, что было поставлено на карту. Она могла оценить агрессию Японии в политических терминах – “очевидный, жестокий урок о методах, используемых капитализмом”, – но здесь читалось и предостережение о том, в каком беспощадном мире она теперь существовала. Если Урсулу арестуют и казнят, следующим погибшим на улице ребенком может оказаться ее сын.
Руди был в ужасе и в ярости от нападения Японии. “Нападение на слабую страну – шаг возмутительный и шокирующий, – писал он родителям. – Мы наблюдаем здесь военную агрессию, осуществляемую исключительно в экономических интересах”. Руди все чаще мыслил и говорил как Урсула. “Этот период сыграл важнейшую роль в том, что Руди стал коммунистом”, – писала она в дальнейшем. Ее муж постепенно склонялся к революции. И пытался спасти их брак. Его обращение к коммунизму было отчаянным актом любви. Но было уже слишком поздно. Руди был заботлив и нежен, но в его темно-карих глазах Урсула видела теперь лишь отражение вечности в оковах традиционного брака. Рихард Зорге показал ей другой мир – захватывающий, полный самоотверженности и риска. С Руди она жила в комфорте и довольстве. Но с Зорге, мчась на мотоцикле, сидя на тайном совещании или выполняя секретное задание, она чувствовала, что по-настоящему живет.
Агнес Смедли работала над серией рассказов, действие которых разворачивалось в Китае, и использовала свое журналистское прикрытие, играя роль посредника между Зорге, Коминтерном, КПК и Центром. Благодаря Зорге она стала “сотрудницей главного управления Коминтерна”. Однако британцы терзали ее, “как свирепые псы”, говорила она, и поведение ее становилось все более и более непредсказуемым. Читатели Frankfurter Zeitung жаловались, что ее репортажи “односторонни”. Газета также получила донесение разведки (вероятно, британской), где утверждалось, что Смедли посетила собрание в театре с “группой молодых китайских коммунистов, с которыми она распивала спиртные напитки и вызывающе заигрывала”. Под занавес, сообщалось в рапорте, она вышла “на сцену обнаженная, в красной шляпе, и исполнила «Интернационал»”. Это было чересчур даже для славившейся либерализмом немецкой газеты. Агнес уволили.
Летом 1932 года Агнес с Урсулой отправились вместе в рабочий отпуск в горы Гуйлиня в провинции Цзянси, у самой границы территории, подконтрольной коммунистам. Как всегда, политика переплелась с личной жизнью. Эта поездка была возможностью сбежать от летнего шанхайского зноя и вдохнуть новую жизнь в их дружбу, попутно занимаясь необременительным шпионажем. КПК предоставила им отпускной домик. Поскольку в близлежащих горах развернулся лагерь армии Мао, Агнес брала “интервью у китайцев из Советской республики и их защитников, Красной армии Китая”, часть полученных сведений использовала в репортажах, а всю секретную информацию передавала в Москву.
За пятидневным плаванием по реке Янцзы “последовала поездка в тряском автобусе к подножию горы [и] еще три часа по крутым тропинкам в качающемся паланкине”. Поначалу казалось, будто в их отношениях проступает былая теплота. “Каждый день мы с Агнес ходим на долгие прогулки, – писала Урсула, – любуемся прекрасными видами, открывающимися сверху на долины Янцзы и на горы Хубэй, где расположились красные”.
В тот день, когда Урсула написала это письмо своим родителям, дело Нуленсов (чьи подлинные имена до сих пор не были известны властям) слушалось в Верховном суде Цзянсу: их обвиняли в “финансировании коммунистических бандитов, организации подрывной деятельности, продаже оружия коммунистам и заговоре с целью свержения властей Китайской республики”. За несколько дней до этого Зорге встретился с двумя направленными из Москвы курьерами, каждый из которых передал ему свыше 20 000 долларов на взятки представителям китайских судебных властей.
В Гуйлине Урсуле и Агнес сообщили, что Нуленсы устроили голодную забастовку. Садясь за стол, Агнес театрально заявила, что из солидарности не будет ничего есть, пока супругов не отпустят на свободу.
– Нуленсам это не поможет, – едко ответила Урсула.
Не говоря ни слова, Агнес встала и возмущенно покинула комнату. Урсула взяла на руки Мишу и повела его на прогулку.
Когда она вернулась в бунгало, на столе ее ждало письмо.
“Не в силах больше здесь оставаться при нынешних обстоятельствах, я возвращаюсь в Шанхай, – писала Агнес. – Ты слишком озабочена личным счастьем и своей семьей. Частные дела играют в твоей жизни слишком большую роль. Ты лишена задатков истинной революционерки”.
Ее слова глубоко задели Урсулу. “Агнес, безусловно, достаточно хорошо меня знала, чтобы понимать, что я пойду на любой риск. Должна ли я проявлять свои эмоции, чтобы доказать их? Как столь близкая дружба могла вот так завершиться? Откуда у Агнес взялись подобные представления обо мне?” На самом деле гневная тирада Агнес относилась скорее к личной жизни, чем к политике: она завидовала отношениям Урсулы с Зорге и ее дружбе с Идой, завидовала, что у нее есть ребенок, и злилась, что она отказалась забросить шпионаж, не приняв ее предложения усыновить маленького Джимми.
Урсула осталась в Гуйлине, погрузившись в тяжкие размышления о рухнувшей дружбе. “Это был тяжелый удар”. Поступило сообщение, что Нуленсов приговорили к смерти, но приговор смягчили, изменив его на пожизненное заключение. Урсула думала, что спасением они обязаны Зорге, давшему взятку судье. Она обдумывала обвинения, брошенные женщиной, чьими идеями и дружбой так дорожила. “Возможно, Агнес права. Я наслаждалась жизнью и могла получать огромное удовольствие от повседневных вещей. Быть может, я придавала им слишком большое значение? Каждый вздох моего сына был для меня чудом, и я хотела еще детей, хотя и не думала, что мой брак сохранится после нынешнего разлада”.
Вскоре страдания вытеснил гнев. Агнес ошибалась на ее счет. Урсула была, как никто другой, способна провести грань между личной жизнью и политическим долгом. Она докажет Агнес и всему миру, что, невзирая на материнские обязанности, обладает всеми задатками настоящей революционерки.
Вернувшись в Шанхай, она рассказала Зорге о ссоре с Агнес. Он сменил тему. “Рихард, по-видимому, счел это пустой женской ссорой и не проявил никакого желания вмешаться”. Как опытному ловеласу, Зорге было чем заняться, вместо того чтобы влезать в разборки между двумя своими пассиями. (Пока Агнес и Урсула ссорились, он соблазнил “прекрасную китаянку”, от которой получил данные о количестве и составе вооружений правительственных войск.) Урсула с Агнес до сих пор время от времени виделись, но дружбе пришел конец, и обе это понимали.
Благодаря Смедли Урсула попала в мир коммунистической разведки, ее вдохновлял несгибаемый мятежный дух американки. Но за два года подпольной работы у Урсулы появились те качества, каких у ветреной, эгоистичной Агнес никогда не могло быть, – она становилась профессиональной, увлеченной и все более уверенной в себе разведчицей. “Я постоянно осознавала, что меня могут арестовать, и укрепляла себя физически, чтобы быть выносливее. Я не курила и не пила спиртного. Вынужденный отказ от этих привычек не стал бы для меня пыткой”. Агент Соня вживалась в свою роль.
Однажды утром в декабре Урсуле позвонили, в трубке раздался знакомый голос польского фотографа Гриши Герцберга. “Приходи днем ко мне домой. Рихард хочет с тобой встретиться”. Это был условный сигнал: она должна быть готова к возможной встрече. “Я крайне редко бывала у Гриши и решила, что должна прийти, только если он позвонит снова”. Урсула час прождала повторного звонка. Телефон молчал, и она отправилась за покупками.
За ужином в тот вечер у Гамбургеров собрались учитель и рьяный нацист Фриц Кук и два брата – Эрнст и Гельмут Вильгельмы, один – архитектор, а другой – ученый, вместе со своими женами. Ужин был настоящей пыткой, гости “были скучны и неразговорчивы”, а шансы собрать полезные сведения для разведки были ничтожны. Кук дотошно показывал снимки из своих экспедиций во внутренние районы страны, и Урсула чуть не задремала от скуки, когда в соседней комнате зазвонил телефон.
Она сняла трубку. Этот момент навсегда врезался в ее память. Рядом с телефоном на столе в рамке стояла фотография дома в Шлахтензее, где она провела детство. Из столовой долетали обрывки беседы.
– Я два часа прождал тебя днем, – сказал Рихард Зорге. – Хотел попрощаться.
У Урсулы земля ушла из-под ног. Она тяжело опустилась на стул.
– Ты меня слышишь? – Голос Зорге тихо доносился из трубки, которая едва не падала из безвольной руки Урсулы. – Да, – отвечала она, – слышу.
Зорге торопливо объяснил, что уезжает на следующий день. Его вызывали обратно в Москву. Поводов для беспокойства, говорил он, нет, но в Китай он уже не вернется. Центр планировал направить его в другое место.
– Я хочу поблагодарить тебя за заботу обо мне и обо всех остальных. Для тебя все только начинается. Впереди будет еще много лжи. Держи хвост пистолетом, – сказал он, употребив старинное английское выражение. – Ты должна мне это пообещать. А теперь – всего хорошего, самого-самого хорошего, и до свидания.
В трубке раздались гудки.
Урсула застыла на месте, уставившись невидящим взором в стену. Гриша забыл про повторный звонок, допустив обычный профессиональный промах. “Я не могла помыслить, что Рихард просто уехал. Что никогда больше не будет он сидеть рядом со мной на этом стуле, говорить со мной, слушать меня, давать мне советы, смеяться со мной”. Он уехал, а у нее даже не нашлось нужных слов, чтобы с ним попрощаться.
“О чем я только думала? Неужели я только тогда осознала, сколько он для меня значил?”
Урсула больше никогда не видела Рихарда Зорге. Возможно, никаких романтических отношений между ними уже не было, но Урсула не ставила в них точку.
Она вернулась к своим унылым гостям. Никто не обратил внимания, что ее сердце разбито.
После того как Зорге уехал, дружба с Агнес Смедли закончилась, а брак с Руди застыл в состоянии тихого кризиса, Урсулу охватила ностальгия. Руководство перешло от Зорге к Карлу Римму. Он был умелым руководителем, за его полной фигурой и сонливыми манерами скрывались “сила и страсть революционера”. Но в нем не было ни капли куража его предшественника. Урсула тосковала по Зорге. Без него Шанхай словно лишился всего своего блеска и красок. “Теперь мы мечтаем о новом доме, – писала она родителям. – Я невероятно сочувствую китайскому народу. Я уже чувствую себя на четверть азиаткой. Если я уеду из этой страны, я знаю, что мне всегда будет ее не хватать”. Не находя себе места, она планировала вернуться в Германию весной и познакомить Мишу со всеми родными. Жаркий влажный климат плохо сказывался на легких малыша, и немецкий доктор советовал ей увезти его в отпуск в Европу. Да и разлука с Руди обоим пойдет на пользу.
Тем временем из Германии приходили ужасные новости.
В нацистскую партию вступало все больше людей, и стычки между фашистами и коммунистами достигли апогея. 30 января 1933 года после своего назначения на пост канцлера Германии Гитлер развязал беспрецедентную по своей жестокости кампанию насилия и террора. Месяц спустя, после поджога Рейхстага, Гитлер отменил гражданские свободы под предлогом предотвращения коммунистического путча, приступив к “безжалостной конфронтации” с КПГ. Нацисты задержали тысячи коммунистов, закрыли штаб-квартиру партии и наложили запрет на демонстрации. Большинство руководителей КПГ оказались арестованы, некоторым удалось бежать в Советский Союз. Могущественная некогда организация, куда вступала Урсула, была загнана в подполье, а оставшихся в живых ее членов подвергали гонениям и террору. Принятый в марте “Закон о чрезвычайных полномочиях” дал Гитлеру право прямого правления. Так началась нацистская диктатура, и отголоски политического землетрясения долетали до Китая. Из-за нехватки финансирования из Германии в одночасье закрылся книжный магазин “Цайтгайст”. Несмотря на свойственный ей оптимизм, встревожена была даже Урсула. “Я не могла понять, как немецкий рабочий класс мог допустить приход к власти фашистов”, – писала она.
В Германии многие до сих пор не понимали значения этих мрачных предзнаменований. Центральная организация евреев Германии заявляла: “Никто не посмеет лишить нас наших конституционных прав”. У Роберта Кучински были на этот счет сомнения.
Коммунистом он никогда не был, но как еврей-ученый левого толка он был под прицелом. Юргену Кучински грозила еще большая опасность. Вернувшись из США с Маргаритой, в 1930 году он вступил в КПГ. С тех пор он писал для разных коммунистических изданий и даже был с визитом в Советском Союзе в составе официальной делегации КПГ. 27 февраля, направляясь в редакцию Die Rote Fahne, он столкнулся с другом, рассказавшим ему, что в эту самую минуту гестапо проводит обыск в газете. Юрген немедленно скрылся, и лишь считаные минуты спасли его от ареста, а почти наверняка и от гибели.
“Мы в ужасе от происходящего в Германии, – писала домой Урсула. – В местных газетах об этих событиях пишут не всё. На сердце так тяжело, что невозможно ни о чем рассказывать, но мы просим вас: пишите при любой возможности”.
В марте в ворота виллы в Шлахтензее постучался отряд гестаповцев в черной форме. Они хотели поговорить с Робертом Кучински. Ольга Мут сообщила им, что его нет дома. Гестаповцы пообещали вернуться. Роберт немедленно залег на дно, укрывшись сначала в доме друзей, а потом в лечебнице для душевнобольных. У свекров Урсулы, Макса и Эльзы Гамбургеров, было шале в Гренцбаудене, живописной деревеньке, расположенной как раз за горной цепью Ризенгебирге, отделяющей немецкую Силезию от Чехословакии. Гамбургеры уже укрылись там, согласившись приютить Роберта, пока он не изыщет способ добраться до Британии или Америки, где у него были друзья среди ученых. В апреле он бежал через границу с Чехословакией. Поддавшись, по его собственным словам, “слепой вере в руководство”, Юрген остался в Германии, присоединился к коммунистическому подполью и продолжил писать мучительно пространные опусы для ряда секретных партийных изданий. Даже скрывавшегося ныне лидера КПГ Эрнста Тельмана утомляла многоречивость Юргена: “Слишком много «циклических кризисов» и маловато разбитых унитазов”, – говорил он молодому эксперту по статистике. Берта отложила кисти и больше к ним не возвращалась. Вместе с младшими дочерями она затаилась в старом семейном доме и ждала.
Урсула знала, что возвращение в Берлин будет равноценно самоубийству: отец в розыске, антисемитизм расползается по Германии, словно свирепый вирус, ее товарищи арестованы, убиты или находятся в бегах.
Ее имя фигурировало в гестаповском списке коммунистов-подрывников. В Шанхай уже начали стекаться беженцы от нацистского насилия. Поездку домой нужно было отложить. “Свастика реет над местным консульством”, – писала Урсула матери и сестрам.
Пока гестапо охотилось за Робертом и Юргеном Кучински, неутомимый Том Гивенс из муниципальной полиции Шанхая брал в кольцо советскую агентуру. На основании “признаний” арестованных коммунистов ирландский детектив составил список иностранцев, подозреваемых в шпионаже на Советский Союз. В списке значился Рихард Зорге. И Агнес Смедли. Вскоре после отъезда Зорге в Москву Агнес тоже направилась в Советский Союз.
Урсула сделала то же самое.
Глава 6. Воробьевка
Генерал Ян Карлович Берзин, начальник 4-го управления РККА, был доволен Рихардом Зорге. Шпион под кодовым именем Рамзай выполнил все поставленные перед ним задачи и даже больше: он выстроил эффективную агентуру, успешно преодолел неприятности, связанные с делом Нуленса, и продержался в Шанхае три года целым и невредимым – если не считать перелома ноги. О технике выживания генерал Берзин знал не понаслышке. Сын латвийского крестьянина, Берзин возглавлял революционный партизанский отряд, сражавшийся против царской армии, и дважды убегал с сибирской каторги, пока не вступил в Красную армию. Во время ленинского красного террора Берзин систематически прибегал к расстрелу заложников, считая это эффективным методом подчинения, а в 1920 году был назначен руководителем 4 – го управления, первого советского бюро военной разведки. Берзин был обаятелен, честолюбив, невероятно жесток и предельно конкретен в своих распоряжениях; блестящий организатор с волчьим взглядом и ледяной улыбкой, он создал обширную всеобъемлющую агентуру “нелегалов”, работавших под прикрытием в важнейших городах мира. 4-е управление требовало от сотрудников безукоризненной верности, зачастую отвечая им беспредельным вероломством: если офицер или агент совершал ошибку, если агентура оказывалась скомпрометирована, разведчикам оставалось рассчитывать лишь на самих себя; любого сотрудника, подозревавшегося в государственной измене, ждала немедленная смертная кара. По словам одного бывшего агента, Центр славился своим “хладнокровием”. “Он был совершенно беспощаден. Лишен всяческого понимания о чести, обязательствах и порядочности по отношению к своим подчиненным. Их использовали, пока они представляли какую-то ценность, а потом отворачивались от них – без угрызений совести и компенсаций”.
Берзин лично опросил Зорге в своем кабинете в штаб-квартире Центра по адресу: Большой Знаменский переулок, 19, заурядном двухэтажном особняке в нескольких сотнях метров от Кремля. Берзин внимательно выслушал доклад агента Рамзая о сотрудниках его шанхайской агентуры: японском журналисте Хоцуми Одзаки, китайском ученом Чэнь Ханьшэне и рыжеволосой Ирен Видемайер. Агнес Смедли проделала “отличную работу”, докладывал Зорге. Была еще и немецкая домохозяйка Урсула Гамбургер, подававшая большие надежды в разведке. Манфред Штерн также положительно отзывался о подопечной Зорге. У Берзина сложилось хорошее впечатление об агенте Соне.
Неделю спустя в Шанхае Урсулу вызвали на встречу с Гришей Герцбергом и преемником Зорге Карлом Риммом. Из Центра поступило сообщение – нечто среднее между приглашением, предложением и приказом. “Будете ли вы готовы отправиться в Москву на курс подготовки? – спросил Римм. – Он продлится по меньшей мере полгода. Гарантировать, что по завершении курса вы вернетесь в Шанхай, мы не можем”.
Смысл прощальных слов Зорге – “У тебя все только начинается” – наконец стал ясен. Должно быть, он “доложил все разведывательному управлению РККА”, порекомендовав ее для дальнейшего обучения. Это было лестно, но, безусловно, непрактично. “А как же Миша?” – спросила она.
“Согласиться на это предложение вы можете только при условии, что не будете брать ребенка с собой, – без обиняков объяснил Римм. – Нельзя рисковать и везти его в Советский Союз, где он неизбежно выучит русский язык”. Здесь действовала элементарная, пусть и жестокая, логика. После обучения в Москве она должна как ни в чем не бывало вернуться в гражданскую жизнь, чтобы никто не знал, где она была. Миша на лету схватывал языки: немецкий от родителей и пиджин, гибрид китайского и английского, на котором изъяснялись многие городские жители Китая, от няни. Если ребенок вернется, зная хоть несколько слов по-русски, тайна будет раскрыта.
Урсуле еще никогда не приходилось принимать столь трудных решений, ведь по сути ей предстояло сделать выбор между ребенком и идеологией, семьей и шпионажем.
“У меня не возникало даже мысли отказаться от работы”, – писала она в дальнейшем. Как религиозный фанатик, она обрела единственную непоколебимую веру, вокруг которой вращалась вся ее жизнь. Приход к власти Гитлера, рост японской агрессии и постоянные убийства китайских коммунистов лишь упрочили ее решимость бороться с фашизмом. Курс подготовки ознаменует серьезность ее намерений. Возможно, она снова встретится с Рихардом Зорге. По правилам Центра, агентам и офицерам было запрещено контактировать друг с другом при выполнении разных заданий. Она не могла писать ему, а он ей. Но оставался шанс, что он все еще в России. Еще задолго до его отъезда из Шанхая она понимала, что Зорге, неутомимо искавший приключений на стороне, уже остановил на ком-то свой выбор. Она понимала, что он, вероятно, не любил ее – да и всех остальных своих женщин. Но она жаждала снова с ним увидеться. Честолюбие, идеология, приключения, романтика и политика слились воедино, став основой ее решения: она поедет в Москву, столицу коммунистической революции. “Я согласилась не раздумывая”, – писала Урсула. Но где же будет жить Миша? Берлин даже не обсуждался. Оставить ребенка в Шанхае тоже было невозможно – Урсулу предупредили, что она вряд ли туда вернется. После долгого обсуждения с Руди они решили, что Миша проведет следующие полгода с бабушкой и дедушкой по папиной линии в их шале в Чехословакии под вполне понятным предлогом, что “перемена климата” пойдет ребенку на пользу. Разлука с остававшимся в Шанхае Руди не должна была вызвать лишних вопросов, так как “иностранцы часто отправляли своих жен с детьми из Китая в длительный отпуск домой в Европу”. Руди верил, что их брак можно спасти. Его приверженность коммунизму с каждым днем становилась все сильнее. Раз советская разведка требует, чтобы Урсула поехала в Москву, он не будет (и, вероятно, не сможет) ей препятствовать. Его родители будут заботиться о Мише, а Урсула, пройдя обучение в России, заберет сына; семья вновь будет вместе, и они начнут все сначала. На это Руди и надеялся. Когда пришло время прощаться, он сжимал ребенка в объятьях, пока тот не вывернулся из его рук.
Глубокий след от разлуки с двухлетним сыном останется у Урсулы на всю жизнь. До конца своих дней она оправдывала это вынужденное решение, но сама себя так и не простила.
18 мая 1933 года Урсула с Мишей взошли на борт норвежского лесовоза, направлявшегося во Владивосток. Как раз перед поднятием якоря появился Гриша с большим, закрытым на замок чемоданом, где лежали документы, которые нужно было доставить в Центр. Во время долгого путешествия Урсула читала малышу детские стишки и рассказывала разные истории. Они часами болтали с жившей в клетке на палубе канарейкой. “Сердце у меня сжималось при одной мысли о расставании”, – писала она. Было тепло, воздух был наполнен запахом леса, который перевозило судно. “Миша будет в любящих бабушкиных руках, – говорила она сама себе. – Горный воздух пойдет ему на пользу”.
В порту Владивостока их встретил советский морской офицер, проводивший их на поезд до Москвы. В первую ночь в маленьком купе Миша никак не мог угомониться, стук колес не давал ему покоя. “Я лежала на койке рядом с ним, пока он не уснул у меня в объятьях, и я снова осознала, как трудно мне будет расстаться со своим сыном”. Девять дней спустя они приехали в Москву и передали чемодан ожидавшим их служащим, перед тем как сесть на другой поезд, в Чехословакию, где уже на такси они добрались до маленькой деревни Гренцбауден.
Макс и Эльза Гамбургеры, теперь постоянно жившие в Чехословакии, горячо встретили мать и дитя. Роберт Кучински за несколько месяцев до этого покинул шале и теперь находился в Англии. “Я сказала родителям Руди, что мы думаем перебраться в Советский Союз”, – писала Урсула. Она объяснила, что проведет несколько месяцев в Москве, чтобы понять, что к чему. Гамбургеры “были не в восторге от этого плана”, но согласились заботиться о внуке столько, сколько потребуется.
Через несколько дней из Берлина приехала мать Урсулы.
Долгожданная встреча со старшей дочерью и первым внуком должна была обрадовать Берту Кучински, но бедная женщина находилась в совершенной растерянности. За несколько месяцев, последовавших за бегством Роберта, притеснения со стороны нацистов лишь набирали обороты. Гестаповцы вернулись в Шлахтензее, требуя сообщить, куда уехал Кучински. В доме Юргена также проходили обыски. Лидера КПГ Эрнста Тельмана схватили в доме некоего Ганса Клучински, и из-за созвучия фамилий на семью Кучински вновь было обращено повышенное внимание – сотрудники гестапо никогда не были сильны в орфографии. Юрген был арестован, но после двухчасового допроса его отпустили. Он начал тайно вывозить из страны семейную библиотеку – около двух третей из 50 000 томов удалось спасти. Юрген и Маргарита вели теперь подпольное существование, постоянно опасаясь ареста.
В мае нацисты стали устраивать публичные сожжения “еврейской и марксистской” литературы, коснувшиеся и таких подрывных произведений, как “Дочери Земли” Агнес Смедли. Все книги из созданной Урсулой в 1929 году Марксистской библиотеки для рабочих были преданы огню. Ее друг Габо Левин, работавший там библиотекарем, был избит и брошен за решетку. Вскоре после этого Берта Кучински устроила книгосожжение собственноручно. Верная Ольга Мут стояла рядом с котельной топкой в подвале, отправляя в огонь левую литературу и исследования, а остальные члены семьи сносили вниз все, что могло показаться нацистам компрометирующим, в том числе многие бумаги Урсулы. Когда настал черед уничтожить рукописи Роберта Кучински, Олло раздраженно приговаривала: “Называют себя партией рабочих, а твой отец и писал свои опусы ради улучшения жизни рабочих”. Через несколько дней гестапо вновь заявилось в дом Кучински, на этот раз с обыском. “Они просто вломились к нам, – вспоминала Бригитта. – Мы еще спали, пришлось быстро привести себя в порядок и спуститься в комнату, куда нас всех согнали на время обыска”. Олло стояла рядом, “спокойная, собранная”, скрестив руки. Покидая дом не солоно хлебавши, один из гестаповцев повернулся и презрительно бросил: “Мы до нее еще доберемся”. Теперь Урсула была в розыске наряду с Робертом и Юргеном. Пришло время бежать. Берта выставила старый семейный дом на продажу и приготовилась к побегу.
Появившаяся в Гренцбаудене женщина была бледной, преждевременно состарившейся тенью той блистательной матери, с которой Урсула попрощалась три года назад. На внука Берта едва взглянула: “Ничто больше ее не радовало”, – писала Урсула. Проведя с ними всего несколько часов, Берта объявила, что возвращается в Берлин.
Двухлетний Миша чувствовал повисшее в воздухе напряжение. “Он горько расплакался, все время твердя: «Мамочка, останься с Мишей, пожалуйста, мамочка, останься с Мишей»”. Зная, что она не сможет взять себя в руки в момент расставания, Урсула собрала вещи на рассвете, обняла Макса и Эльзу и, тихо плача, выскользнула из дома, пока сын спал.
Офицеры на вокзале в Москве называли ее Соней. Она впервые слышала придуманное ей Рихардом Зорге кодовое имя и тут же вспомнила популярную в шанхайских барах песенку. В памяти проснулись воспоминания о мужчине на мотоцикле. “Возможно, поэтому мне оно и понравилось, – писала она в дальнейшем. – Это имя прозвучало как последний привет от него”.
Ожидавший ее автомобиль поехал на юг, к Ленинским горам, расположенным на правом берегу Москвы-реки, с небольшой высоты которых открывался вид на город. Недалеко от села Воробьево они подъехали к воротам большого комплекса зданий, который был окружен двойным металлическим забором и патрулировался военной милицией и сторожевыми псами. Это была “8-я международная спортивная база”, или, более секретно, “Отдельная радиолаборатория Народного комиссариата обороны”. Лаборатория под незамысловатым кодовым названием Воробьевка находилась в ведении Якова Мирова-Абрамова, руководителя разведки Коминтерна, который еще в 1926 году завербовал Агнес Смедли и теперь возглавлял отдел связей советской разведки.
Воробьевка была оснащена лабораториями, мастерскими и современной радиотехникой. Верхний этаж представлял собой купол для радиовещания, оборудованный двумя радиопередатчиками (на 500 Вт и 250 Вт) и мощным радиоприемником “Телефункен”. Здесь около восьмидесяти отобранных студентов – мужчины и женщины из самых разных стран мира – осваивали искусство тайных коротковолновых радиоопераций: конструирование передатчиков и приемников, сборку и маскировку радиооборудования, шифровку и дешифровку сообщений, написанных азбукой Морзе. Кроме того, студенты также изучали иностранные языки, историю, географию, марксизм-ленинизм, оттачивали мастерство рукопашного боя и владения оружием, методы подрывной деятельности, учились делать взрывчатые смеси и обращаться с ними, осваивали технику наблюдения и контрнаблюдения, а также все изощренные методы шпионажа: тайники, мимолетные контакты и маскировку. Перед тем как отправиться на задания по всему миру, выпускники шпионской школы подвергались “изнуряющим тренировкам в армейском спортивном лагере”; курс настолько выматывал физически, что после него студентов “отправляли восстанавливать силы в санаторий в Крыму”.
Миров-Абрамов был “приветливым, знающим и верным товарищем”, сторонником безукоризненной армейской дисциплины и одержимым фанатом техники, требовавшим преданности и полного подчинения от той горстки людей, которых он отобрал для обучения. Один коллега писал:
Кандидатов принимал Миров-Абрамов после тщательного отбора. Он проявил себя превосходным психологом. Приглашал кандидата в свой кабинет, спрашивал, желает ли он [или она] принимать активное участие в борьбе с Гитлером и фашизмом. После нескольких встреч Миров-Абрамов просил подписать изложенные на бумаге условия этой подготовки кандидата, всецело связывавшего тем самым свое будущее с советской системой шпионажа. Избранные кандидаты были умными молодыми людьми со способностями к иностранным языкам или техническим наукам. Неподходящих кандидатов отсеивали в ходе постоянных экзаменов. Обучающиеся должны были взять новые имена и пообещать никогда не раскрывать своих подлинных имен даже своим коллегам. В процессе обучения они должны были прервать все связи с друзьями, им было запрещено покидать школу в одиночестве, делать фотоснимки и говорить с кем-либо о школе и своих занятиях. Разглашение тайн каралось смертью.
Урсула прошла собеседования с Мировым-Абрамовым, подписала договор и присягнула на верность советской разведке – под угрозой смерти.
Почему же она это сделала? Урсула была замужней женщиной (пусть и в несчастливом браке), матерью, еврейкой, чуткой, начитанной интеллектуалкой, представительницей среднего класса, которой приносили радость походы по магазинам, готовка и воспитание ребенка. По мере того как мир погружался в войну, люди близкого ей происхождения бежали в поисках пристанища, а она по собственной воле повернулась в противоположном направлении, устремившись к опасности и наслаждаясь риском. Несмотря на от природы открытый, прямодушный склад характера, Урсула обрекала себя на жизнь в полной секретности и обмане, на сокрытие правды как от тех, кого она любила, так и от тех, кого презирала. Разведка в интересах Советского Союза была пожизненной работой, зачастую сопряженной со смертельным риском. Оглядываясь на свою жизнь, Урсула видела предопределенность: все ее решения представлялись логическим следствием политических убеждений. Но дело было не только в идеологии. Во внутреннем театре ее подсознания шпионаж представлял собой возможность доказать, что она способна быть на равных со своим одаренным братом, стать игроком в мировых делах, как ее отец, и принести больше пользы для революции, чем Агнес Смедли. Воробьевская школа шпионов предлагала ей образование, которого она так и не получила, и романтику принадлежности к тайной элите. Жизнь с Руди гарантировала безопасность и определенность. Она же не хотела ни того ни другого.
Шпионаж, помимо прочего, вызывает сильное привыкание. Это наркотик тайной власти: однажды пристрастившись, от него уже трудно отказаться. Урсула смотрела со стороны на невразумительных, непоследовательных экспатриантов в Шанхае, зная, что сама она не принадлежит к их числу, что она отличается, что у нее иная, секретная жизнь. Ей грозила крайняя опасность, ей и ее семье, и она смогла ее избежать. Выживание наперекор всем трудностям повышает уровень адреналина и придает веры в судьбу, которая позволяет обмануть рок. Наконец, шпионаж – это работа, требующая воображения, готовности перенести себя и других из реального в выдуманный мир, внешне казаться одним человеком, а внутри, тайно от всех, быть совсем другим. С самого раннего детства Урсула с ее богатым воображением рисовала в своих рассказах альтернативную реальность, где во всех перипетиях играла главную роль. Теперь, когда она отучилась на разведчицу, у нее будет возможность вписать собственный сюжет на страницы истории.
Урсула стала шпионкой ради пролетариата и революции, но она сделала это и ради себя самой. В ней бурлила невероятная смесь честолюбия, романтики и авантюризма.
В “иностранной группе” проходили обучение еще два немца, чех, грек, поляк и “Кейт”, привлекательная француженка около тридцати лет, “невероятного ума и чуткости”, которая станет соседкой Урсулы по комнате и ее подругой. На самом деле Кейт, дочь французского докера, звали Рене Марсо. (В дальнейшем ей выдадут поддельный паспорт на имя Марты Саншайн, поручив убить лидера испанских националистов генерала Франко. Заговор провалится, но она бежит из Испании и будет награждена орденом Ленина.) Новобранцы происходили из совершенно разных миров, Урсула была от них в восторге. Всех их поселили вместе в большом красном кирпичном корпусе в Воробьевке, окруженном вишневыми садами.
Урсула с головой погрузилась в учебу: “Нам нужно было только учиться”. Под руководством бывшего морского радиста она занималась сборкой радиоприемника из деталей, доступных в обычных радиомагазинах, и училась посылать шифрованные послания. Она ежедневно занималась русским языком и быстро делала успехи. К своему собственному удивлению, она легко осваивала технические навыки, учась собирать передатчики, приемники, переключатели постоянного тока и механизм настройки волн. Урсула была в восторге, когда к группе присоединился Зепп “Трезвенник” Вейнгартен, выпивоха-радист Рихарда Зорге, высланный из Шанхая на весьма необходимый курс переподготовки. (Его жена, прибывшая вместе с ним, наконец догадалась, что Зепп работает на коммунистическую разведку, и была в ярости.) В комплексе прекрасно кормили. “Я расцвела: щеки округлились и порозовели, и впервые за всю свою жизнь я весила больше 60 килограммов”.
По выходным Урсула вместе с Рене осматривала достопримечательности под надзором вежливого, но бдительного соглядатая. Они по многу часов бродили по улицам. “Я полюбила холодную московскую зиму”, – писала она. В ответ на ее осторожные расспросы о местонахождении Зорге наставники отвечали лишь, что он отправился на новое задание. Куда именно, ей не говорили, и она прекрасно понимала, что лучше не спрашивать. Правила были просты: агенты и сотрудники разведки могли взаимодействовать в Москве и при исполнении совместных заданий, но контакты в любое другое время были строго запрещены. Зорге находился тогда в Японии, закладывая фундамент для своего следующего подвига разведчика. Любовник Урсулы начал новую жизнь – и в романтическом, и в географическом смысле. Сведя их вместе, советская разведка теперь разлучила их. Урсула гадала, доведется ли ей снова его увидеть, и при этой мысли ее сердце сжималось.
Воспоминания о Зорге нахлынули с новой силой, когда однажды днем в лифте гостиницы “Новомосковская” Урсулу кто-то похлопал сзади по плечу и, обернувшись, она увидела сияющую Агнес Смедли. “Мы бросились друг к другу в объятия”, – писала Урсула. Агнес готовилась к возвращению в Китай. Урсула считала их встречу случайностью, но Агнес почти наверняка дали указание “столкнуться” с подругой, чтобы оценить ее успехи. Неудивительно, что их дружба так и не разгорелась вновь, однако вместе они побывали у Михаила Бородина, бывшего советника Сунь Ятсена, теперь издававшего англоязычную газету Moscow News. Осенью 1933 года ей и Агнес вручили билеты на торжественные мероприятия в честь Октябрьской революции на Красной площади. На этой ослепительной демонстрации советских мускулов, получившей известность как “Парад ста тысяч трико”[5], под одобрительным взглядом Сталина маршировала армия спортсменов, несущих ракетки, лодки, флаги и футбольные мячи. Агнес познакомила Урсулу с другими иностранными коммунистами, в том числе с венгром Лайошем Мадьяром, журналистом официальной газеты “Правда”, и Ван Мином, главным делегатом Китая в Коминтерне, который, по всей вероятности, стал виновником гибели Ху Епиня, мужа Дин Лин, в 1931 году, о чем Урсула не знала. “Среди учащихся нашей школы не было принято встречаться с таким количеством людей вне нашего коллектива”, – писала Урсула. Это звучало наивно и, возможно, намеренно: Агнес следила за ней; ее знакомили с именитыми иностранными коммунистами, чтобы укрепить ее лояльность, наблюдать за ее реакциями и не спускать с нее глаз. Она находилась на обучении – а также под наблюдением.
Урсула была занята, воодушевлена и здорова, как никогда. Но ее терзала тоска по маленькому сыну. Как оказалось, она почти не скучала по Руди, но разлука с Мишей была мучительна, и с каждым днем становилось все хуже и хуже. Об этой сокровенной боли и чувстве вины знала лишь Рене. Урсула могла пойти за группой детей, “лишь чтобы услышать их звонкие голоса”. “Моя неизбывная тоска по нему тянула ко всем детям, попадавшимся мне по пути. Когда я стояла у магазинов и видела стоящие на улице коляски, я понимала, как женщины крадут младенцев лишь для того, чтобы переодевать их, кормить, слышать, как те гулят”. Третий день рождения Миши наступил и прошел. Они не виделись уже семь месяцев. Урсула знала, что “никогда не сможет компенсировать эти утраченные месяцы”. Миша быстро рос за тысячу миль от нее, пока она собирала радиопередатчики в охраняемом лагере и дружила с людьми, чьи настоящие имена были ей неизвестны. Ее материнский долг состоял в том, чтобы быть с Мишей, но другой долг перевешивал. Бывало, она плакала среди ночи. Но никогда не допускала мысли все бросить.
Неделю спустя после Мишиного дня рождения Урсулу вызвали в Центр в Большой Знаменский переулок. Майор отметил ее успехи и внезапно сообщил ей: “Вас скоро направят на работу в Мукден, в Маньчжурию”.
Территория северо-востока Китая и Внутренней Монголии, известная как Маньчжурия, перенесла в 1931 году вторжение Японии, переименовавшей ее в Маньчжоу-го и установившей там прояпонское марионеточное правительство. Японские оккупанты боролись с масштабным китайским сопротивлением, состоявшим из гражданского ополчения, крестьянских отрядов, бандитских группировок и партизанских армий под названиями “Большие мечи” и “Общество красных копий”. Наиболее ожесточенные бунты устраивала подпольная коммунистическая сеть при поддержке Советского Союза, который рассматривал расширение японского могущества в Китае как угрозу. В Мукдене (ныне Шэньян) Урсуле было поручено наладить связи с партизанами-коммунистами, снабжать их материальной помощью и отправлять военные и другие разведданные в Москву по радиосвязи. “Политическая ситуация в Маньчжурии была очень интересной, – писала она с подчеркнутой невозмутимостью. – А Мукден был эпицентром”. Ситуация была еще и исключительно опасной. Власти в Китае ликвидировали тысячи мятежников-коммунистов, но они не могли сравниться с японской тайной военной полицией Кэмпэйтай – она отличалась жестокостью, расизмом и невероятной эффективностью. Это была важная миссия, свидетельствовавшая о высокой оценке, которую Урсула заслужила от своего начальства, но при исполнении она могла погибнуть. Урсула теперь была капитаном Красной армии, хотя никто не сообщал ей ни о повышении, ни о том, что у нее вообще имелось какое бы то ни было звание.
“Я без колебаний согласилась на это удивительное задание”, – писала она в дальнейшем. Следующие слова майора, однако, вернули ее к реальности.
– Работать вы будете не одна, с вами поедет товарищ, который будет нести всю ответственность за эту миссию. Для него важно, что вы уже знакомы с Китаем. Я бы предпочел отправить вас туда как супружескую пару.
На мгновение она лишилась дара речи.
– Не надо так удивляться, Эрнст – хороший товарищ, ему 29 лет, вы поладите.
– Это не обсуждается, – возмущалась она. – Нас с Руди в Шанхае все знают, и люди часто приезжают из Шанхая в Мукден. Официально считается, что я нахожусь в отпуске в Европе, поэтому я не могу заявиться внезапно с фальшивым паспортом под видом чьей-то жены. Это совершенно нереалистично, разве что я добьюсь развода с Руди, но и на это потребуется время.
К разводу она не была готова. Кроме того, она не была уверена, что ей по душе сама идея фиктивного брака.
– Что, если мы не поладим? Мы же будем длительное время связаны друг с другом в подпольной изоляции.
Майор ухмыльнулся.
– Работа в первую очередь. Дождитесь сперва встречи с ним. На следующий день ее инструктировал полковник Гайк Лазаревич Туманян, руководитель азиатского отдела.
Туманян был армянином “с продолговатым худым лицом, темными курчавыми волосами и темными глазами”, опытный большевик, доросший до высокого звания в Красной армии, несмотря на добродушный и мягкий характер. “Тумс” несколько лет проработал под прикрытием в Китае и в точности знал, чего он требует от Урсулы. “Вскоре я поняла, что имею дело с умным человеком, знатоком своего дела, который относится ко мне с доверием”, – писала она.
Туманян встретил ее с широкой улыбкой:
– Идея брака отпала, – сообщил он. – Как бы ни прискорбно это было для заинтересованного товарища.
Его смех был заразителен.
Полковник объяснил, что она должна вернуться в Шанхай, чтобы повидаться с Руди. Она говорила ему, что уедет на полгода, а отсутствовала уже семь месяцев. Там она должна подыскать себе подходящую работу в Мукдене для прикрытия, а потом отправиться в Маньчжурию с новым коллегой. Эрнст был моряком, выходцем из рабочего класса, сообщил ей Туманян, и опытным радистом.
У Урсулы остался еще один вопрос:
– Скажите, а он знает, что у меня есть сын? Кто-нибудь подумал о ребенке?
Туманян снова улыбнулся:
– Вы лучше сама ему об этом расскажете.
Через несколько дней Урсула увидела в витрине магазина детскую меховую шапку и немедленно купила ее. “В Маньчжурии бывают холодные зимы, и эта шапочка должна была подойти мальчику. Я так и видела его в ней, с его светлыми локонами, голубыми глазами и нежной кожей”.
Позже в тот же день она оказалась в пустом неотапливаемом кабинете в Центре в ожидании товарища, который должен был стать ее новым партнером по шпионажу. Зубы у нее стучали не то от холода, не то от тревоги.
Наконец в комнату вошел мужчина – высокий, худой, с широкими плечами, как у человека, привыкшего к тяжелому труду. “Мы мимолетно пожали друг другу руки. Я ощущала свои закоченевшие пальцы в его теплой ладони и всматривалась в его светлые волосы, широкий нахмуренный лоб, великоватый для его лица, сильные, выступающие скулы, зеленоголубые глаза с резко очерченными и узкими веками”.
Мгновение они оценивающе изучали друг друга.
– Вы вся дрожите, – сказал он. – Замерзли?
“Не дожидаясь моего ответа, он сбросил свое пальто и накинул его мне на плечи. Пальто спускалось до самого пола и было очень тяжелое, но в нем мне стало лучше”.
Настоящее имя Эрнста было Йохан Патра. Литовец по рождению, убежденный коммунист, тридцатичетырехлетний моряк из портового города Клайпеды манерами и речью напоминал немца. Невероятно умный, но совершенно необразованный, он говорил по-немецки, по-литовски, по-русски и по-английски, но с трудом читал на всех этих языках. В конце 1920 – х годов молодого матроса заметил болгарин, работавший на советскую разведку, и тот начал время от времени выполнять задания Коминтерна, выступая в роли курьера в плаваниях между Гамбургом, Ригой и другими портами. В 1932 году его привезли в Москву на обучение, сначала подрывной деятельности, а потом и радиооперациям.
Первая беседа Урсулы с ее новым начальником была на редкость неловкой. Патра говорил односложно, желая знать, умеет ли она обращаться с нелегальным передатчиком. “Вскоре стало ясно, что об управлении радиотехникой он знает больше меня”. Говорили они стоя.
Помолчав, он сказал:
– Вы все теребите в руках эту шапку, она вам не маловата? Вряд ли она будет вам впору.
– Это не для меня, а для моего сына.
Патра удивленно уставился на нее:
– Так у вас есть сын?
– Да. Мише три года, и я беру его с собой. Вы против?
Она уже давно приняла решение. “Я не расстанусь с ним снова, если только не буду участвовать в революции или вооруженном партизанском сражении. Если он откажется принять мальчика, я не поеду”. Она уже заготовила целую речь. “Если вы считаете, что ребенок повлияет на мою независимость и способность работать, что как мать я не смогу справляться с опасностью, то давайте обратимся с начальству и узнаем, нельзя ли вам подобрать другую коллегу”. Она подождала.
Вдруг Патра впервые улыбнулся.
– Почему же я должен быть против вашего сына? – спросил он. – В конце концов, революции нужно молодое поколение.
У Урсулы словно гора с плеч свалилась.
Неделю спустя Урсулу проводили к самому генералу Яну Берзину, который оказался “чисто выбритым, светлоглазым и моложавым, правда, уже седым, угрюмым и очень деловым”. Берзин велел ей встретиться с Патрой в Праге, потом забрать сына и отправиться на побережье Адриатики в Триест. Он передал ей два билета на итальянский лайнер до Шанхая. Их встреча с Патрой на борту должна будет выглядеть как первое знакомство. Они могут разыграть, будто у них роман, а потом отправиться вместе в Маньчжурию. “Если уж не брак, попытайтесь хотя бы сделать вид, будто вы вместе, – было сказано Урсуле. – Так ваше положение в Мукдене будет казаться наиболее правдоподобным. Он будет зарегистрирован как коммерсант, а вам придется поддерживать его в этой роли”.
Эта легенда легко могла выйти из-под пера самой Урсулы: непредвиденная встреча, внезапный роман на борту корабля, бегство с любовником.
Глава 7. На борту “Конте Верде”
Морозным мартовским утром 1934 года Урсула, выйдя из отеля “Голубая звезда” в Праге, отправилась на встречу с Йоханом Патрой. У реки Влтавы, писала она, “голые ветви деревьев были покрыты инеем, нависшие над водой клочья тумана поднимались в синеву неба, растворяясь в прозрачном воздухе и разрываясь, словно тончайшая вуаль”. Воодушевление Урсулы заслоняла гнетущая тревога. Завтра она должна забрать Мишу от бабушки после семимесячной разлуки. Вспомнит ли он ее? А еще был Патра, ее начальник, новый партнер, привлекательный, но замкнутый. “А вдруг, даже при всем желании, мы не сойдемся друг с другом?” С Урсулой не всегда бывало просто, и она сама это знала. “Даже некоторые хорошие люди действуют мне на нервы настолько, что я и часа с ними не выдерживаю, особенно лишенные чувства юмора, занудные и толстокожие. С другой стороны, быть может, и я действую другим на нервы”. В их первую встречу с Патрой, когда он накинул ей на плечи свое пальто, она почувствовала какой-то подтекст, тень напряженности. Возможно, его терзали сомнения из-за предстоящей работы с женщиной. “Он должен знать, что с ним рядом надежный товарищ, готовый во что бы то ни стало выполнять свою долю обязанностей”, – размышляла она. А вдруг она отпугнула его своей “прямотой и прагматичностью”?
Урсула заметила Патру, когда он ждал ее, сидя в уголке кафе рядом с рынком: его широкие плечи и копна белокурых волос бросались в глаза. Он сосредоточенно склонился над газетой, водя пальцем по строчкам.
Пока они отрабатывали нюансы миссии, Патра был неразговорчив, как и в прошлый раз. Но потом внезапно оживился: “Пойдемте в кино”. Этого они в планах не оговаривали. Но он был ее руководителем, да к тому же она видела афиши французского фильма, который ей хотелось посмотреть, La Maternelle, – он шел в соседнем кинотеатре. Когда они уселись на свои места и фильм начался, Урсула поняла, что зря выбрала этот фильм. Действие La Maternelle (“Дети Монмартра” в международном прокате) разворачивалось в сиротском приюте, повествуя о жизни брошенного ребенка, тоскующего по материнской любви. Урсула, настрадавшаяся после долгой разлуки с собственным сыном, не могла выдержать таких переживаний. На десятой минуте она зарыдала. “Слезы ручьями струились по моим щекам. Я ничего не могла с собой поделать. Я проклинала себя за слабость, вцепилась руками в подлокотники, но слезы все текли и текли”.
Сгорая от стыда, переживая, что может подумать о ней Патра, она прошептала: “Обычно я не такая”.
Он утешительно приобнял ее за плечи: “Я рад, что вы такая”.
В тот вечер за ужином Йохан разоткровенничался. Еще не оправившись от рыданий, слушая его рассказ о тяжелом детстве, Урсула снова ощутила подступающий к горлу комок. Его отец, рыбак, пропивал все деньги, часто избивал жену и детей. Мать “с непоколебимой стойкостью” жертвовала собственным счастьем, чтобы вырастить четверых детей, из которых Йохан был самым старшим. “Я навсегда запомнила, с каким уважением он отзывался о матери”, – писала она. Патра вспоминал, как однажды ночью отец вернулся домой пьяный и стал буянить. Пятнадцатилетний мальчик вмешался, пытаясь защитить мать, но где ему было справиться со взрослым мужчиной, привыкшим распускать руки. Избив сына до полусмерти, рыбак выгнал его из дома. Устроившись тут же юнгой на торговое судно, Патра навсегда покинул Клайпеду. В следующие пять лет он работал сперва истопником, а потом радистом. С коммунистической идеологией его познакомил один товарищ из экипажа. Медленно, мучась над каждым словом, он продирался сквозь труды Маркса и Ленина. “Пока его товарищи играли в карты, выходили на берег и отдыхали между дежурствами, он корпел над иностранными словами и длинными, замысловатыми, непонятными предложениями”. Урсуле, выросшей среди книг и идей, коммунистическое учение далось без усилий. Патра же столкнулся с непреодолимыми трудностями. “Йохану, вероятно, ничего не давалось легко”, – размышляла она. Когда вечер подошел к концу, литовский моряк проводил ее до “Голубой звезды”, сухо пожал ей руку и скрылся в темноте.
На следующий день, когда шумный поезд вез ее в Гренцбауден, воодушевление Урсулы усиливалось вместе с дурными предчувствиями. “Каждая минута приближала меня к сыну”.
Долгожданное воссоединение неизбежно обернулось разочарованием. В три года дети способны осознать, что их бросили. “Передо мной стоял незнакомый мальчик и тоже не узнавал меня, – писала она. – Сын не захотел даже со мной поздороваться. Он подбежал к бабушке и спрятался за ее юбкой”. Три дня Миша отказывался говорить с матерью. Когда же он наконец решился, он возмущенно закричал на своем родном китайском пиджин-инглиш: “Гренцбауденская страна мне гораздо лучше шанхайской, пусть мама с папой тоже приехать сюда и жить в горах в бабулином домике”. Урсула испытала новый укол совести. Мальчик хотел, чтобы отец с матерью вернулись сюда, в горы Чехословакии.
Наконец ей пришлось едва ли не силой вывести скандалившего ребенка из дома и сесть с ним в ожидавший их автомобиль. Вдобавок ко всему Миша заразился коклюшем. Каждые несколько минут “он заходился сухим кашлем, и личико его синело”. Когда их поезд приближался к Триесту, Урсулу мучил вопрос: “Неужели мой крохотный воробышек умрет?”
На следующее утро они взошли по трапу на борт парохода “Конте Верде”. Огромный океанский лайнер – жемчужина компании “Ллойд Триестино Лайн” – вмещал 640 пассажиров в каютах трех классов. В первый же день в пути Урсула заметила в кают-компании Патру. Он путешествовал, выдавая себя за зажиточного независимого коммерсанта, а для прикрытия заручился должностью представителя компании “Рейнметал”, производившей печатные машинки. Патра с Урсулой делали вид, что не замечают друг друга. Их путешествие должно было продлиться три недели: сначала на юг, через Адриатику и Средиземное море, в Каир, далее через Суэцкий канал до Бомбея, Коломбо, Сингапура и, наконец, Шанхая. Первые несколько дней на борту заболевший Миша был вынужден провести в их каюте второго класса. В лихорадке малыша “охватывала настоящая паника, он воображал, что пароход пойдет ко дну и они с матерью утонут”. Урсула крепко обнимала сына, чувствуя, как озноб охватывает все его маленькое взмокшее тельце. Ребенок все еще вел себя настороженно, но их отношения потихоньку шли на лад, как и его самочувствие. Прочитав тридцать раз иллюстрированную книгу с детскими стихами, Урсула решила, что коклюш представляет куда меньшую угрозу для ребенка, чем риск сойти с ума от постоянного сидения в четырех стенах, и вывела его на палубу, старательно избегая при этом общества других детей, чтобы те не заразились.
“Конте Верде” был настоящим дворцом на воде: он был построен на верфи Далмуир в Глазго, достигал 180 метров в длину, а его экипаж насчитывал 400 человек. Спустя четыре года после вояжа Урсулы это могучее судно стало перевозить совсем других пассажиров: в период с 1938 по 1940 год, по мере усугубления нацистских преследований, корабли “Ллойд Триестино Лайн” перевезут 17 тысяч еврейских беженцев в спасительный Шанхай.
Лайнер проходил по Суэцкому каналу, когда Миша уронил мяч, ускакавший дальше по палубе. Не дав мячу упасть в воду, один пассажир остановил его ногой и вернул владельцу. Приподняв шляпу, Йохан Патра представился матери мальчика, назвавшись Эрнстом Шмидтом, сотрудником компании “Рейнметал”. На Урсуле было приобретенное в Праге хорошенькое синее платье без рукавов. Они сделали вид, что увлеклись беседой. Ужинали они в тот вечер вместе. И на следующий вечер тоже. Даже если остальные пассажиры и обратили внимание, что элегантная молодая немка на удивление хорошо поладила с богатым коммерсантом, то вряд ли это было каким-то исключительным событием на борту “Конте Верде”. “На пароходах романы были в таком же порядке вещей, как и на курортах”, – писала Урсула.
Чем дальше они продвигались на юг, тем приятнее становилась погода. По вечерам, когда Миша засыпал, они увлеченно беседовали, гуляя по палубам. Днем они плескались в бассейне, играли в карты или загорали, лежа в шезлонгах. – Вы хорошая мать, – заверял Йохан Урсулу.
Еще в Чехословакии они договорились не обсуждать на борту свою миссию, но совсем скоро Патра нарушил собственное правило. Урсула должна была запомнить шифр для радиопередач из Маньчжурии.
– Вы помните его? – спросил однажды за завтраком Патра.
Она кивнула и назвала шифр по памяти.
На следующий день он задал тот же вопрос.
В третий раз она не выдержала:
– Перестаньте. Вы можете на меня положиться.
Он вспылил, понизив голос:
– Нет, я недостаточно хорошо вас знаю и несу ответственность за это задание.
Час спустя она увидела, как довольные друг другом Патра с Мишей строят мост из деревянных кубиков, и от раздражения не осталось и следа.
“По вечерам мы по несколько часов проводили на палубе под звездным небом, опираясь на перила и просто безмолвно глядя на море или тихо беседуя о наших жизнях, пусть и столь несхожих, но подтолкнувших нас к одному мировоззрению”. Она рассказывала ему о своем детстве, трех годах в Китае, о том, как ее завербовал Рихард Зорге. Он говорил о своей жизни в море и непрестанных мучительных попытках понять революционную литературу. Он спрашивал ее о Руди.
– Разумеется, отвечать вы мне не обязаны, – добавлял он.
– Он хороший человек, но мы отдалились друг от друга. Да, он был моим первым любовником… Сколько мне было тогда лет?