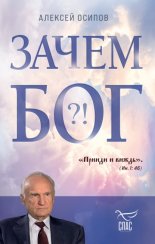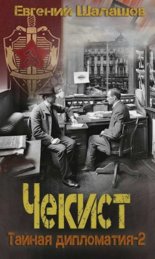Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец Макинтайр Бен

– Об этом я вас не спрашивал.
– Нет-нет, это не тайна, мне было восемнадцать… и нет, на горизонте у меня никого нет.
Об этом Патра ее тоже не спрашивал.
“Длительное путешествие с теплыми днями и ясными ночами, солнце и усыпанное звездами небо создавало атмосферу, устоять перед которой было невозможно, – писала она. – Когда мы стояли, опершись на борт корабля и глядя на воду, перешептываясь или молча, я уже не была так твердо уверена, что хочу исключительно «товарищеских отношений»”. Патра, казалось, души не чаял в ее сыне. От его редкой мимолетной улыбки у Урсулы захватывало дух.
По иронии судьбы, несмотря на объединявшую их преданность классовой борьбе, между ними пролегала настоящая классовая пропасть. “Он отличался примитивными вкусами и манерами, не свойственными владельцу собственного дела”, – отмечала Урсула. Путешествующие первым классом люди, категорично подчеркивала она, не закладывают за ухо недокуренные сигареты. “Меня подобные мелочи не волнуют, но это часть нашей легенды, и вы должны вести себя как деловой буржуа”. Его неспособность вжиться в образ ставила их всех под угрозу. Негодуя, Йохан уходил со словами, что сядет где-нибудь в другом месте, чтобы не “смущать” ее.
Урсула была в растерянности. “Как же так? – размышляла она. – Нам поручено важное дело, мы единственные коммунисты на этом корабле, мы знаем, что нам придется долгое время работать вместе, а ссоримся из-за таких пустяков!”
Патра силился читать “Науку логики” Гегеля. Вряд ли кто-либо вообще должен считать себя обязанным это делать. Урсула наблюдала, как он с искаженным от напряжения лицом продирается сквозь труднодоступный немецкий язык.
Он обратился к ней за помощью:
– С вашим образованием и отцом-профессором вам ничего не стоит это понять.
Урсула ответила, что никогда не читала ни слова из трудов Гегеля и не намерена осваивать на борту парохода 800-страничный опус немецкого философа девятнадцатого века по диалектике.
– Вам это намного легче, – не унимался он, – но вам лень тратить на это силы.
– Я не менее предана делу, чем вы, но мне не нужно доказывать это, силясь понять Гегеля.
Некоторое время спустя он с гордостью показал ей открытку, которую хотел отправить матери в Литву, – безобразно аляповатый замок, утопающий в розовом закате.
– Самая дорогая из всех, что были у стюарда, – сказал он. – Правда, красиво?
– Нет. Это безвкусица, – ответила она прямо, о чем немедленно пожалела.
– Ясно, – прошипел в ярости Патра, разорвав открытку. – Ну, я же всего лишь работяга, в таких вещах не разбираюсь. Бескультурный варвар… это вы у нас интеллектуалка.
Теперь разозлилась она.
– С меня довольно. Я больше не позволю вам приписывать мне эту роль, я для этого слишком долго трудилась как коммунистка, и если вы будете продолжать в том же духе, я утрачу к вам все уважение.
Патра отошел на шаг назад.
– Я другое хотел сказать, – пробормотал он.
Они происходили из двух разных миров, этот неотесанный прибалтийский моряк и начитанная немецкая еврейка из среднего класса. “Казалось, его раздражало любое мое преимущество в жизни: мое образование, свободное владение английским, бльшая уверенность в общении с другими людьми”.
В тот вечер, уложив Мишу спать, она застала Йохана на кормовой палубе. Он сидел на связке канатов и мрачно курил трубку. Она была настроена помириться. “Я вдруг рассказала ему обо всем, что меня в нем восхищало: его пыл и чувствительность, его рвение, огромная сила воли и большой опыт”. – Сказать, что я думаю о вас? – спросил он в ответ.
Он говорил без запинки, словно излагая по памяти малоприятный рассказ:
“Каждое утро она появляется в новом платье, хвастаясь своей на редкость хорошей фигурой, каждое утро она расточает любезные улыбки паре десятков человек. Ей нравится заводить новые знакомства, но ей все равно, что все эти люди – мелкобуржуазный сброд. Она выставляет напоказ свой блестящий английский и французский, особенно в присутствии необразованного спутника, не понимающего ни слова; ей доставляет удовольствие пенять ему, что он – всего лишь пролетарий и не умеет себя вести. Он не встал, когда она вошла в помещение, – ах, как неловко; он черпал ложкой соус с тарелки и хранил бычки от сигарет. При каждой такой оплошности она налетает на него ястребом. Он коммунист, он много учился, но не хорошим манерам. Партия использовала его, моряка, как курьера. Однажды в Бразилии его схватила полиция. При нем были компрометирующие письма, и он умудрился вырваться на свободу. В него стреляли, пуля задела плечо, он бежал и скрывался три дня, не успел на свой корабль, остался без гроша, и ему было не до хороших манер. Теперь он на этом проклятом пароходе, впервые в буржуазном обществе, он знает, что не должен выделяться, не спускает глаз с этих простофиль, обращая внимание на все: какую вилку они суют в рот, как они не хватают бутербродов руками, нарезая их на маленькие кусочки и накалывая их на палочки. С него сходит семь потов, как в котельной, из-за его треклятой неуверенности, но разве интеллектуалка из богатой семьи способна понять его хотя бы самую малость?”
Никто никогда не разговаривал с Урсулой в подобном тоне. Она едва сдерживала гнев. “Еще никто не считал меня напыщенной, тщеславной, праздной и злобной”. Сделай несколько глубоких вздохов, сказала она себе. После этого она заговорила:
– Можно я отвечу по порядку? По-моему, чтобы быть приветливым к людям, незачем дожидаться бесклассового общества. Жизнерадостность – обратная сторона дружелюбия. И легкомыслие тут ни при чем. Если я подавлена, я стараюсь уединиться, чтобы не заражать других своим дурным настроением. Вы правы, мне нравится знакомиться с новыми людьми. Они мне очень интересны. Они бывают чудаковатые, забавные, грустные, дурные, достойные восхищения, у каждого своя судьба – обусловленная как окружением, так и их собственными усилиями. А теперь нелепый вопрос о платьях: у меня их всего четыре. Разумеется, мне нравится их носить. Разве вы не чувствуете, как приятно проститься с холодным мартом, сбросить с себя старую зимнюю одежду, внезапно очутившись среди южного лета, расхаживать в одежде без рукавов, без чулок, лежать на солнце, плавать в бассейне? Я думала, вы тоже получаете от всего этого удовольствие. Здесь можно радоваться каждой минуте. Это что касается мелочей, но остальные ваши обвинения куда серьезнее…
Патра прервал ее:
– Я перебью вас, я тоже радуюсь каждой минуте.
И ушел.
На следующий день пароход пристал в Коломбо. Они втроем сошли на берег, при виде обезьян на деревьях маленький мальчик визжал от восторга. Когда все расположились в кафе на возвышенности, откуда открывался вид на море, Миша вскарабкался к Йохану на колени.
В тот вечер на закате, когда лайнер выходил из порта, они снова стояли бок о бок, опершись на борт. “Наши руки соприкоснулись, мимолетно, как случается ненароком задеть соседа в людном поезде. Я отодвинула руку немного дальше”.
– Вам не нужно меня бояться, – сказал Патра.
– Разве?
Пауза.
– Уже поздно, мне нужно взглянуть, как там Миша.
– Вы еще вернетесь?
– Уже поздно.
– Я буду ждать здесь.
Когда она вернулась, Патра не спускал глаз с горизонта и не слышал, как она подошла.
Она подумала: ну давай же, пригладь его растрепавшиеся волосы.
Вместо этого она тихо стояла рядом с ним.
– Во многом это все моя вина, – сказала она, – но я не знаю, сколько я еще выдержу, если вы продолжите подобным образом меня оскорблять.
– Вы бы уехали, если бы могли? – спросил он.
– К чему думать о невозможном?
– А я бы вас не бросил.
Патра умолк, уставившись на большие волны. Но потом “поднял взгляд, пристально посмотрел на горизонт, потом на меня и убрал волосы с моего лица”.
Один этап был пройден.
Но что-то все равно ее сдерживало. Одного коллегу она любила и потеряла. “Я старалась не поддаваться атмосфере морского путешествия с его романтическими вечерами и постоянной близостью”. Скоро они приступят к совместной работе. Он был ее начальником. Во многих аспектах они были несовместимы. Она говорила себе: “Пусть лучше не будет никакого начала, чем тернистый путь без конца, ведь при совместной работе нам некуда будет деться друг от друга”. Ее непреодолимо к нему влекло, это была дурманящая смесь физического желания, запретной любви и обещания приключения.
Патра был настойчив, но терпелив:
– Я знаю, что между нами происходит что-то серьезное, но если вы так пока не считаете, я могу подождать.
Два разведчика плыли в Китай вести подпольную войну, в которой оба могли погибнуть. Остальные пассажиры “Конте Верде” видели лишь счастливых молодых людей, увлеченных друг другом.
Глава 8. Наш человек в Маньчжурии
Когда итальянский лайнер причалил к берегам Шанхая, Рудольф Гамбургер ждал у пристани. За несколько месяцев без Урсулы и Миши он измучился от одиночества. С головой окунувшись в архитектурные проекты и мебельный бизнес, Руди опасался, что они уехали навсегда. Но вот они вернулись – его белокурый сын, не выпускавший из рук мяча, и жена, которой так шло белое платье без рукавов и округлившаяся в России фигура. Вне себя от радости, он отвез их на авеню Жоффра. Семья вновь была в полном составе. Патра, не привлекая к себе ишнего внимания, отправился в отель.
Счастье Руди продлилось всего несколько часов.
“Было нелегко сказать, что мы приехали лишь навестить его”, – писала впоследствии Урсула. Они с Мишей должны были вскоре отправиться на север, в Маньчжурию, объяснила она мужу как можно мягче, и поедут туда не одни.
Любой другой мужчина стал бы упрекать и возражать, потребовал бы, чтобы она оставила Мишу с ним, швырялся бы посудой, угрожал судом. Руди же принял печальные новости, сохранив самообладание. “Он был очень удручен, но, как всегда, спокоен”. Однако идея окончательного разрыва категорически претила ему: он не хотел терять ни сына, ни жену. По-своему в упорстве Руди не уступал Урсуле. “Руди обладал особой настойчивостью, которую трудно было заподозрить в этом внешне мягком человеке, – писала она. – Он ни в чем не упрекал меня и не чинил препятствий; он смирился даже с тем, что я, возможно, буду жить в Мукдене не одна”.
Стоицизм Руди объяснялся еще одним фактором. Он знал, что Урсуле поручено в Маньчжурии “тайное партийное задание”. До этого ему претила ее шпионская работа, теперь же он всецело ее поддерживал. Он был коммунистом, заявил он, готовым действовать в нынешних исторических обстоятельствах. Их семьи находились в изгнании, в бегах, опасаясь все более масштабных преследований. Его родина оказалась в тисках фашизма. В Шанхай стекались беженцы, и клуб превратился в гнездо нацистов, где он, еврей, теперь стал нежеланным гостем. Урсула с удивлением наблюдала произошедшие с Руди перемены: “Он был уже не просто сочувствующим, который старается быть в стороне от дела, а коммунистом, готовым с нами сотрудничать”. Удивительный человек, за которого она вышла замуж, стал вызывать у нее восхищение. Но она не могла заново его полюбить.
Спустя три дня после возвращения Урсула добралась на рикше до ресторанчика на окраине города, где ее ждал Патра с представителем КПК. Китайский “товарищ”, чье имя не называлось, объяснил, что в результате захвата Маньчжурии японские силы оказались у границы с Россией, что представляет угрозу уже для Советского Союза. “Ваша задача теперь приобретает еще большую важность”, – подчеркнул он. Партизаны-коммунисты в горах вели ожесточенную войну против японских оккупантов: “Маньчжурия находится в состоянии полувойны”. Урсула с Йоханом станут координационным пунктом между повстанцами и Москвой. Они должны закупить детали для радиопередатчика, добраться на поезде до Мукдена и установить там опорный пункт. Как аванпост советской разведки в Маньчжурии, они будут нести ответственность за снабжение повстанцев деньгами, оружием и взрывчаткой, укрывать беглецов, отбирать отдельных партизан для обучения в Москве, вербовать и обучать местных радистов, осуществлять передачу информации и разведданных между Центром и руководством партизанских отрядов. Товарищ рассказал, как установить связь с партизанами. Как европейцы, Патра и Урсула пользовались большей свободой передвижения по сравнению с китайцами, но японцы будут держать их под неусыпным наблюдением, ведь “любой приезжающий в Маньчжурию из Китая может быть участником антияпонского движения, а значит, потенциальным врагом”. В завершение он изложил все риски. “Японцы не могут просто «избавиться» от иностранцев, как от китайцев”, но если они окажутся в руках Кэмпэйтай, их подвергнут пыткам, а потом убьют.
Йохан Патра отправился в магазин за радиолампами, выпрямителем и проводами. Самодельная радиоустановка долж на была питаться от двух больших железных трансформаторов весом пять фунтов каждый. Поскольку спрятать их в багаже было бы невозможно, их приобретение отложили до приезда в Мукден.
Урсуле нужно было обзавестись для прикрытия какой-то работой, связанной с книгами. Она зашла в американский книжный магазин в Шанхае “Эванс и Ко”, рассказала, что переезжает в Мукден, и предложила свои услуги в качестве представителя фирмы в Маньчжурии. Закупив по оптовым ценам небольшую библиотеку, она должна была продавать книги в розницу английским читателям, оставляя прибыль себе. “Эванс и Ко” согласились, с радостью обеспечив ее официальным письмом о назначении на работу и визитными карточками. Урсула была теперь директором и единоличным представителем “Книжного агентства Маньчжоу-го”, специализирующегося на образовательной, медицинской и научной литературе. А также на шпионаже.
В середине мая 1934 года, незадолго до запланированного отправления в Мукден, Урсула оставила Мишу на попечение Руди, предупредив, что вернется через два дня. Куда она едет, она не сообщила. Добравшись дневным поездом до древнего города Ханчжоу, в двух часах езды в юго-западном направлении, они с Йоханом поселились в очаровательной маленькой двухэтажной гостинице с ухоженным садом во внутреннем дворике.
“День был сказочный, – писала Урсула. – Рука об руку мы гуляли по старым улочкам, набитым продавцами всякой всячины и прохожими”. Они остановились посмотреть, как мастер кропотливо склеивает черепки разбитых мисок для риса. У старика было удивительное музыкальное рекламное приспособление: к бамбуковому шесту крепился гонг с двумя цепями, которые при каждом шаге издавали мелодичный звон. В саду буддистского храма Урсула и Йохан сели на скамейку у небольшого пруда. “Мы говорили о Конфуции, о Китайской Красной армии, о листьях лотоса на прудах, о прохожих, о Мише и о поездке в Мукден. Но не о предстоящей ночи”.
Вернувшись в гостиницу, Йохан пошел за зеленым чаем. Со двора долетали звуки игры в маджонг, стук костяных фишек напоминал приглушенный шум кастаньет. Сквозь бумажные ставни в комнату проникало легкое дуновение прохлады, чуть колыхавшее накинутую на широкую кровать с балдахином москитную сетку. Урсуле вдруг стало зябко. Она набросила пиджак Йохана, вспомнив, как несколько месяцев назад он укутал ее своим пальто, когда она дрожала от холода и волнения.
Опустив руку в карман пиджака, Урсула обнаружила там фотографию: Йохан приобнимал за бедра проститутку-китаянку. На снимке стояла дата – он был сделан пятью днями ранее в Шанхае.
Урсула не отрывая глаз смотрела на фотографию, когда в номер вошел Йохан с чайным подносом.
Увидев в ее руках снимок, Патра разразился виноватой, путаной и бесполезной речью, “обычным потоком банальностей, которые всегда произносят мужчины” в свое оправдание. – Это же просто сувенир, это ничего не значит, просто физическая потребность, все уже забыто, все из-за тебя, не надо было… и я бы не стал… это не имеет никакого отношения к моим чувствам к тебе… я больше никогда не… Хочешь – кричи на меня, хочешь – ударь… к чему раздувать из мухи…
И так далее.
Она ничего не ответила.
Позже они улеглись на большую кровать. “Мне пришлось лишь один раз сказать «оставь меня в покое»”, – писала она.
Патра быстро заснул. Урсула лежала без сна под звуки китайской речи и отдаленного стука фишек маджонга.
Всю долгую дорогу до Мукдена Миша сидел между Урсулой и Йоханом, болтая без умолку, пока поезд проносился мимо соевых полей и крохотных деревушек. Радиолампы были спрятаны в свернутых носках на самом дне чемодана. Йохан попытался взять Урсулу за руку:
– Этот глупый пустяк в Шанхае не должен все испортить. Это неважно… Ну же, стань опять веселой, как раньше.
Урсула ничего не ответила. “Я не видела смысла обвинять его в том, что мы совершенно не похожи и он не способен понять, как глубоко меня ранил”.
На границе японские пограничники досмотрели все чемоданы, вывалив все их содержимое на платформу. Йохан предусмотрительно засунул радиолампы между подушками сидений купе.
Мукден, старинный город, обнесенный крепостными стенами, был уменьшенной и более скромной копией Шанхая: лабиринт узких улочек и низких кирпичных домов, перемежавшихся внушительными муниципальными строениями. Большой обшарпанный город выплескивался за пределы крепостных стен. Иностранцы жили в собственном анклаве. Экспатрианты здесь были в более бедственном положении, доходы были значительно ниже, потому что конкуренцию иностранцам составляли нагрянувшие японцы. В Мукден стекался пестрый международный сброд: авантюристы, мелкие проходимцы, бродяги, пытавшиеся бежать от своего прошлого или искавшие нового будущего. Очередная жена, сбежавшая от несчастливого брака к любовнику, не вызывала особого любопытства. Город был наводнен торговцами опиумом, преступниками и проститутками. “У Йохана будет полно шансов пополнить свою фотоколлекцию”, – язвительно размышляла Урсула.
В гостинице “Ямато” пара распаковала вещи, специально оставив на виду для шпионов свои визитки “Рейнметал” и “Эванс и Ко”. В тот день Йохан отправился искать тайник для радиодеталей. Один чемодан Урсула оставила нераспакованным, обмотав замок тоненькой ниткой. Когда они вернулись с ужина, нить исчезла. В номере побывали ищейки. “В отеле мы не говорили ни о чем значительном”. Официанты ловили каждое их слово.
Изначально оговаривалось, что связь с партизанами, самая опасная часть предстоявшего задания, ляжет на плечи Урсулы. Генерал Берзин был категоричен: Патра “не должен подвергаться самому серьезному риску”. Как младшей по званию в их команде, Урсуле надлежало брать рискованные задачи на себя. Первый контакт был запланирован в 400 милях к северу от Мукдена, в Харбине. Йохан неожиданно заявил, что отправится туда вместо нее. Она спросила, почему он решил изменить оговоренную стратегию?
– Ну, ты можешь не выдержать, ты же женщина и мать.
– И об этом уже давно было известно, – колко парировала она. – Я возьму Мишу с собой.
– Ты потащишь маленького ребенка в такую долгую дорогу и оставишь его одного на несколько часов в гостинице? Это не обсуждается. Если ты поедешь, я останусь с Мишей.
Йохан заучил режим дня ребенка: во сколько его надо кормить, во что переодевать, сколько давать ложек рыбьего жира. “За Мишу можешь не волноваться, – говорил он. – Только вернись целой и невредимой”.
Урсуле не понравился Харбин, крупнейший город Маньчжурии, ставший приютом для тысяч белоэмигрантов, бежавших от революции. Разумеется, они заслуженно стали жертвами исторических событий, но, доведенные до крайней нищеты, вынужденные воровать, становиться рикшами и проститутками, они представляли жалкое зрелище. “Многие выпрашивали милостыню на перекрестках, – писала Урсула. – Из всех известных мне городов Харбин тех лет был самым мрачным”.
В соответствии с инструкциями Урсула должна была встретиться с партизаном по имени Ли на кладбище в отдаленном районе города, спустя час после заката. Она всегда боялась темноты. “Меня это угнетало, ведь в нашей работе многое происходит именно в ночные часы”. Мимо прошли, шатаясь и распевая песни, два пьяницы. Один мужчина уставился на нее и попытался заигрывать. Она ждала, что он произнесет кодовое слово, но по его лицу поняла, что он здесь не ради шпионажа. Убежав, она спряталась за памятником. Прождав час сверх назначенного времени, она была рада вернуться к ярко освещенной гостинице. На следующий вечер она вновь отправилась на кладбище, как и было условлено, но партизан так и не появился. “Почему же он не пришел? Вдруг его арестовали?” Раздосадованная, она села на поезд до Мукдена.
В отеле “Ямато” Йохан так увлекся, кормя мальчика ужином, что не заметил, как Урсула зашла в столовую. “Он посадил Мишу на стул, подложив ему подушку, чтобы было повыше, аккуратно, чтобы в узел не попали волосы на затылке, повязал ему салфетку. Пробовал суп, чтобы убедиться, что он не слишком горячий, и подносил ложку ко рту Миши. Стирал с подбородка мальчика капли и был совершенно поглощен этим процессом”. Урсула вновь прониклась к нему нежностью.
Йохан повернулся, лишь когда она уже оказалась за его спиной.
– Слава богу, – тихо сказал он.
– Йохан, ну что же мне с тобой делать?
Она обняла его. “Он долго сжимал меня в объятиях”.
Однако позже, когда она рассказала ему о несостоявшейся встрече, Йохан снова не сдержал гнева. “У тебя удивительное умение все испортить”, – вспылил он. То же самое можно было сказать и о нем. В ту ночь они опять спали в разных кроватях.
Резервная встреча с Ли была запланирована через неделю. На этот раз Йохан настоял, что сам поедет в Харбин. Сама себя за это ругая, Урсула не могла совладать с нараставшей тревогой, когда приблизился – и миновал – час его возвращения. “Странно, как быстро привыкаешь к человеку”, – размышляла она. Она ходила взад-вперед по комнате, не в силах сосредоточиться на книге. “А вдруг его арестовали? Вдруг Ли пытали, он не выдержал и выдал им место встречи?”
В полночь Йохан наконец проскользнул в номер. Вид у него был изможденный. Ли так и не появился.
Йохан забрался к ней под одеяло. Чувство облегчения вызвало прилив страсти, которому она уже даже не пыталась противостоять.
“Все остальное той ночью было хорошо”, – писала она.
Альтернативным местом встречи – на тот случай, если встреча в Харбине не состоится, – был город Фушунь, в 30 милях к востоку. Упаковав свою библиотеку и продав в Фушуне в общей сложности пять книг, Урсула вернулась в приподнятом настроении. Партизан появился на условленном месте точно вовремя – “высокий, спокойный, скупо жестикулировавший северянин”. Он объяснил на простом китайском, вкрапляя в него местами пиджин и делая для ясности карандашные наброски, что возглавляет подпольный коммунистический отряд, состоящий из рабочих, крестьян, учителей, студентов и уличных торговцев. “Так, так, очень хорошо”, – не раз повторил он. Ли, по его словам, “испугался”. Назвавшийся именем Чу партизан сообщил, что ему срочно необходима взрывчатка для запланированной диверсии на Южно-Маньчжурской железной дороге.
“Наконец мы можем приступить к делу”, – размышляла Урсула, вернувшись в отель и зашивая сделанные на встрече записки в подол нижней юбки.
Оставалось еще два существенных препятствия: им нужны были трансформаторы для питания передатчика и надежное место для его установки. Японцы отслеживали нелегальные радиопередачи. Установить антенну на крыше гостиницы было бы опасно и, вероятно, невозможно. Урсула отправилась на поиски перманентной точки, которая станет их радиостанцией.
Тем временем Патра обошел все радиомагазины Мукдена и так и не обнаружил в них подходящих трансформаторов. Нехотя он сел на поезд до Шанхая: придется купить их там и изыскать какой-то способ протащить громоздкие металлические изделия через границу. Урсула предложила ему посоветоваться с Руди, настаивая, что, невзирая на странность обстоятельств, ее мужу можно беспрекословно доверять.
Японские чиновники конфисковали большую часть собственности в Мукдене, но несколько больших домов, покинутых бежавшими китайскими генералами, пустовало. Один из них, роскошная вилла за высокой оградой, когда-то принадлежавшая родственнику маньчжурского военачальника генерала Чжан Сюэляна, располагался по соседству с Немецким клубом. Урсула окинула виллу беглым взглядом, решив, что она слишком роскошная, мрачная и будет им не по средствам. Однако на том же участке она заметила приютившийся в уголке каменный домик поменьше. Слуга, хихикая, рассказал, что домик был построен специально для любовницы хозяина виллы. Из сада в главный дом вел подземный ход, обеспечивая влюбленному генералу быстрый и незаметный доступ к наложнице. В этом маленьком домике не было водопровода, отапливался он лишь дровяной печью, но в остальном был идеален: три маленькие, обшитые деревянными панелями комнатки на втором этаже, кухня на первом, огромная кровать для генерала и его любовницы и выход в подземный туннель. С улицы никто не мог заглянуть в окна, а соседство с Немецким клубом доставляло своеобразное удовлетворение: она будет бороться с фашизмом прямо под боком здания с развевающейся свастикой. Впервые за год с лишним у Урсулы был дом, свое гнездышко: “Как же было приятно разложить на полу циновку, повесить картину, купить вазу”.
В Шанхае Йохан купил два тяжелых трансформатора длиной в восемь дюймов: не заметить их мог только слепой пограничник. Руди придумал способ выйти из положения. Они купили тяжелое вольтеровское кресло с плотной набивкой, “уродливое зелено-коричневое чудовище”, и распорядились доставить его на авеню Жоффра. Перевернув кресло на спинку, Йохан с Руди вытащили гвозди, крепившие обивку, и приделали два трансформатора к внутренним пружинам проволокой и веревками. Водворив на место набивочный материал, они вернули обивку на место. “В глаза ничего не бросалось, и вес кресла не привлекал лишнего внимания”. Кресло отправили в Мукден в грузовом вагоне. Руди, вероятно, до сих пор не догадывался о романе, разгоравшемся между его женой и ее начальником; а если и знал, то был слишком хорошо воспитан, чтобы устраивать сцены. Муж Урсулы и ее любовник справились с первым совместным заданием, объединив шпионские навыки с компетенцией в области мягкой мебели.
Когда Йохан вернулся в Мукден, Урсула показала ему новый дом.
– Пожалуй, спальня должна быть тут, спереди, – сказал он. – Рядом Мишина, а в третьей комнате может быть гостиная с трансформатором… почему ты так на меня смотришь?
Она нахмурилась.
– Я не знала, что ты решил, будто мы поселимся вместе.
– Я полагал, что теперь между нами все предельно ясно. Все знают, что ты со мной.
Урсула была настроена решительно. Совместное проживание в ее планы не входило.
– Я буду радоваться каждой проведенной вместе минуте, а это будет большая часть нашего времени, и днем и ночью.
– Так почему же не все время?
– Потому что у меня другой ритм жизни, а ты требуешь, чтобы я всецело подстроилась под твой. Иногда мне бывает нужно побыть одной.
Урсула начала влюбляться в Йохана за его заботливую нежность, любовь к Мише и революционное рвение. Но он мог вспылить, любил командовать, был старомодным шовинистом, допускавшим, что “у мужчин должно быть больше возможностей, чем у женщин”, и считал ее независимость оскорблением своего достоинства.
Недовольный Йохан занял свободную комнату у одного немецкого коммерсанта. Урсула же была убеждена, что была права, настояв на отдельном доме; как часто бывает с обидчивыми и склонными командовать мужчинами, эго Патры требовало умелого и аккуратного обращения. “Постепенно я справилась с его обидой. Я открыто проявляла любовь к нему, сама удивляясь порой, насколько покорной, податливой и терпеливой я умею быть во всех рабочих вопросах. Но вряд ли я смогла бы справиться с этим, не будь у меня собственного времени”.
Уродливое зеленое кресло прибыло в Мукден в срок. Внеся его в дом и перевернув его на спинку, Урсула и Йохан “с ужасом” увидели, что один из трансформаторов был едва прикрыт обивкой: от тряски в поезде проволока порвалась, и острый край продырявил ткань. Держался он лишь благодаря потрепанной веревке. “Одно-два лишних движения – и трансформатор бы выпал, насторожив даже самого некомпетентного японца-железнодорожника”.
Йохан начал собирать передатчик – “Хартли” с тремя шкалами переключений. Он был опытным техником с проворными пальцами, бесконечным терпением и феноменальным умением сосредоточиться. “Ни разу он не взглянул на часы, ни разу не сделал перерыв”. Наконец передатчик был собран: громоздкая самодельная монструозная машина с тяжелым выпрямителем и трансформаторами, крупными радиолампами и катушками, сделанными из толстой медной проволоки, обмотанной вокруг пустых пивных бутылок. Радиодетали хранились на дне старого сундука из камфорного дерева под сделанной Йоханом фальшполкой, на которой лежали сложенные одеяла. Тщательного досмотра этот тайник бы не выдержал, но зато оборудование было скрыто от любопытных глаз прислуги. Под крышку Урсула положила перо. Так она сможет узнать, если кто-то откроет сундук. Последней задачей было разместить на крыше антенну Фукса: сторонний наблюдатель не нашел бы “никаких отличий от антенны” для обычного радиоприемника, но если бы кто-то увидел, как они ее монтируют, это могло привлечь лишнее внимание. Заниматься монтажом пришлось ночью. И Урсула попросила Йохана предоставить это ей.
Подождав, пока Миша уснет, Урсула выбралась на крышу через чердачное окно, прихватив с собой две бамбуковые палки и рюкзак с веревкой и мотком проволоки для антенны. К одной трубе она привязала первую палку, продев проволоку сквозь нее, как через бамбуковую иглу. Пройдя по коньку крыши со вторым бамбуком с пропущенной таким же образом проволокой, Урсула привязала его к противоположной трубе, надежно закрепив конец вокруг ее основания. “Отсюда едва были видны размытые контуры верхушек деревьев и крыш”. Потеряв на мгновение равновесие, она “оперлась на трубу, внушавшую доверие своим солидным видом”. Но затем допустила оплошность, “взглянув вниз, в бесконечную мрачную темноту”. Внезапно ее одолел страх. “Трусиха, – отчитала она сама себя. – Жалкая трусишка. С какой стати тут падать, сплошные фантазии”. Тут послышался Мишин плач. “Обычно мальчик спал крепко. Теперь же он истошно кричал”.
Пробравшись обратно по крыше, она сбросила рюкзак в чердачное окно и нырнула следом. Плач ребенка наверняка разбудил соседей. Миша, всхлипывая, сидел в кровати. “У меня газировка в пальцах”, – рыдал он. Мальчик отлежал руку. “Еще один аргумент против детей у профессиональных революционеров”, – удрученно размышляла Урсула, но не смогла сдержаться от смеха. Она терла маленькую Мишину ручку и гладила его по голове, пока он не успокоился.
После этого она вернулась на крышу.
К следующему вечеру приемник можно было испытывать. По предварительной договоренности выходить в эфир они могли только по ночам, в разное время и лишь на одной из двух согласованных частот, устанавливая связь с принимающей станцией Красной армии во Владивостоке под кодовым названием “Висбаден”. Урсула сидела за столом, Йохан соединял батареи, а она нервно настукивала краткое шифрованное сообщение. Несколько мгновений спустя поступило подтверждение, робкий сигнал на азбуке Морзе из далекой России, из Центра. “Мы радостно улыбнулись друг другу”.
Послания Урсулы ловила не только Красная армия. Днем и ночью японские самолеты-шпионы то и дело пролетали в небе, пытаясь засечь радиоволны: если две машины одновременно засекали сигнал, они могли определить местонахождение радиоприемника. При таком раскладе скоро могла нагрянуть японская тайная полиция, и дни Урсулы были бы сочтены.
Глава 9. Скитания
В дом по соседству въехал нацист.
Урсула меньше месяца прожила в своем коттедже, когда на вилле поселился новый жилец. Как сосед Ганс фон Шлевиц не мог не внушать тревоги: немецкий аристократ, торговец оружием и нацист со связями в высших кругах японской администрации. Да к тому же толстяк и пьяница. Урсула заочно уже готова была его возненавидеть и покинуть жилище при первых же признаках опасности.
Фон Шлевиц оказался обаятельным, любезным и ироничным человеком, живым доказательством, что политические и классовые враги бывают довольно остроумны и весьма полезны. Монархист старой закалки, представитель старинного рода, фон Шлевиц считал Гитлера неотесанным хамом и ненавидел нацистскую партию, членом которой стал исключительно из деловой целесообразности. Он был пузатым, лысым, компанейским, хитроватым и весьма забавным, “замечательным, очень остроумным рассказчиком”. Он прихрамывал – память о полученном в Вердене осколочном ранении. “Здесь штук тридцать стальных осколков”, – любил говорить он, похлопывая по упитанной ляжке. Он тесно сотрудничал с японскими военными в Маньчжурии, был исключительно словоохотлив, особенно в подпитии, что случалось нередко. “Если увидите меня где-нибудь и решите, что я чересчур много выпил, – говорил он ей, – сделайте одолжение, отведите меня домой”.
Фон Шлевиц мгновенно подружился с Урсулой. “Я предпочитаю беседовать с вами, а не с этими немецкими обывателями”, – говорил он. Скучая по оставшейся в Германии семье, он проникся симпатией к маленькому Мише и даже разрешил ему разъезжать на маленьком трехколесном велосипеде вокруг стульев в его просторной столовой. Фон Шлевиц флиртовал напропалую – скорее из галантности, нежели всерьез – с умной еврейкой, жившей по соседству в маленьком садовом домике, а она кокетничала в ответ.
Йохана Патру, арийца и продавца печатных машинок, все еще с радостью принимали в местном немецком сообществе, однако о его “семитской подруге” распространялись неприятные сплетни. Пересиливая себя, Урсула бывала с ним или с фон Шлевицем в клубе, смирившись с язвительными ремарками, которые раздавались за ее спиной. Те, кто водил дружбу с нацистами, вызывали у японцев меньше подозрений. Узнав, что Урсула стала мишенью расистских замечаний, фон Шлевиц напыжился, как индюк. “Если кто-то из немцев тронет хоть волос на вашей голове, немедленно сообщите об этом мне”. Как оказалось, совершенно безобидный новый сосед обернулся настоящим спасением: если бы японцы пришли за ней, сперва им пришлось бы иметь дело с фон Шлевицем.
Внимание мужчины постарше вызвало у Йохана приступ ревности.
– Сколько лет этому фашисту?
– Наверное, за пятьдесят.
– Похоже, ты к нему весьма неравнодушна.
Назвав его подозрения чепухой, Урсула подчеркнула, что годится фон Шлевицу в дочери.
– Он ни за что не позволит себе никаких вольностей со мной.
– Ты любишь болтать с этим нацистским пьяницей, хихикаешь в ответ на его комплименты. Знай он, чем ты занимаешься, он бы тебя пристрелил. Лучше бы подсыпала ему яд, вместо того чтобы с ним любезничать.
– Не будь так наивен. Мы здесь не для того, чтобы подсыпать нацистам яд. Нужно ладить со своими соотечественниками. И ты не исключение, это часть нашей легенды.
На самом деле флирт с фон Шлевицем доставлял Урсуле большое удовольствие: он был прекрасным собеседником, отличным прикрытием и подручным источником военной информации. Она была не первой разведчицей, использовавшей свою сексуальность как орудие шпионажа.
В жизни Урсулы в Мукдене риск причудливым образом переплетался с рутинными делами: домашний быт с Йоханом и Мишей, светское общение с фашистами и третья, скрытая жизнь офицера Красной армии, координировавшей операции коммунистического ополчения. “Каждая встреча с партизанами была сопряжена с риском, – писала она позднее. – Если бы стало известно о нашей помощи партизанам, нам могла грозить смертная казнь. Как мы выдерживали эти опасности? Довольно спокойно. Если живешь в постоянной опасности, у тебя всего два варианта: либо ты к ней привыкаешь, либо сходишь с ума. Мы привыкли”.
Урсула отправилась покупать все необходимое для взрывчатки. Наставники по саботажу в Воробьевке научили ее готовить взрывчатку из обычной домашней химии: нитрата аммония, серы, соляной кислоты, сахара, алюминия и перманганата. Эти составляющие легко можно было раздобыть в Мукдене, но, покупая их все разом или большими партиями, она могла привлечь внимание. В одном из магазинов в центре она попросила десять фунтов нитрата аммония: эти белые гранулы часто использовались как садовое удобрение, а в сочетании с порошком алюминия или мазутом превращались во взрывчатку. Неверно интерпретировав ее китайский, продавец принес мешок весом в сто фунтов. Погрузив неожиданную удачу в детскую коляску, Урсула покатила ее, усадив Мишу поверх будущей стофунтовой бомбы. Йохан соорудил часовые механизмы и фитили. Чу зашел в дом за взрывчаткой. “Так, так, очень хорошо”, – просиял он.
Подрывная коммунистическая кампания набирала обороты, набеги совершались на караульные посты, находившиеся под руководством японцев фабрики, военные конвои, а главное, на железные дороги, игравшие центральную роль в маньчжурской экономике. По условленным сигналам можно было понять, увенчалась ли операция успехом. “Насечки в виде зигзага на четвертом дереве по правую сторону от первого перекрестка на улице Белой луны – как гора с плеч для меня”, – писала Урсула. Находившаяся под контролем японцев пресса не сообщала почти никаких подробностей, но из рассказов о постоянных разоблачениях “террористов” и беспощадности ответных мер Японии можно было судить о степени эффективности подпольной войны. “В прошлом месяце в одной только мукденской провинции антияпонские группы совершили 650 нападений”, – писала она родным в июле 1934 года.
Урсула не стала упоминать о своей роли в этих нападениях. Впрочем, в письмах родителям она вообще не вдавалась в лишние подробности. Они знали лишь, что их отважная и своенравная старшая дочь, оставив мужа в Шанхае, устроилась коммивояжером на севере Китая и торговала книгами. “Я занята с утра до ночи, – правдиво писала она, добавляя потом с некоторым лукавством: – Ни в коем случае обо мне не беспокойтесь. В этом нет никакой необходимости. Я живу ровно так, как мне хочется, и очень довольна. Не волнуйтесь, однажды с этими скитаниями придется завязывать”. Она не упомянула, что они могут привести ее на японский эшафот. Письмо она подписала словами “ваша непокорная, но счастливая дочь”. О Йохане Патре она не обмолвилась ни словом.
Роберт и Берта Кучински теперь и сами стали скитальцами.
Многие евреи не сразу оценили опасность нацистского антисемитизма. Однако нападения на евреев и их собственность в Берлине происходили все чаще. Вскоре евреев перестанут допускать на военную службу, еврейским актерам запретят выходить на сцену, а студентам-евреям – сдавать экзамены на врачей, фармацевтов и юристов. Быстро расширялась система концентрационных лагерей. Оставив краткую записку со словами Ich kann nicht mehr (“С меня довольно”), с собой покончила Элизабет Нэф, блестящий психоаналитик еврейского происхождения, лечившая Агнес Смедли. Из Британии Роберт писал письма своей сестре Алисе, призывая ее и ее мужа, Георга Дорпалена, покинуть Германию вместе с их четырьмя детьми. Дядя Георг категорически отказывался, напоминая, что он герой войны и известный врач. Он “останется в своей родной, любимой стране”.
В 1934 году Берте наконец удалось продать за бесценок дом на Шлахтензее, и, собрав все пожитки, она бежала в Англию с младшими дочерьми – Барбарой, Сабиной и Ренатой. Там они встретились с Робертом, получившим место в Лондонской школе экономики, где он занимался исследованиями колониальной демографии. Через некоторое время к ним присоединилась Бригитта. Ольга Мут, няня семьи, оказалась перед выбором: остаться или ехать в Англию. При ее арийском происхождении в Германии ей ничего не угрожало, и она могла подыскать себе новую работу в Берлине. Кроме того, она не знала ни слова по-английски, а перспективы Кучински в Великобритании были в лучшем случае весьма туманны. “Но она приняла решение остаться с семьей” и втиснулась в маленькую арендованную квартирку на севере Лондона вместе с остальными. Теперь Кучински были беженцами.
Из близких Урсулы в Берлине оставался лишь Юрген, перебегавший из одного убежища в другое и без устали строчивший свои труды, многоречивый глашатай загнанной в тупик коммунистической партии.
В своих радиограммах во Владивосток Урсула докладывала о подрывной деятельности, настроениях партизан, мерах подавления мятежников, предпринимаемых японцами, передавала военные и политические разведданные, собранные в беседах с соотечественниками, в том числе с фон Шлевицем. На связь она выходила по меньшей мере дважды в неделю, записывая “без единой ошибки стремительно поступавшие сигналы”. На эту работу уходило много сил и времени. Мощности передатчика не хватало. Сигнал из Владивостока часто поступал с помехами, сообщения трудно было разобрать. Прерывавшиеся послания приходилось повторять снова и снова. За процесс дешифровки она часто садилась в три утра, работая при тусклом свете за закрытыми ставнями и зная, что через несколько часов ее разбудит Миша. Печь топить она не решалась, чтобы дым не привлек внимания к ее ночным бдениям. “Я сидела за азбукой Морзе в тренировочном костюме, закутанная в одеяло и в перчатках без пальцев. Над домом кружили самолеты. Однажды они непременно меня засекут… Мне так хотелось забраться в свою теплую постель”. Каждая передача была раундом русской рулетки.
Зато, когда приемник работал исправно и положенные 500 знаков текста, разбитые на пять частей, выстраивались шеренгами солдатиков, марширующих на поле боя, ее охватывала непривычная, затаенная радость. “Мой дом с закрытыми ставнями был крепостью. В соседней комнате крепко спал Миша. Спал весь город. Лишь я бодрствовала, посылая в эфир новости о партизанах, – а во Владивостоке их принимал красноармеец”.
Им требовались помощники. Чу согласился подыскать людей, которых нужно было научить обращаться с приемником. Так на пороге Урсулы появилась пара китайцев, которые передали привет от командира партизан вместе с готовой легендой: Ван будет обучать Урсулу китайскому, а его жена Шушинь, опытная портниха, будет чинить и шить ей одежду, а также помогать с работой по дому и с ребенком. Ван был вежлив, но слишком серьезен, зато Шушинь жаждала знаний, прилично говорила по-английски и от всей души ненавидела японцев. Хотя выглядела Шушинь как ребенок, у нее самой уже было двое детей, четырех и двух лет, которые жили с ее родителями. “Ван напоминал своей серьезностью и основательностью Йохана, а веселая, хохочущая Шушинь – меня”. Женщины сразу же сблизились. “Она была сущим очарованием; когда она учила азбуку Морзе, ее пальцы просто танцевали по ключу”. После каждого урока они пили чай, жаловались на своих мужчин, говорили о политике и делились историями из собственного, столь несхожего, жизненного опыта. Шушинь сшила Урсуле широкий летний плащ со скрытым в подкладке карманом, куда могли уместиться две радиолампы. Однажды вечером беседа приняла мрачный оборот: каково будет оказаться в руках японцев? Кто более стойко выдержит арест и пытки – мужчины или женщины?
“Как думаешь, мать только изведет себя, переживая, что бросила детей?” – любопытствовала Шушинь.
Урсула еще размышляла над ее вопросом, когда Шушинь предложила собственный ответ: “Вряд ли выносливость зависит от количества страданий. Наверное, дети как раз и придают нам сил”.
Мише было почти четыре, у своих товарищей по играм он учился китайскому и расширял словарный запас на трех языках. Урсула радовалась его “умным, вдумчивым вопросам” и ненасытному любопытству. “Я готова родить еще хоть четверых таких детей, как он”, – писала она. Патра начал коллекционировать традиционные китайские инструменты и брал Мишу с собой в походы по магазинам. Урсула редко составляла им компанию. “Оба сочли бы это вторжением на их территорию”. Ей нравилось наблюдать за развитием этих простых отношений, потому что Йохан был прирожденным отцом. Она гадала, будут ли у них дети.
Москве не было ничего известно о том, что сотрудничество между разведчиками в Мукдене вышло за профессиональные рамки, и Урсулу такое положение вещей вполне устраивало. “Мы хорошо сработались, – писала она. – Он был сложнее меня, скрытный, иногда вспыльчивый, нетерпимый и нервный, я же научилась не раздражать его и почти во всем ему уступать”. В разведке она ему всецело доверяла, в любви – меньше. Соседнюю с Йоханом комнату сняла молодая русская девушка, “изящная, хорошенькая куколка с розовым бантом в светлых волосах”. Урсула немедленно что-то заподозрила. “Людмила скоро поедет в Харбин к своим родителям”, – подчеркнуто беззаботно доложил Йохан. Урсула презирала себя за ревность, размышляя при этом: “Я должна понимать, что испытывает ко мне этот Казанова”. Йохан был вспыльчив, требователен и, вполне возможно, изменял ей; тем не менее он был нежным и, несмотря на все свои переживания, сильным. Он был заботливым любовником. И умел собирать превосходные бомбы.
“Мы любили друг друга, вместе переживали опасности и были товарищами. Мне нравилось, как он бормочет во сне; что гордится мной, когда я хорошо выгляжу; беспокоится, когда долго не возвращаюсь; что мы спорили, а потом мирились, тосковали друг по другу в командировках”. Она могла говорить с Йоханом о политике, революции и забавных наблюдениях маленького мальчика, ставшего ему почти родным. “Мы говорили о том, какой будет Германия, когда нацистская эра закончится, какой будет она при коммунизме”. Йохан был потрясен тем, что Гитлера после захвата власти и гонений против евреев поддерживает столько немцев из рабочего класса. “Я утратил веру в свой класс”, – говорил он. Они договорились отметить свою сотую радиограмму.
После встречи с Чу в Аньшане, в двух часах к югу на поезде, Урсула, заглянув на местный рынок, обратила внимание на мастера, чинившего фарфор: он напомнил ей ремесленника из Ханьчжоу, “пожилого мужчину с длинной тонкой бородкой”. Она заметила, что разбитую миску он собирал трясущимися руками. У них завязался сбивчивый разговор, и она спросила его о маленьком фарфоровом гонге, который он нес на палке. Старик взял его в руки. “Сегодня я работаю в последний раз, – сказал он. – У меня есть сыновья, внуки, правнуки, а теперь через три дня я лягу и умру”. Урсула на мгновение лишилась дара речи. Старик вложил гонг ей в руки. “Возьмите, – сказал он. – Вы проживете долгую жизнь”.
В тот вечер, вернувшись в Мукден, она рассказала Йохану историю о мастере, чинившем свою последнюю миску, и отдала ему в коллекцию тот маленький гонг, символ любви, обещавший долгую жизнь.
В январе 1935 года их навестил Руди, привезя подарки для Миши и запасные части для передатчика. Урсула сообщила в Москву: “Руди стал убежденным коммунистом и не желает больше держаться в стороне от политики”. Еще через несколько месяцев он вернулся с начинкой для бомбы. Руди по несколько часов играл с сыном в саду. Миша привык к Патре, но внезапные, неожиданные и необъяснимые появления отца были мгновениями чистейшего счастья. Годы спустя, рассказывал он, детство вспоминалось ему “призрачными осколками мозаики”: как отец крутил его в саду, как прижималась щека к его твидовому пиджаку, как мать читала ему вслух, пока он не засыпал – “счастливый ребенок счастливой немецкой семьи в Китае”.
Руди не расспрашивал Урсулу о ее отношениях с Йоханом и о том, когда они вернутся в Шанхай. Он ни к чему ее не принуждал. Но от семьи не отказывался. В Гамбургере странным образом уживался радикал-консерватор и джентльмен-революционер. Один его друг как-то раз назвал его “последним коммунистом викторианской эпохи”. Чтобы не нарушать приличий и ради своего сына, он был готов разыгрывать спектакль счастливой семьи, все еще надеясь, что это счастье когда-нибудь вновь станет былью.
В начале 1935 года Москва дала Патре указание собрать радиоприемник для Шушинь и Вана. Добравшись с Мишей на поезде до Тяньцзиня и купив там радиолампы, обратно через границу Урсула провезла их в Мишином плюшевом медвежонке. Через несколько недель Шушинь и Ван уехали, взяв с собой второй радиоприемник, собранный Йоханом. Урсула не знала – и не спрашивала, – куда они направлялись. “Мне было очень тяжело прощаться с Шушинь, моей единственной подругой”.
Миссия в Мукдене была порой счастья и страха, ликования и усталости, любви, ревности и иногда ужаса. Однажды, возвращаясь с гор со встречи с Чу в близлежащую деревню и любуясь “нетронутым, прекрасным” пейзажем, Урсула увидела лежавший на тропинке труп младенца, уже второй за эти годы, – очередное шокирующее напоминание о том, что могло грозить ей самой. Изнемогая от голода, крестьяне, на попечении которых были большие семьи, избавлялись от собственных детей, чаще всего девочек. “Ее тело еще не остыло, – писала Урсула. – Что это за мир, где родитель должен пожертвовать одним ребенком, чтобы спасти другого?” Всякий раз, падая духом, она вспоминала Чу и его искреннюю благодарность. Молодой командир партизан “излучал спокойствие и достоинство”. Урсула говорила себе, что правое дело стоит любых жертв: “Мы боролись против японского фашизма”.
Японские оккупанты были убеждены, со всеми на то основаниями, что за расширением партизанской кампании стоит Москва. Иностранцев приводили на допросы в полицию. Урсулу “пригласил” в мукденский полицейский участок и проводил в кабинет японский полицейский. “Тесно облегавшая форма подчеркивала его кривые ноги. Даже стоя навытяжку, руки он упирал в бока, словно дверные ручки”. Как бы невзначай полицейский обронил по-русски: “Садитесь, пожалуйста”, проверяя таким образом, понимает ли Урсула по-русски и, следовательно, не может ли быть советской шпионкой.
“Что вы сказали?” – переспросила она.
После непродолжительного и бессвязного допроса ее отпустили. Но Кэмпэйтай подбирались все ближе.
“Частое использование передатчика, приобретение химикатов, их хранение в нашем доме и транспортировка, мои встречи с партизанами – все это происходило под неусыпным наблюдением японцев”. Урсула утверждала, что привыкла к опасности, но по ночам часто просыпалась от одного и того же кошмара: враг проникал в дом, а она не успевала уничтожить расшифрованные сообщения. Она начала принимать снотворное.
Фон Шлевиц заметил, что она похудела. “Госпожа соседка, сегодня я приглашаю вас на ужин, где мы закажем самые лучшие и изысканные блюда”, – объявил он. За ужином фон Шлевиц, уплетавший угощения за обе щеки и обильно запивавший их вином, “пытался тактично и безуспешно узнать, в чем же дело”. Наконец я сказала: “Если вдруг мне на голову свалится кирпич, вам придется присмотреть за Мишей”. Фон Шлевиц ответил, что будет счастлив помочь и готов даже усыновить мальчика, если это потребуется. “Это было уже слишком”, – писала Урсула, усмехаясь над мрачной иронией этой картины: сына коммунистической шпионки-еврейки будет растить нацист, торговавший оружием. И все же ее утешала мысль, что добросердечный сосед позаботится о ее сыне, если ее и Патру схватят.
Фон Шлевиц не пытался узнать, почему она боялась падения “кирпича”, почему ее мальчику может потребоваться опека и почему она так интересуется военными вопросами. Неравнодушный к выпивке коммерсант, вероятно, знал гораздо больше, чем делал вид.
В апреле 1935 года, когда Урсула и Йохан ужинали в садовом домике, раздался стук в дверь. На пороге стоял взволнованный китайский юноша лет шестнадцати. Он сунул в руку Урсулы клочок бумаги: один незнакомец дал ему денег, попросив доставить это “сообщение о тяжелой болезни”.
Закрыв дверь, Урсула развернула записку. Послание было написано на простом английском языке сбивчивым почерком Чу. Прочитав его, она почувствовала, как комната уходит у нее из-под ног. Положив записку в пепельницу, она чиркнула спичкой и смотрела, как клочок бумаги тает в огне. Зола еще тлела, когда она обернулась к Йохану:
– Шушинь арестована.
Глава 10. Из Пекина в Польшу
Зашифровывая экстренное послание в Москву, Урсула представляла себе, что переживает Шушинь. Нежные пальчики, плясавшие над ключом азбуки Морзе, могли быть уже переломаны. “Мы знали их методы. Сначала большой палец: «Назови имена!», потом указательный: «Говори!», один за другим. Если жертва продолжала молчать, начинали вырывать ногти”. Японцы, должно быть, арестовали и Вана. Шушинь не сможет долго выдержать изощренных пыток. Урсула печатала свое сотое донесение в Центр. Ответ был мгновенным и однозначным. “Прервите все связи с партизанами. Разберите и спрячьте передатчик. Покиньте Мукден. Переезжайте в Пекин, создайте новый оперативный пункт”.
Миссия была окончена. Агентура, оборудование и столь кропотливо выстроенная за последние пятнадцать месяцев жизнь подлежали немедленному уничтожению.
Урсула разобрала передатчик и завернула детали в водонепроницаемые мешки. На следующее утро они с Йоханом сели на разные поезда, дважды делали пересадку, возвращались назад, путая след, и встретились на северной окраине Мукдена. Ни за одним из них слежки не было. Вырыв яму, Йохан спешно закопал разобранный передатчик. И они уселись на просеке под весенним солнцем.
– Здесь тихо, спокойно, можем поговорить, – мягко предложил Йохан. – У Шушинь и Вана счастливый брак?
– Очень счастливый.
Китайская пара могла привести следствие прямиком к Урсуле.
– Они часто бывали у тебя в доме в эти полгода, – сказал Йохан. – Тебе нужно скорее уехать. Возможно, кто-то уже поджидает тебя у порога.
Разумеется, он был прав. Но их одновременный отъезд в “неподобающей спешке” мог вызвать подозрения. Вероятно, в их распоряжении было всего несколько дней, пока Шушинь и Ван не проговорятся и японцы из Кэмпэйтай не нагрянут к Урсуле.
– Нам нужна легенда, – сказала Урсула. – Начало все знают: мы познакомились на корабле и полюбили друг друга. И я приехала сюда к тебе из Шанхая. Теперь нужно продолжение: мы расстаемся, потому что у тебя появилась другая.
Она впервые упомянула Людмилу, русскую соседку Йохана. Он комкал в руках свою кепку. Несколько минут он молчал, пробормотав затем:
– Она восхищалась мной и слушала меня так, словно я какой-то ученый.
Урсула уставилась в землю. Между узловатыми корнями деревьев из мха проклевывались крошечные золотистые цветы.
После долгой паузы она сказала:
– Мне не стоит этого говорить, но если я вернусь домой и застану кого-то у порога, я буду рада. По крайней мере, страдать будут не только другие.
Она зарыдала. Йохан погладил ее по голове.
На обратном пути к вокзалу Йохан остановился и обратился к ней:
– Помнишь, я говорил тебе на корабле, что мы всегда будем вместе? Я тогда говорил всерьез и сегодня знаю это наверняка. Несмотря ни на что, ты подарила мне гонг торговца фарфором. Как будто вся история с той девушкой была нужна лишь для того, чтобы показать мне, что в этом я больше не нуждаюсь, что мне нужна ты.
Урсула оцепенела.
В поезде они репетировали свою легенду. Она первая отправится в Пекин, об их расставании поползут слухи. Через несколько дней Йохан к ней присоединится.
– Напиши мне прощальную записку – как обычно пишут: что, мол, ты встретил другую, а мы никогда не понимали друг друга. А особенно тебе не давали покоя мои секреты, это будет намек, что ты ничего не знал о моей работе. Прибавь еще что-нибудь насчет непреодолимых расовых преград.
Для Йохана это был удар.
– Неужели я тебе совсем безразличен?
– Йохан, я ужасно устала.
Фон Шлевицу Урсула сказала, что любовник ее бросил и она уезжает из Мукдена. Жизнерадостный торговец оружием не задавал никаких вопросов. Если такова была ее версия, он будет ее придерживаться, когда появятся японцы, что неизбежно должно было вскоре произойти. Фон Шлевиц проводил их до поезда. Больше Урсула никогда его не встречала.
По пути на юго-запад она размышляла: “Месяцы упорной работы, и вдруг раз – и все обрывается. Столько еще осталось незаконченных дел”.
Урсула лежала в номере пекинской гостиницы, у нее ныла челюсть, голова гудела. После долгой дороги тупая зубная боль вдруг усилилась, и прямо с вокзала пришлось бежать к ближайшему зубному хирургу на срочную двухчасовую операцию по удалению нерва. Миша с интересом наблюдал, как врач работал щипцами. “Чтобы не внушить ребенку на всю жизнь ужас перед зубными врачами, я даже не пикнула”. После перенесенных мучений она думала о Шушинь. Отойдя от наркоза, она чувствовала ползущую с одной стороны лица, проникающую в висок пульсирующую боль, к которой примешивалось нахлынувшее чувство вины и дурноты. Несмотря на “переполнявшую” ее усталость и несколько таблеток снотворного, Урсула не могла заснуть. “Мы бросили наших партизан, – думала она. – Чу придет на следующую встречу, а меня не будет”. Быть может, Шушинь уже не было в живых. Урсула ненавидела Йохана за его интрижку с Людмилой, но отчаянно в нем нуждалась. “Мы были в разлуке всего несколько дней, а я уже тосковала по нему”. Без передатчика она чувствовала себя беззащитной, он стал неотъемлемой частью ее жизни, “как винтовка у солдата или печатная машинка у писателя”. Наконец таблетки подействовали, и она впала в забытье.
Урсула с Мишей встречали на вокзале в Пекине прибывающий из Мукдена поезд. Патра кружил мальчика, подхватив его на руки; крепко, с чувством поцеловал Урсулу. На следующий день он собрал новый передатчик. Первое сообщение из Москвы было неожиданным: “Спрячьте передатчик и возьмите отпуск на четыре недели”. Как правило, шпионы Красной армии не получали отпусков. На самом деле Центр пытался оценить ущерб, нанесенный мукденской агентуре. В тот вечер Урсула и Йохан ужинали жареной утиной кожей, супом из акульих плавников и зеленым чаем. “Мы устали, были близки и счастливы”.
Начался их странный медовый месяц. “Пекин – райское место”, – писала она родителям. Они постепенно приходили в себя, шаг за шагом стараясь “наслаждаться каждым часом тех редких дней, когда можно было забыть об опасности”. Зубная боль утихла, одолевавшая Урсулу еще перед отъездом из Мукдена слабость почти прошла. Сон восстановился. Они свозили Мишу на озеро у Летнего дворца, поднялись в горы, бродили по улочкам города и читали книги. Йохан был нежен и внимателен, русская куколка осталась в прошлом. “Мы не ругались, – писала она. – Йохан был счастлив, потому что мы жили вместе. В моих воспоминаниях тот август в Пекине озарен теплым светом”.
Спустя четыре недели они снова собрали передатчик. Йохан спал, когда из Москвы поступило сообщение, категорический приказ, от которого у Урсулы сжалось сердце: “Соня, уезжайте с вещами в Шанхай. Эрнст, оставайтесь на месте и ждите нового коллегу”. Из Шанхая, сообщалось в приказе, она должна была отправиться в Москву за дальнейшими указаниями, а затем – встретиться с семьей в Европе. После пяти лет в Муниципальном совете Шанхая Руди и его семье полагался отпуск домой. Урсула знала, что в Китай она больше не вернется: ее миссия завершилась.
Присев на кровать, Урсула смотрела на спящего Йохана. “Изборожденный морщинами лоб, высокие скулы, тонкий нос, беспокойный нервный рот, руки. Слезы полились из моих глаз”. Она рыдала из-за него уже в третий раз. Впервые – в кинотеатре в Праге, потом – в лесу на окраине Мукдена и вот теперь – в Пекине, когда он спал, а она безмолвно с ним прощалась.
– Это означает, что мы расстаемся навсегда, – сказал он утром, когда она доложила ему о приказах Москвы.
Немного погодя он воспрял духом.
– Наше начальство не звери, нам позволят остаться вместе. Как только я выберусь отсюда, мы поженимся.
Урсула ничего не ответила.
Йохан проводил их на вокзал, погрузил чемоданы, обнял Мишу и как-то неуклюже стоял на платформе у окна их купе. – Я снова напишу тебе, как уеду из Китая, – сказал он. – Обязательно.
Двери закрылись, послышался гудок поезда. Йохан не махал им на прощание. Затем он развернулся и ушел прочь.