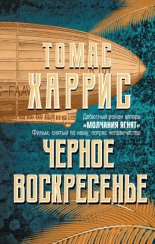Бессмертники Бенджамин Хлоя

— Я никогда не понимала, что вас привлекало в Саймоне, — продолжает Варя. — По словам Клары, вы были человек зрелый, состоявшийся, а Саймон — сущий ребёнок, вдобавок самовлюблённый. Не подумайте плохого — я души в нём не чаяла. Но встречаться с таким, как он, не стала бы ни за что.
— В целом верно. — Роберт широко улыбается. — Что меня в нём притягивало? Бесстрашие. Он мечтал уехать в Сан-Франциско — и уехал. Захотел стать танцором — и стал. Наверняка и ему был знаком страх, но действовал он бесстрашно. Этому я у него научился. Чтобы открыть свой театр, мы с Билли взяли ссуду, не зная, сможем ли когда-нибудь рассчитаться. Первые три года вкалывали как проклятые. А потом дали представление в Нью-Йорке, о нас написали в «Таймс». Когда вернулись в Чикаго, наша работа стала приносить прибыль. Теперь мы в состоянии оплачивать нашим танцорам медицинскую страховку. — Роберт ест круассан, осыпая кожаную куртку маслянистыми хлопьями. — Уходить на покой я пока не собираюсь. До сих пор страшно так далеко загадывать. Но это не беда, работу свою я люблю. Не хочу бросать.
— Завидую вам! Я ушла с работы. Чувствую себя потерянной — никогда со мной такого не было.
— Прекращайте. — Роберт шутя грозит ей круассаном. — Берите пример с Саймона. Будьте бесстрашны!
Варя старается, хотя то, что смелый поступок для нее, — пустяк для любого другого. Теперь она свободно облокачивается на спинки стульев и ходит на прогулки по городу. Десять лет назад, когда переехала в Калифорнию, она оказалась в Кастро впервые после рождения Руби и пыталась вообразить там Саймона, но вспоминалось лишь, как он от неё удирал по дороге в синагогу. Сейчас Варя представляет его опять и на этот раз видит новым, незнакомым. По дороге от ресторана «Клифф-Хаус» к старому военному госпиталю и парку «Маунтин-Лейк» Варя мысленно видит Саймона на руинах общественного бассейна Сатро, где когда-то могли купаться десять тысяч человек. Неизвестно, гулял ли Саймон среди здешних утёсов, ведь от Кастро до Ричмонда автобусом минут сорок пять, а то и дольше. А впрочем, неважно. Он здесь, среди кустов сирени, его волосы треплет морской ветерок; он показывает дорогу, и Варя идёт следом.
Дома её ждёт письмо от Майры.
Дорогая Ви!
Одиннадцатое декабря тебя устроит? Оказалось, четвёртого Эли занят, а Джонатану приспичило вытащить всех среди зимы во Флориду, вот сумасшедший! (Думаю, всё будет хорошо. Главное для меня — решиться всем объявить, что я и вправду выхожу замуж в Майами.) Напиши мне.
С любовью,
М.
Джонатан преподаёт в университете в Нью-Полце. За четыре года до гибели Дэниэла умерла от рака поджелудочной железы его жена. Майра всегда считала, что он не в её вкусе. Когда Майра овдовела, он стал приносить ей обеды — «говяжья грудинка, только покупная; моя жена делала домашнюю», — сидел с ней рядом перед лекциями, когда её стали одолевать приступы паники. Через два года она поняла, что любит его.
— Это было постепенно, буквально со скоростью ледника, — призналась Майра Варе в скайпе во время очередного воскресного разговора. — Волей-неволей пришлось отступить.
Майра поставила на кофейный столик тарелку, поджала под себя ноги. По-прежнему миниатюрная, она стала более спортивной, поскольку, оставшись одна, пристрастилась к велопрогулкам — ездила из Нью-Полца на Медвежью гору, а мимо проносились леса, сливаясь в блёклое пятно, под стать её душевному состоянию.
— В каком смысле отступить? — спросила Варя.
— Я и сама задавала себе этот вопрос и поняла, что держит меня не боль и не вера. Я должна была отступиться от Дэниэла.
Полгода назад Джонатан сделал ей предложение. У него есть одиннадцатилетний сын Эли, Майра старается найти с ним общий язык. Варя будет подружкой невесты.
«Чего вы хотите?» — спросил её Люк, и честный ответ звучал бы так: вернуться в прошлое. Себе тринадцатилетней она велела бы не ходить к гадалке. Двадцатипятилетней — разыскать Саймона, простить его. Присматривать за Кларой, зарегистрироваться на еврейском сайте знакомств, не дать акушерке забрать ребёнка. Сказала бы себе, что умрёт, умрёт, все они умрут. Велела бы себе запомнить аромат Клариных волос, тепло объятий Дэниэла, пальцы Саймона, короткие и толстые. Боже, какие были у них руки — быстрые, как колибри, у Клары, изящные, беспокойные у Дэниэла. Она сказала бы себе, что на самом деле жаждет не бессмертия, а избавления от тревоги.
«А вдруг я изменюсь?» — спросила она много лет назад у гадалки в надежде, что ответ поможет ей избежать горя и неудач. «Обычно люди не меняются», — ответила ей та.
Семь вечера, небо неоновое, сияющее. Варя устраивается поудобнее в кресле. Возможно, в колледже она выбрала естественные науки за их логичность — слишком далеко отстояли они от гадалки с Эстер-стрит и её пророчеств. И всё-таки была в её вере в науку и доля бунтарства. Варя боялась, что будущее предопределено, и в то же время надеялась, всей душой надеялась, что еще не поздно ждать сюрпризов от жизни, а заодно и от себя самой. Хотела верить, как Клара, что мир шире наших представлений о нём.
Теперь она вспоминает, что сказала ей Майра после похорон Дэниэла. Они присели под деревом; сыпал мелкий снежок, и все понемногу расходились по машинам. «Мы с Кларой не были знакомы, — сказала Майра, — но я почти понимаю её, самоубийство — вполне логичный поступок. Продолжать жить — вот что нелогично, день за днём куда-то двигаться, будто бы так и надо».
Но Майра выжила. Сделала невозможное. Если кто-то выжил, справился с горем, это всегда кажется невозможным, представляется чудом. Варя думает о своих коллегах — корпят над пробирками и микроскопами, пытаясь воссоздать процессы, уже существующие в природе. Turritopsis dohrnii, медуза величиной с бусинку, умеет в случае угрозы превращаться из взрослой особи в незрелую и обратно. Лягушки зимой промерзают до твёрдого состояния — сердце не бьётся, кровь застывает, — а весной оттаивают и снова скачут. Периодические цикады живут выводками под землёй, питаясь соками корней деревьев. Можно подумать, они мертвы, и, пожалуй, это отчасти правда — неподвижные, молчаливые, затаились под землёй, на полуметровой глубине. И однажды ночью, спустя семнадцать лет, весь выводок выходит на поверхность. Они залезают на соседние растения, с тихим шорохом опускаются на землю их сброшенные шкурки. Тельца их полупрозрачны и мягки. В темноте они поют.
36
В начале июля Варя едет в «Добрые руки» — раз в неделю она навещает мать. Герти так и сияет: Руби приехала. Для Вари загадка, зачем девушке-студентке каждое лето по собственному почину проводить две недели в доме престарелых, но Руби предложила это ещё первокурсницей и с тех пор ни разу не отступила от своего плана. «Добрые руки» в восьми часах езды от Калифорнийского университета, где Руби осталось учиться год. Каждый раз она налетает пёстрым вихрем — солнечные очки, браслеты, сарафаны, туфли на платформе — и грозного вида белый «рейндж ровер» в придачу. Руби играет с вдовушками в маджонг, читает Герти вслух книги, которые изучает на литературных курсах, а вечером накануне отъезда даёт волшебное представление в столовой. Желающих посмотреть так много, что стульев на всех не хватает, приходится нести из библиотеки. Старушки смотрят затаив дыхание, как дети, а потом выстраиваются в длинную очередь, спеша рассказать, как встречались с братом Гудини или видели, как женщина скользила над Таймс-сквер по верёвке, держась за неё зубами.
— И что же ты собираешься теперь делать? — спрашивает Герти у Вари. — Ты ведь на работу уже не вернёшься?
Герти сидит в кресле с банкой маринованных огурцов на коленях. Руби, лёжа на бабушкиной кровати, играет в телефонную игру под названием «Кровавая Мэри». Дойдя до пятого уровня, она передаёт телефон Варе — та всегда с наслаждением давит шустрый, прыткий помидор, который преграждает путь к сельдерею.
— На работу-то я вернусь, — поправляет Варя, — только уже не в Институт Дрейка.
Матери она сказала, что допустила серьёзную ошибку, нарушив ход эксперимента. Скоро — наверное, когда уедет Руби — она расскажет и о Фриде, и, главное, о Люке. Их с Люком узы были поначалу так хрупки, что Варя боялась сглазить, теперь они хоть немного окрепли, и всё-таки страшно потерять его так же внезапно, как обрела. Они начали переписываться, присылать друг другу открытки, фотографии и прочие мелочи. В мае Люк прислал фотографию, где он со своей новой подружкой, Юко. Юко ему по плечо, с косой чёлкой, кончики волос выкрашены в розовый цвет. На фото она делает вид, будто поднимает Люка, — тот закинул ногу ей на плечо, и оба жмурятся от смеха. Ещё через месяц Люк признаётся, что Юко и есть та его соседка по квартире, что представилась редактором из «Кроникл». «Тогда мы ещё не были влюблены», — спешит он добавить, но сначала он держал это в секрете, боясь, что Варя ее возненавидит.
Варя вспыхнула от радости: во-первых, Люк счастлив, а во-вторых, ему небезразлично её мнение. На этой неделе она проезжала мимо фермерского киоска с рекламой домашних фруктовых консервов и, свернув на обочину, засмотрелась на банки с ягодами, сверкающими при полуденном солнце, как драгоценные камни. Отыскав вишни, купила две банки, себе и Люку. Через десять дней от него пришёл ответ:
Не исключительные, но весьма качественные, плотные; миндальный привкус очень к месту — подчёркивает мускусную нотку, обогащает букет.
Варя улыбнулась, перечитала открытку дважды. «Не исключительные, но весьма качественные». Что ж, не так уж и плохо, подумала она и отправилась в чулан за второй банкой — она её не открывала, дожидаясь ответа Люка.
— И куда же ты пойдёшь? — спрашивает, потупившись, Герти. — Не станешь же, как я, целыми днями дома сидеть, огурцы грызть.
И Варя слышит голоса сестры и братьев. «Тоже мне повод для беспокойства!» — сказала бы Клара. А Дэниэл: «Представьте — Варя дома сидит, огурцы ест! Ну уж это на неё не похоже». В последнее время они ей чудятся всюду. Вот подросток выходит на вечернюю пробежку во двор — точно так же бегал и Саймон вокруг их дома на Клинтон-стрит прохладными летними вечерами. Барменша за стойкой улыбается Клариной улыбкой — лукавой, искристой. Варя мысленно советуется с Дэниэлом. Он всегда был ей близок — ипо возрасту, и по устремлениям, и для семьи опора. На него всегда можно было положиться: он и о Герти заботился, и Саймона пытался вернуть домой.
Год за годом Варя душила в себе воспоминания. Но сейчас, когда она воскрешает их в столь яркой, чувственной форме, словно перед ней живые люди, а не призраки, — происходит чудо. Свет внутри неё — огоньки в домах, погасшие много лет назад, — вспыхивает вновь. — Может, буду преподавать, — отвечает Варя.
В аспирантуре она вела занятия у студентов, и за это её освободили от платы за обучение. Она и не думала, что на такое способна, — перед первым занятием её стошнило в раковину в женском туалете, даже до унитаза не добежала, — но вскоре занятия стали для неё источником силы: все эти лица, обращённые к ней в ожидании и надежде. Разумеется, не все были обращены к ней, попадались и спящие, но их-то в глубине души она и любила больше всех, хотела расшевелить во что бы то ни стало.
Вечером накануне отъезда Руби Варя приходит на представление. Пока Руби готовит к выступлению столовую, Варя и Герти ужинают в Гертиной комнате. Варя думает о своей семье — что сказали бы братья, сестра, Шауль, увидев Руби на сцене, — и в странном, неверном закатном свете она вдруг заводит разговор, который никогда и не думала начинать. О гадалке с Эстер-стрит. Описывает тот июльский день, жару, накрывшую город плотным одеялом, рассказывает, как ей было страшно подниматься по лестнице, как они по одному заходили к гадалке. Передаёт их разговор в последнюю ночь траура по Шаулю — потом оказалось, что тогда они, все четверо, в последний раз были вместе.
Герти слушает, не поднимая глаз. Глядя в стаканчик с йогуртом, она орудует ложкой так сосредоточенно, что Варя думает: а вдруг сегодня плохой день и Герти отключилась? Выслушав Варю, Герти вытирает салфеткой ложку и кладёт на поднос, осторожно прикрывает стаканчик крышкой из фольги.
— Как вы могли поверить в эту чушь? — спрашивает она вполголоса.
Варя беззвучно открывает рот. Герти ставит стаканчик на поднос рядом с ложкой и смотрит на Варю негодующе, по-совиному округлив глаза.
— Мы же были детьми, — оправдывается Варя. — Она нас запугала. И, как бы то ни было, я считаю, что это не…
— Чушь! — решительно заявляет Герти, устраиваясь поудобнее в кресле. — К цыганке ходили? Только дурачки им верят!
— Ты и сама веришь во всякие глупости. Плюёшь через плечо, если встретишь похороны. Когда умер папа, ты хотела сделать эту штуку, когда вертят в воздухе живую курицу и читают…
— Это религиозный обряд.
— А плевки?
— А что тут такого?
— Чем ты их объяснишь?
— Невежеством. А ты чем оправдаешься? Нет у тебя оправданий, — заявляет Герти, не дождавшись ответа от Вари. — И это после всего, что я тебе дала, — и образование, и возможности! Современным человеком тебя растила! А ты вся в меня — почему же?
Герти было девять лет, когда фашисты захватили Венгрию. Её бабушку, дедушку и трёх сестёр её матери из Хайду отправили в Освенцим. Если веру Шауля Катастрофа упрочила, то веру Герти лишь подорвала. К шести годам она успела потерять обоих родителей. Удача, а не Бог, думала Герти, скорее правит миром, зло, а не добро. И стучала по дереву, скрещивала пальцы на счастье, кидала монетки в фонтаны, бросала рис на свадьбах. Молитва была для неё сделкой.
Теперь Варя понимает, что Герти подарила детям. Свободу неизвестности. Свободу выбирать судьбу. Шауль с этим согласился бы. Ему, единственному сыну эмигрантов, выбирать было почти не из чего. Смотреть в будущее или оглядываться назад казалось неблагодарностью, это значило бы искушать судьбу — когда перестаёшь ценить настоящее, рискуешь лишиться всего. Но Варе и остальным была дана и возможность выбора, и роскошь самоанализа. Они стремились повелевать временем, распоряжаться им. Но в погоне за будущим добились только того, что начали сбываться предсказания гадалки.
— Прости меня, — просит Варя со слезами на глазах.
— Не за что извиняться. — Герти ласково похлопывает Варю по руке. — Будь другой. — Но через миг она вдруг стискивает Варину руку пониже локтя и не отпускает, как Бруна Костелло в 1969-м. На сей раз Варя не отстраняется. Некоторое время они сидят молча. Вдруг Герти вздрагивает. — Так что она тебе сказала? — спрашивает она. — Когда ты умрёшь?
— В восемьдесят восемь. — Это так далеко, что кажется почти непозволительной роскошью.
— Так чем же ты недовольна?
Варя прикусывает щёку, сдерживая улыбку.
— Ты же сказала, что не веришь!
— Не верю, — фыркает Герти. — Но если б верила, то не жаловалась бы. По мне, так в восемьдесят восемь и умереть не страшно.
В половине восьмого они идут в столовую на представление. Небольшой помост служит сценой, две лампы по обеим его сторонам — прожекторами. Вместо занавеса одна из нянечек принесла красные простыни и водрузила на вешалку. Герти и её подруги принарядились, в столовой тесно. Зрители в зале связаны ожиданием, невидимым, как тёмная материя; оно сближает всех, подталкивает к сцене, навстречу Руби.
Открывается занавес — и вот она.
Благодаря Руби сцена преображается. Простыня становится настоящим занавесом, лампы — прожекторами. Клара могла заговорить кого угодно, строчила как из пулемёта, а Руби — прирождённый комик и каждого из зрителей умеет вовлечь в происходящее на сцене. И кое-что ещё отличает её от матери. Руби улыбчива, и речь её льётся плавно, без запинок. Случайно уронив мяч, она обращает всё в шутку, в смешную пантомиму. Непринуждённость. Руби увереннее в себе, в своём даре, чем была Клара.
«Ах, Клара! — думает Варя. — Видела бы ты свою дочь!» Весь вечер Герти не может наглядеться на внучку, будто смотрит любимый фильм и не хочет, чтобы он кончался. Когда последние зрители покидают зал, уже почти одиннадцать. Герти согласилась сесть в ненавистное кресло-каталку, но едет в нём, надувшись как индюк. Варя знает, время не остановить, как не отвести беду, постучав по дереву или сплюнув через плечо. И всё равно ей хочется крикнуть: «Не покидай меня!»
Руби ввозит Герти на каталке в комнату. Скоро она станет творить другие чудеса: зашивать раны, делать пункцию спинного мозга, принимать роды. А сегодня она и зал были единым целым, точно протянулись между ними невидимые нити, и Руби не хотелось, чтобы связь эта прервалась. Когда она стояла на сцене, глядя на зрителей и чувствуя единение со всеми, ей вспомнились малыши из детского сада, что гуляют иногда под окнами её квартиры в Лос-Анджелесе. Чтобы никто не отбился от группы, они шагают гуськом, держась за верёвочку. Вот и сегодня было так же, думает Руби. Один за другим хватались они за верёвочку держались.
«Не понимаю, зачем тебе быть врачом, зачем уходить со сцены, — до сих пор недоумевает отец. — Ты же столько радости приносишь людям!» Но Руби знает: продлить людям жизнь можно не только волшебством. В детстве Радж рассказал ей, какие слова произносила Клара перед каждым выходом. С тех пор те же слова произносит и Руби. Сегодня она стояла по ту сторону занавеса, сложив ладони в замок. Слышно было, как скрипят стулья, как шепчутся зрители, шуршат самодельными программками.
— Я всех вас люблю, — прошептала Руби. — Всех вас люблю, люблю, люблю.
И, раздвинув занавес, шагнула на сцену.
Благодарности
Я от души благодарна многим людям, которые помогли мне в работе над романом.
Эта книга не появилась бы на свет без двух удивительных женщин, без их веры, труда и содействия. Маргарет Райли Кинг, мой агент, родная душа и просто рок-звезда, спасибо за вашу поддержку, преданность и сеансы психотерапии два раза в месяц. Каждый раз всё начинается с вас. Салли Ким, мой редактор, спасибо за ваш блестящий ум, страсть и кристальную честность. Работать с вами для меня величайшая честь и одна из самых больших радостей в жизни.
Лучшей издательской команды невозможно вообразить. Мне посчастливилось работать с Трейси Фишер, Эрин Конрой, Эрикой Нивен, Хейли Хайдеман и Челси Дрейк в WME, с Айваном Хелдом, Даниэль Спрингер, Кристин Болл, Алексисом Уэлби, Эшли Макклей, Эмили Ойлис и Кэти Макки в Putnam и со всей командой издательства Penguin. Спасибо и вам, Гейл Берман, Дани Горин, Джо Эрли и Рори Кослоу из Jackal, за вашу работу на телевидении.
Я в долгу перед многими писателями, кинематографистами, учёными и другими специалистами, чей труд сыграл ключевую роль в моих исследованиях. Среди основных источников: «Тонкое искусство в разных мирах: игра и работа на публику в гадании рома» (Рут Элейн Андерсен); документальный фильм Дэвида Вайсмана «Я здесь был»; «Спрятать слона: как фокусники изобрели невозможное и научились исчезать» (Джим Штайнмайер), а также биография Тины Клайн, цирковой артистки-новатора, которая изобрела «Хватку жизни» и стала прототипом Клары-старшей («Королева и фея цирка: воспоминания о Тине Клайн», Джанет М. Дэвид). Лейтенант Скотт Грегори консультировал меня по вопросам, связанным с военной службой Дэниэла; Дебора Роббинс и Боб Ингерсолл любезно поделились своим опытом работы с приматами. Институт геронтологии Бака в Новато, штат Калифорния, послужил прообразом Института Дрейка, но, кроме внешнего облика здания и общей тематики работы, Институт Дрейка полностью вымышлен. И наконец, я не смогла бы написать главы, посвящённые Варе, если бы не специалисты по вопросам долголетия, согласившиеся со мной побеседовать, в том числе доктора Рики Колман, Стефано Пираино и Дэниэл Мартинес, а также сотрудники Национального центра приматологии в Висконсине. Всё это стало основой для Вариного исследования, но само оно тоже вымышлено, как и Институт Дрейка, и не отражает никакую из существующих работ.
Бесконечная любовь и благодарность моим родным и друзьям — моим первым читателям и помощникам. Родители — самые мои верные и горячие сторонники; для меня счастье быть вашей дочерью, спасибо за всё. Ли Круг, моя бабушка и путеводная звезда, стала первой читательницей романа. Спасибо моим талантливейшим друзьям: Александре Гольдштейн — за редакторский дар и за дружбу длиною в жизнь; Ребекке Данэм — за интеллектуальные беседы; Бриттани Кавальяро — за горячую поддержку; Пияли Бхаггачарья — за мудрое сердце; Эндрю Кею и Александре Демет — за братскую и сестринскую любовь. Мардж Уоррен и Боб Бенджамин помогли мне многое узнать о Нью-Йорке середины двадцатого века и о жизни эмигрантов. Джуди Митчел, вы навсегда мой дорогой друг и наставница.
Джордан и Габриэль, мои братья, эта книга и для вас тоже.
И наконец, господи, что мне сказать о Натане? Нелегко быть мужем писательницы. Со стороны может показаться, что тебе это даётся без усилий, но я-то знаю, сколько за этим стоит головоломных вопросов, редакторской работы, дружеской теплоты и поддержки. У тебя самое преданное сердце, самый быстрый ум и широкий всеохватный взгляд, который помогает мне вовремя спуститься с небес на землю. Навсегда спасибо.