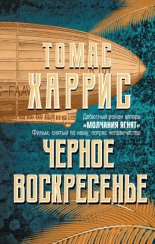Бессмертники Бенджамин Хлоя

Варя стоит неподвижно возле кровати Герти.
— Я сюда прихожу повидать тебя. И никто мне больше не нужен. И я тебе уже говорила, ма, я никогда так рано не ужинаю. Не раньше…
— …половины восьмого. Знаю.
Выражение лица у Герти упрямое и в то же время страдальческое. Она знает Варю лучше, чем кто бы то ни было, знает самую страшную Варину тайну и, возможно, догадывается о многих других, и в последнее время Варины визиты заканчиваются стычками: Герти пытается пробить Варину броню, а Варя возвращает на место осколки.
— Я тебе кое-что привезла, — говорит Варя.
И, подойдя к квадратному столику возле окна, достаёт из бурого бумажного пакета подарки: томик стихов Элизабет Бишоп с библиотечной распродажи, банку корнишонов «Милуоки» в память о Шауле и букет сирени — Варя несёт его в тесную ванную, подрезает ветки над мусорным ведром, наливает воды в высокий стакан и, сунув туда букет, водружает на столик у окна.
— Хватит шмыгать туда-сюда, — бурчит Герти.
— Я тебе цветы принесла.
— Так постой, полюбуйся.
Варя смотрит на цветы: стакан маловат, одна гроздь печально поникла. Долго они не протянут.
— Красота какая! — говорит Герти. — Спасибо!
И когда Варя окидывает взглядом комнату — безликий пластмассовый стол, подоконник, затянутый слоем пыли, словно войлоком, казённую кровать, покрытую линялой шалью, что связала ещё мать Шауля, — ей становятся понятны чувства Герти. Цветы на этом фоне выделяются ярким пятном, как неоновые огни.
Варя отодвигает металлический складной стул от карточного столика у окна и подталкивает поближе к кровати. Возле кровати стоит кресло, но обивка драная и в пятнах — неизвестно, кто в нём сидел.
Герти разворачивает масло, режет пластмассовым ножом.
— А фотографию ты мне принесла?
Да, принесла, но, как всегда, надеялась, что Герти забудет спросить. Десять лет назад Варя поступила опрометчиво — сфотографировала Фриду на новенький мобильник. Фрида тогда только что выдержала трёхдневное путешествие — её привезли из питомника в Джорджии. Двухнедельный детёныш — розовая морщинистая мордочка, втянутые щёки; пальцы она всё время держала во рту. Герти в тот год ещё жила одна, и Варя выслала ей снимок по электронной почте, чтобы хоть как-то скрасить её одиночество. И тут же осознала свою ошибку. В Институт Дрейка она устроилась месяц назад и, когда её брали на работу, подписала строгий договор о неразглашении. Но Герти приняла фото так восторженно, что Варя не удержалась и выслала новое: Фрида в одеяльце цвета морской волны, сосёт из бутылочки молоко.
Почему она не остановилась? По двум причинам: во-первых, фотографии были для неё способом рассказать о своей работе Герти, которая никогда до конца её не понимала, — раньше Варя занималась дрожжевыми грибками и дрозофилами, созданиями столь мелкими и непримечательными, что у Герти не укладывалось в голове, какая польза людям от Вариных открытий; а во-вторых, снимки приносили Герти радость. Она, Варя, приносила Герти радость.
— У меня есть кое-что получше! — отвечает Варя. — Видео!
Лицо Герти выражает пылкое нетерпение. Искорёженные артритом пальцы тянутся к мобильнику, будто Варя принесла ей весточку о внуке. Варя, придерживая телефон, запускает видеоролик. На экране Фрида прихорашивается, глядя в зеркало по ту сторону решётки. Зеркала — один из способов обогащения среды, как кормушки с секретом или классическая музыка, что играет в виварии каждый день. Просунув пальцы сквозь прутья, обезьяны могут поворачивать зеркала, направлять то на себя, то на соседние клетки.
— Ой! — Герти подносит экран поближе к глазам. — Ну ты посмотри!
Ролик был снят два года назад. У Вари вошло в привычку, приходя к Герти, удалять старые файлы, потому что Фриду в последнее время не узнать. Варя улыбается, вспомнив Фриду в недавнем прошлом, но на лицо Герти вдруг набегает тень. После инсульта прошло три года, и чем дальше, тем чаще такое повторяется. Варя знает, что будет, прежде чем Герти снова придёт в себя. Пустой взгляд, отвисшая челюсть, спутанные мысли…
Герти, оторвав взгляд от экрана, смотрит на Варю с укором:
— Но зачем вы её держите в клетке?
— Есть две основные теории о том, как можно замедлить старение, — объясняет Варя. — Первый способ — подавить репродуктивную систему.
— Репродуктивную систему, — повторяет Люк, склонившись над маленьким чёрным блокнотом, который принёс сегодня в придачу к диктофону.
Варя кивает. Утром они с Люком встретились в павильоне, и вот она ведёт его по узкой тропке в корпус приматологов.
— Биолог Томас Кирквуд предположил, что мы жертвуем собой, чтобы передать наши гены потомству, и органы, не участвующие в размножении — скажем, мозг или сердце, — берут удар на себя, чтобы защитить репродуктивные органы. Это подтверждено экспериментами: у червей всего две клетки, из которых формируется половая система, и если эти клетки разрушить лазером, продолжительность жизни червей возрастает на шестьдесят процентов.
После недолгого молчания Варя слышит за спиной голос Люка:
— А второй способ?
— Второй способ — сократить потребление калорий. — Костяшкой указательного пальца Варя вбивает новый код — Энни его сменила накануне вечером. — Этим я и занимаюсь.
Вспыхивает зелёный огонёк, и после гудка Варя открывает дверь. Кивнув Клайду и бегло взглянув на мармозеток — те вдевятером залезли в один гамак, и различить их можно лишь по крохотным металлическим меткам, — она направляется к лифту и локтем нажимает на кнопку второго этажа.
— А подробнее? — интересуется Люк.
— Мы полагаем, что это связано с геном DAF-16 — он участвует в молекулярном сигнальном механизме, который запускают рецепторы инсулина. — Двери открываются, из лифта выходит лаборантка в голубом рабочем костюме; Варя и Люк занимают её место. — К примеру, если заблокировать этот механизм у нематоды С. elegans, продолжительность её жизни возрастёт более чем вдвое.
Люк смотрит на Варю:
— А теперь, пожалуйста, переведите.
Варе нечасто приходится обсуждать свою работу с неспециалистами. Тем более стоит согласиться на интервью, убеждала её Энни, рассказать об исследованиях широкой аудитории «Кроникл».
— Вот вам пример, — продолжает Варя, когда открываются двери лифта. — На острове Окинава самая высокая в мире продолжительность жизни. В аспирантуре я изучала диету жителей Окинавы, и выяснилось, что их пища богата питательными веществами, но при этом крайне бедна калориями. — Варя сворачивает налево, в длинный коридор. — Пища для нас — источник энергии. Но вместе с энергией выделяются и вредные вещества, они заставляют клетки работать на износ. И вот что интересно: строгая диета, как у жителей Окинавы, — сама по себе повышенная нагрузка. Но именно это в итоге и продлевает жизнь: постоянные умеренные нагрузки тренируют организм.
— Звучит не очень-то приятно. — На Люке походные штаны и спортивная куртка на молнии с капюшоном. Солнечные очки на макушке, запутались в кудрях.
Варя, повернув в замке ключ, поддаёт дверь коленом.
— Гедонисты долго не живут.
— Пусть недолго, зато весело. — Люк следом за Варей заходит в кабинет. Свой угол Варя держит в безупречном порядке, а у Энни стол завален обёртками от батончиков, бутылками с водой и покосившимися стопками научных журналов. — Послушать вас, так мы стоим перед выбором: жить или выживать.
Варя протягивает ему ворох лабораторной одежды:
— Защитная экипировка.
Взяв одежду, Люк ставит на пол рюкзак. Брюки ему коротковаты; ноги длинные, худые, и Варя вдруг видит перед собой ноги Дэниэла, лицо Дэниэла. Пошатнувшись, она отворачивается. За все годы после смерти брата ничего подобного с ней не случалось — до недавнего времени. Однажды в понедельник, четыре месяца назад, у неё сломалась кофеварка и пришлось идти в «Кофе Пита», занимать место в конце длинной очереди. Музыка играла скверная — попурри из джазовых рождественских мелодий, и это в канун Дня благодарения, — и среди толпы, густого запаха кофе и визга кофемолки Варя чуть не задохнулась. Когда до неё дошла наконец очередь, она видела, как шевелятся у кассирши губы, но слов не разбирала. Так и смотрела, будто в телескоп, на губы кассирши, пока та не произнесла, уже громче: «Мадам, вам плохо?» — и телескоп ударился об пол и разбился вдребезги.
Когда Варя оборачивается, Люк уже в костюме, смотрит на неё:
— И давно вы здесь работаете?
Варя ожидала другого вопроса: «Вам плохо?» — и теперь благодарна Люку.
— Десять лет.
— А до этого?
Варя, нагнувшись, надевает бахилы.
— Вся эта информация наверняка у вас есть.
— Вы закончили колледж Вассара в 1978-м, с дипломом бакалавра естественных наук. В 1983-м поступили в аспирантуру Нью-Йоркского университета, закончили в 1988-м. Остались на кафедре, два года проработали ассистентом, потом заключили контракт с Колумбийским университетом. В 1993-м опубликовали работу о дрожжевых грибках — «Увеличение максимальной продолжительности жизни в мутантных штаммах дрожжей: замедление накопления возрастных мутаций у организмов с геном Sir2, активированным ограничением питания», если не ошибаюсь, — настолько передовую, что о ней написали в нескольких научно-популярных журналах, а затем в «Таймс».
Варя застывает от удивления. Все эти сведения есть на сайте Института Дрейка, но Варя, недооценив Люка, не ожидала, что он их запомнит.
— Я хотел убедиться, что ничего не перепутал, — добавляет Люк. Маска заглушает его голос, но глаза за щитком смотрят робко, сконфуженно.
— Всё верно.
— Так почему вы вдруг переключились на приматов? — Люк распахивает перед ней дверь, Варя выходит и запирает её снаружи.
Она привыкла к организмам крохотным, различимым лишь в микроскоп — лабораторным дрожжевым грибкам, которых присылали в герметичных упаковках из Северной Каролины; дрозофилам с миниатюрными крылышками, непригодными для полёта. Варе было сорок четыре, когда директор Института Дрейка — строгая пожилая дама, предупредившая Варю, что такая возможность выпадает раз в жизни, — пригласила её провести эксперимент с ограничением питания у обезьян. Положив трубку, Варя истерически расхохоталась. Для неё даже простой визит к врачу — тяжкое испытание, а проводить целые дни бок о бок с макаками-резусами, рискуя подхватить туберкулёз, вирус Эбола или вирус простого герпеса, — это же немыслимо!
Вдобавок она была растеряна. Ей даже с мышами не приходилось работать, не говоря уж о приматах, но это, утверждала директор, не препятствие: Институт Дрейка не ставит цели пропагандировать низкокалорийную диету («Вы подумайте, какой бы это имело успех!» — сказала та едко), а хочет создать лекарство со схожим эффектом. Им нужен учёный-генетик, способный анализировать результаты на молекулярном уровне. И она поспешила заверить Варю, что с животными ей почти не придётся иметь дела, на это есть лаборанты и ветеринар. Большую часть времени Варя будет проводить на встречах, совещаниях или за рабочим столом: читать и рецензировать статьи, писать заявки на гранты, обрабатывать данные, готовить презентации. На самом деле она, если не хочет, к животным может и вовсе не подходить.
Варя ведёт Люка к тяжёлой стальной двери.
— С макаками-резусами у нас девяносто три процента общих генов. Иметь дело с дрожжами мне было спокойней. Но я поняла, что моя работа с дрожжами никогда не будет так полезна людям — так важна с точки зрения биологии, — как работа с приматами.
Варя не говорит Люку, что в Институт Дрейка её пригласили в 2000-м, спустя почти десять лет после гибели Клары и восемнадцать после смерти Саймона. «Подумайте», — сказала ей директор, и Варя обещала подумать, а про себя прикидывала, сколько полагается ждать, прежде чем вежливо отказать. Но, вернувшись в Колумбийский университет, в свою лабораторию, где она недавно начала новый эксперимент на дрожжах, Варя ощутила не радость, не гордость, а бессилие. В годы её учёбы в аспирантуре её исследования были новаторскими, а сейчас любой молодой учёный знает, как продлить жизнь мухи или червя. Что она сможет сказать о себе через пять лет? Муж у неё вряд ли появится, детей уж точно не будет, зато, если повезёт, она совершит большое открытие. Её вклад в мир будет иного сорта.
Была у неё и другая причина согласиться на эту работу. Варя всегда убеждала себя, что занимается наукой из любви — к жизни, к знанию, к сестре и братьям, не дожившим до старости, — но в глубине души опасалась, что движет ею не любовь, а страх. Страх, что она не властна над своей жизнью, что жизнь утекает сквозь пальцы, что бы ты ни делал. Саймон, Клара и Дэниэл хотя бы успели пожить полной жизнью, а она, Варя, живёт одной лишь наукой, книгами, своими мыслями. Работа в Институте Дрейка — её последний шанс. Если она решится на этот шаг, то какие бы ей ни грозили несчастья, есть надежда избавиться от чувства вины за то, что она единственная осталась в живых.
— Вот вам перчатки, — говорит она, остановившись у входа в виварий, — две пары. Не снимайте ни в коем случае.
Люк протягивает руки. Фотоаппарат болтается у него на шее, блокнот и диктофон остались в кабинете. Варя открывает обитую резиной дверь вивария номер один, тоже с кодом, который Энни меняет раз в месяц, и ведёт Люка навстречу дневному гаму.
Виварий в переводе с латыни означает «место для жизни». В науке это помещение, где содержатся животные в условиях, близких к естественной среде. Естественная среда для макак-резусов — какая она? Среди приматов резусы по широте ареала уступают лишь человеку — кочевники, путешествующие по земле и воде, они способны жить и на тысячеметровой горе, и в тропическом лесу, и на мангровом болоте. От Пуэрто-Рико до Афганистана макаки-резусы благоденствуют — селятся по берегам каналов, в заброшенных храмах и бывших вокзалах. Питаются насекомыми и листьями, а также пищей, добытой у людей — от поджаренного хлеба и арахиса до бананов и мороженого. За сутки они преодолевают многие мили.
Такие условия нелегко воспроизвести в лаборатории, но в Институте Дрейка делают всё возможное. Поскольку макаки — животные общественные, содержат их парами, и дверь каждой клетки ведёт в соседнюю, получается сквозной туннель. Обезьянам обогащают среду, стараются разнообразить их жизнь: кормушки-головоломки, зеркала, пластмассовые мячики, видео на айпадах (впрочем, от планшетов с недавних пор пришлось отказаться — обезьяны часто разбивали экраны), звуки джунглей из репродукторов. Раз в год в лабораторию приходит чиновник из Министерства сельского хозяйства, проверяет, соблюдается ли закон о защите животных; в прошлом году он рекомендовал сотрудникам вивария носить другую одежду — перчатки и шапочки весёлых расцветок, чтобы заинтересовать и развлечь животных, и его совету вняли.
Варя не тешит себя иллюзиями. Конечно, на воле обезьянам лучше. Но поскольку здесь проводят всего один эксперимент, клетки даже просторней, чем рекомендует Национальный институт здоровья. Позади вивариев — огороженная площадка, где обезьяны могут поиграть с шинами, полазить по канатам, покачаться в гамаке, хотя на самом деле и места там маловато, и обезьян туда выпускают всего на пару часов в неделю. Но цель эксперимента — не испытание новых лекарств и не поиск средства от вируса иммунодефицита обезьян, а продление жизни животных. Что же здесь не так?
Повернувшись к Люку, Варя излагает основные тезисы, приготовленные Энни Ким. Без изучения приматов многие вирусы так и не были бы открыты. Не удалось бы разработать многие вакцины, испытать многие средства против СПИДа, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Да и на воле им живётся несладко — там и голод, и хищники. Видеть обезьян в клетке мало кому приятно, разве что законченным садистам или Гарри Харлоу[49], зато здесь, в Институте Дрейка, они хотя бы под присмотром и окружены заботой.
И всё же Варя понимает, что со стороны может сложиться неверное впечатление. Клетки стоят вдоль стен, между ними лишь узкий проход. Обезьяны глядят на Варю и Люка, распластавшись на решётках, как гекконы. Розовые животы напоказ, скрюченные пальцы цепляются за прутья. Обезьяны-вожаки смотрят молча, обнажив длинные жёлтые клыки, низкоранговые визжат и гримасничают. Так же приветствуют они и нового директора института, который появляется в лаборатории пару раз в год и надолго здесь никогда не задерживается.
В первый год так же встречали обезьяны и Варю. Требовалась вся её выдержка, чтобы не сбежать. Она не сбежала и — пусть бывший директор оказалась права, большую часть времени Варя проводит за письменным столом, — заставляет себя каждый день заходить в виварий, обычно чтобы принести завтрак. К животным она не прикасается, но ей нужно знать, как они себя чувствуют, видеть подтверждения своего успеха. Варя показывает Люку сначала обезьян на низкокалорийной диете, потом — контрольную группу, которую в еде не ограничивают. Люк фотографирует обе группы; от вспышки обезьяны верещат ещё громче. Некоторые трясут прутья клеток, и Варя во весь голос, чтобы их перекричать, объясняет, что обезьяны контрольной группы более склонны к раннему диабету и риск заболеть у них почти втрое выше, чем у экспериментальной группы с ограниченным рационом. Экспериментальная группа даже выглядит моложе: шерсть у самых старых густая, каштановая, а старики из контрольной группы сморщенные, с красными облезлыми задами.
Позади лишь половина эксперимента, и о продолжительности жизни судить пока рано. Однако результаты обнадёживают, подтверждают Варину гипотезу, и, рассказывая об этом, Варя так и сияет от гордости. Видеть своих питомцев, несмотря на их визг, почёсывания и вонь, ей всё же приятно.
После ухода Люка Варя берёт на руки Фриду.
Чуть раньше она попросила Энни пересадить её в изолятор. Фрида её любимица, но гостям лучше её не показывать, она портит Варину репутацию. Фрида с гладким широким лбом, с золотистыми глазами, будто подведёнными углём; в детстве она была ушастая, с длинными розовыми пальчиками. В Калифорнию она прибыла неделей позже Вари. В то утро Энни встретила новую партию обезьян, и только одна обезьянка — детёныш из питомника в Джорджии — задержалась в дороге из-за метели. Энни спешила куда-то, и Варя осталась. Вечером, в половине десятого, на склоне горы показался белый фургон без опознавательных знаков и остановился возле корпуса приматологов. Из фургона вылез небритый малый лет двадцати и попросил Варю подписать бланк, будто пиццу привёз. Груз его то ли совершенно не интересовал, то ли успел опротиветь. Когда он достал клетку, завёрнутую в одеяло, оттуда донёсся такой дикий визг, что Варя невольно отпрянула. Но за зверька она теперь в ответе.
Водитель с облегчением вытер с лица пот, затрусил обратно к фургону и покатил с горы намного быстрее, чем въезжал, бросив Варю один на один с верещащей клеткой.
Клетка была размером с микроволновку. Знакомить Фриду с другими обезьянами предстояло только завтра, а пока Варя отнесла клетку в изолятор, комнатку величиной с чулан уборщицы, и поставила на пол. Руки уже ныли, а сердце трепетало от ужаса. Зачем она вообще на это согласилась? Теперь ей предстояло самое трудное: пересадить обезьянку из старой клетки в новую, а для этого придётся взять её на руки.
Клетка так и стояла накрытой детским одеяльцем, разрисованным жёлтыми погремушками. Варя откинула край одеяльца, и зверёк завопил ещё громче. Варя присела на корточки. Страх внутри разрастался как снежный ком, но обезьянку надо пересадить, и Варя, поставив внутрь клетки маленькую переноску, сняла одеяло. Переноска была лишь немногим больше самой обезьянки, но зверёк завертелся вьюном, цепляясь за прутья. Вертелась Фрида так быстро, что мордочку было не разглядеть, но её смятение и страх разрывали Варе сердце. Она потянулась к замку и, как учила Энни, открыла дверцу переноски.
Детёныш вылетел из клетки как из пушки. И приземлился не в большую клетку, а Варе на грудь. Варя не удержалась и тоже взвизгнула, шлёпнувшись на спину. Сейчас меня искусают, подумала она, но обезьянка, обняв Варю тоненькими ручками, прильнула к ней, уткнулась мордочкой в грудь.
Кто из двоих испугался сильнее? Варе виделись амёбиаз и гепатит В, все болезни, что снились ей по ночам и от которых она боялась умереть, из-за которых с самого начала чуть не отказалась от этой работы. Но на одной чаше весов — страх, на другой — живое существо. Обезьянка была плотная, увесистая — человеческий детёныш рядом с ней показался бы лёгоньким, почти бескостным. Неизвестно, сколько они так просидели — обезьянка верещала, а Варя её укачивала. Малышке было всего три недели. Варя знала, что в двухнедельном возрасте её забрали у матери, а мать по имени Сунлинь — её привезли из Китая, из питомника в Гуанси, это был её первенец — так страдала, что пришлось ей сделать успокоительный укол.
На мгновение Варя подняла взгляд и поймала их отражение в зеркале, прилаженном к клетке снаружи. И вспомнила «Автопортрет с обезьянкой» Фриды Кало. С Кало у Вари никакого сходства — ни стати, ни величавости, да и фон — бежевые бетонные стены, а не юкка с широкими глянцевитыми листьями. Зато на руках у Вари обезьянка, с огромными глазищами, чёрными, как ежевичины; и вот они вдвоём, одинаково испуганные и потерянные, глядят в зеркало.
Три с половиной года назад, когда Варя прилетела в Кингстон после смерти Дэниэла, Майра завела её в гостевую комнату и прикрыла дверь.
— Хочу тебе кое-что показать, — начала она. Майра опустилась на край кровати с ноутбуком на коленях. И, сидя в напряжённой позе, упершись в ковёр пальцами ног, показала Варе сохранённые веб-страницы: поиск в «Гугл» о цыганах, фотографию Вруны Костелло с сайта ФБР. Варя узнала женщину с первого взгляда, и сразу закружилась голова, замелькали перед глазами светящиеся точки, как серебристые конфетти. Ещё чуть-чуть, и она сползла бы на пол.
— За этой женщиной Дэниэл пустился в погоню. Достал из сарая револьвер и поехал в Уэст-Мильтон, где она жила. Я позвонила агенту, а тот его застрелил. — Голос Майры был ломким, как тростинка. — Почему, Варя? Почему Дэниэл так поступил?
И Варя рассказала Майре историю с гадалкой. Слова сыпались хлопьями ржавчины, но Варя заставляла себя говорить, как могла старалась, чтобы Майра её поняла, но после её рассказа та вконец растерялась:
— Это ведь было так давно. Всё это так далеко в прошлом.
— Для него — нет. — Слёзы у Вари текли ручьём, она утирала их пальцами.
— Но должно было остаться в прошлом! Должно! — У Майры покраснели глаза, шея пошла алыми пятнами. — Будь оно всё проклято, Варя! Боже! Если бы только он об этом забыл!
Они обсуждали, что сказать Герти. Варя придумала легенду, что Дэниэл, когда его отстранили от работы, стал одержим здешней преступницей, решил привлечь её к ответу, и борьба за справедливость вернула ему желание жить, действовать. Майра же ратовала за честность.
— Если мы расскажем всё как есть, что от этого изменится? — спрашивала она. — Дэниэла всё равно не вернёшь. И историю его гибели не изменишь.
Но Варя возражала. Она знала, что слова способны влиять на ход событий — в прошлом, в будущем, даже в настоящем. В Боге она усомнилась ещё в годы учёбы в аспирантуре, но с одним из положений иудаизма была согласна до сих пор: слова имеют силу. Они проникают в дверные щёлки и замочные скважины, западают в людские души, прорастают сквозь поколения. Узнав правду, Герти станет по-иному воспринимать детей, уже умерших, не способных оправдаться. И почти наверняка это принесёт ей лишь новую боль.
В ту ночь, когда Майра и Герти уже уснули, Варя встала с постели, вышла из гостевой комнаты, прокралась в кабинет. Следы Дэниэла были повсюду, такие привычные, знакомые и в то же время мучительноповерхностные. Возле компьютера пресс-папье в форме моста Золотые Ворота — Варя, вечно занятая докторантка, купила его в Международном аэропорту Сан-Франциско, по пути в Кингстон на Хануку, когда вдруг обнаружила, что в спешке забыла подарки. Сойдёт за предмет искусства, надеялась она. Но увы! «Цацка из аэропорта?» — присвистнул Дэниэл, хлопнув Варю по плечу. Теперь позолота потускнела; Варя не знала, что Дэниэл все эти годы хранил подарок.
Она сидела в его кресле, запрокинув голову. Дэниэлу она соврала: ни в какой Амстердам она не ездила, не было никакой конференции. В тот день она разморозила пакетик овощей, потушила их в оливковом масле и съела склизкое варево, сидя одна за кухонным столом. В ту осень её тревога за Дэниэла стала невыносимой. Что бы ни случилось в тот день, она не находила сил при этом присутствовать, а если бы стала свидетелем, её истерзала бы совесть. Она боялась подхватить или передать Дэниэлу какую-нибудь ужасную болезнь, будто считала себя невезучей, а свою невезучесть — заразной. Лучшее, что можно было сделать для Дэниэла, — держаться от него подальше.
Но к девяти утра на другой день после праздника сердце Вари стало биться как сумасшедшее. Её прошиб пот, и после холодного душа стало легче лишь ненадолго. Варя клялась себе не звонить Дэниэлу и всё-таки позвонила. Он вскользь упомянул, что хочет разыскать гадалку, но Варя сочла это несерьёзным и не поверила. А потом, когда тон его стал капризным, детским — «Жаль, что тебя вчера не было», — Варю охватило знакомое чувство вины, раздражение пополам с ненавистью к себе. Иногда она удаляла с автоответчика его сообщения, даже не прослушав, лишь бы не звучал его голос, полный отчаяния, что его снова и снова отвергают. Он ведь не одинок, у него есть Майра. Чем скорее он поймёт, что Варе нечего ему дать, кроме огорчений, тем скорее они освободятся друг от друга, и обоим станет легче дышать.
Возле компьютера белела квитанция из химчистки. Чёткий, угловатый почерк Дэниэла просвечивал с обратной стороны сквозь бумагу.
Варя перевернула квитанцию. «Наш язык — наша сила», — нацарапал на ней Дэниэл. А под этой фразой — ещё одна; Дэниэл столько раз её обводил, что буквы стали выпуклыми, объёмными: «У мысли есть крылья».
Варя точно знала, что это значит. Однажды, ещё в аспирантуре, она пыталась объяснить это явление своему первому психотерапевту.
— Для меня неважно, выглядит что-нибудь чистым или нет, — растолковывала она. — Главное — внутреннее ощущение чистоты.
— А если его нет? — спросил психотерапевт. — Внутреннего ощущения чистоты?
Варя задумалась. По правде сказать, она толком не знала, что будет; её просто не покидало дурное предчувствие, ей казалось, будто за спиной маячит беда, а ритуалы помогут отвести угрозу.
— Тогда случится какое-нибудь несчастье, — сказала она.
Когда всё началось? Она с детства была мнительной, а после похода к гадалке на Эстер-стрит что-то в ней надломилось. Сидя у ришики в квартире, Варя не сомневалась, что имеет дело с мошенницей, но когда вернулась домой, пророчество проникло ей в душу, словно вирус. И точно так же подействовало оно на остальных — Варя видела это по одиноким пробежкам Саймона, по вспышкам гнева у Дэниэла, по тому, как постепенно отдалялась от них Клара, уходила в свой мир.
Возможно, они всегда такими и были. Или стали бы, несмотря ни на что. Но нет, Варя разглядела бы в них эти черты ещё в зародыше. Она бы знала.
В тринадцать с половиной Варе пришло в голову, что если не наступать на трещины на асфальте, то Кларино пророчество не сбудется. В день рождения, когда Варе исполнилось четырнадцать, она решила во что бы то ни стало задуть сразу все свечи на торте, а если не задуть, то с Саймоном случится беда. Три свечи остались гореть, и восьмилетний Саймон их погасил. Варя раскричалась; со стороны это выглядело капризом — ну и пусть. Страшнее было то, что Саймон помешал ей его уберечь.
Когда Варе поставили диагноз, ей было уже тридцать. В наши дни на каждом ребёнке висит аббревиатура, объясняющая, что с ним не так, но в годы Вариной юности навязчивости были её тайной бедой. Они обострились после смерти Саймона, но обратиться к психотерапевту ей пришло в голову только в аспирантуре. Он-то и произнёс слова «обсессивно-компульсивное расстройство», а до этого Варя всерьёз не думала, что есть название для постоянного мытья рук, чистки зубов, боязни общественных уборных, прачечных, больниц, рукопожатий, страха касаться дверных ручек, сидений в метро, для всех ритуалов, что защищали её час за часом, день за днём, месяц за месяцем, год за годом.
Много лет спустя уже другой психотерапевт, женщина, спросила её: чего вы на самом деле боитесь? Варя вначале растерялась, не потому что не знала своих страхов, а потому что проще было перечислить, чего она не боится.
— Ну, приведите примеры, — попросила психотерапевт, и Варя в тот же вечер составила список. Она боится рака. Изменений климата. Попасть в аварию. Стать виновницей аварии. (Было время, когда Варя так боялась сбить велосипедиста при повороте направо, что провожала каждого велосипедиста квартал за кварталом, чтобы убедиться, что тот жив-здоров.) Убийц. Авиакатастроф — это же настоящий злой рок! Людей с лейкопластырями. СПИДа — а если точно, то всех на свете вирусов, бактерий, инфекций. Заразить кого-то. Боится грязи, пятен на белье, выделений. Аптек. Клещей, клопов, вшей. Химикатов. Бездомных. Толпы. Неопределённости, риска, неизвестности. Ответственности и вины. Даже своих мыслей она боится. Боится их силы, влияния на её жизнь.
На следующем сеансе Варя прочла список вслух. Выслушав её, психотерапевт откинулась на спинку кресла.
— Ясно, — сказала она. — Но чего вы на самом деле боитесь?
Варя засмеялась: что за наивный вопрос! Конечно же, утрат. Боится лишиться жизни, потерять близких.
— Но вы через это уже прошли, — возразила психотерапевт. — Вы потеряли отца, сестру, обоих братьев — пережили больше утрат, чем многие ваши сверстники. Но выдержали, и вот стоите передо мной — точнее, сидите, — добавила она, с улыбкой взглянув на кушетку, где сидела Варя.
Да, Варя выдержала и вот сидела, но не в этом суть. Вместе с каждым умершим она потеряла часть себя. Будто смотришь, как в домах постепенно гаснет свет — сначала в одних окнах, потом в других. Утрачивается храбрость — храбрость в чувствах, — уходят страсти. Варя знает цену одиночества, но ещё выше цена потерь.
До поры до времени Варя этого не понимала. В двадцать семь лет она слушала в аспирантуре лекции по физике. Читал их приглашённый профессор из Эдинбурга, бывший однокурсник Питера Хиггса.
— Многие не верят доктору Хиггсу, — рассказывал он Варе. — Но они заблуждаются.
Они ужинали в итальянском ресторане в центре города. Профессор говорил, что доктор Хиггс предсказал существование частицы, так называемого бозона Хиггса, который наделяет массой другие частицы. Он утверждал, что эта частица, пусть никто ее никогда не видел, может быть ключом к познанию Вселенной, стержнем всей современной физики. По его мнению, она свидетельствует о том, что в основе мира лежит симметрия, но всё самое удивительное в нём — в том числе и люди, — по сути, аномалия, сбой, результат кратковременного нарушения симметрии.
Для некоторых из Вариных подруг задержки были как гром среди ясного неба, но Варя мгновенно всё поняла: однажды утром она проснулась другим человеком. За три дня до того она спала с профессором на узкой койке в его квартире в студгородке; когда он спрятал лицо у неё между ног и задвигал языком, Варя впервые в жизни испытала оргазм. Вскоре он стал с ней холодно-вежлив, затем связь их прервалась. Теперь она представляла зародыш у себя внутри и думала: ты меня уничтожишь. Подкосишь навсегда. Весь мир сделаешь таким ярким, таким живым, что ни на секунду больше я не смогу забыть свою боль. Варю всегда страшили сбои — всё, чем нельзя управлять; нет, лучше симметрия, надёжная и безопасная. Когда она записалась на аборт в медицинский центр на Бликер-стрит, сбой на её глазах исчез, словно скрылся за дверями лифта, будто его и не было.
Другие говорят о блаженстве, что приносит секс, о сложной, многоцветной радости материнства, но Варя не знает большей радости, чем облегчение — облегчение, когда уходят страхи. Но даже эта радость всегда кратковременна, только буйный порыв, мимолётная вспышка — и чего я боялась? Однако мало-помалу уверенность покидает её, закрадываются сомнения, и нужно ещё раз заглянуть в зеркало заднего вида, сбегать в душ, протереть дверную ручку Варя достаточно прошла психотерапии, чтобы понимать: она себя обманывает. Она знает, что её вера — вера в действенность ритуалов, в то, что силой мысли можно повлиять на исход события, отвести беду, — не что иное, как магическое мышление: может, и выдумка, зато помогает выжить. И всё же, и всё же: разве это обман, если в него веришь? В глубине души Варя и не надеется на выздоровление, потому что в иные дни и вовсе не считает своё состояние болезнью. В иные дни она и вправду верит, что сила мысли способна изменить будущее.
В мае 2007-го, через полгода после смерти Дэниэла, Майра позвонила Варе в слезах.
— Эдди О’Донохью признали невиновным, — сказала она. — После внутреннего расследования его дело закрыли.
Варя не плакала; злоба поселилась внутри неё, как зародыш. Она больше не верила, что Дэниэла убила пуля — вошла в бедро, задев бедренную артерию, и он истёк кровью, не прошло и десяти минут. Его смерть говорила не о сбое в организме, а о грозной силе, силе человеческой мысли. О том, что у мысли есть крылья.
В пятницу утром, по пути на работу, Варя съезжает на обочину в парке и остаётся сидеть в машине, уткнувшись лбом в руль. Она думает о Люке. Последние два дня они встречались в семь тридцать в лаборатории и вместе шли в виварий. Там он ей помогал — взвешивал гранулы корма, таскал тяжёлые клетки на мойку, — и животные к нему привязались. В среду он затеял игру с одним из старших самцов, Гасом, красавцем-резусом с огненно-рыжим мехом и столь же огненным темпераментом. Гас подходил к решётке и выставлял брюхо — мол, почеши! А потом либо отскакивал назад, чтобы подразнить Люка, — а тот смеялся и подыгрывал, — либо сидел до упора, и Люк почёсывал его оранжево-розовое брюхо, а Гас причмокивал от удовольствия.
Когда Варя подивилась его умению ладить с животными и желанию помогать, Люк на это ответил, что вырос на ферме, к животным и к физическому труду привык с детства, да и редактор в «Кроникл» именно такую задачу ему поставил: показать повседневную жизнь института, чтобы учёные вышли живыми людьми, да и обезьяны — личностями. В четверг, за обедом в кабинете — Варя ест брокколи и чёрную фасоль из пластикового контейнера, а Люк уплетает куриный рулет из институтского кафе, — Люк спрашивает её, считает ли она обезьян личностями и не больно ли ей видеть их в клетках. Спроси он об этом в понедельник, она бы насторожилась, но все эти дни с ним было так легко — ни стычек, ни резких суждений с его стороны, — что к четвергу она совсем успокоилась и смогла дать честный ответ.
До того как её пригласили в Институт Дрейка, ей не приходилось иметь дело с такими крупными животными. Обезьяны — существа из плоти и крови, их невозможно не замечать: они покрыты шерстью, визжат и пахнут, болеют диабетом и эндометриозом. Соски у них выпуклые и розовые, как жвачка, а лица до боли выразительные, и если смотришь им в глаза, то кажется, будто видишь их насквозь. Они не безликие единицы, не безвольные объекты исследования, а полноправные его участники. Варя старается их не очеловечивать, и всё же в первые годы работы ей чудилось что-то бесконечно родное в их чертах, особенно во взгляде. Когда они, сгрудившись вместе, смотрели на неё бездонными глазами, ей казалось, будто это переодетые люди глядят сквозь прорези в масках.
— А если так думать, — призналась Варя Люку, — никакого терпения не хватит.
Она сидела за своим столом, Люк — за столом Энни. Сидел он скрестив ноги, длинные, как у паука, с неуклюжей грацией, свойственной долговязым парням. Раскрепощённая его ласковым вниманием, Варя продолжала:
— Однажды на День благодарения — я к тому времени успела проработать здесь год-другой — я приехала к брату, военному врачу, и поделилась этими мыслями. А он рассказал о своём пациенте, которого навещал в тот день, двадцатитрехлетнем солдате с осложнением после ампутации. Всякий раз, стоило Дэниэлу до него дотронуться, парень проклинал афганцев. Дэниэл запомнил его на медкомиссии два года назад. Того настолько волновала судьба Афганистана, так болела душа за афганцев, что Дэниэл едва не назначил психиатрическую экспертизу — решил, что у парня неустойчивая психика.
Дэниэл сидел тогда в той же позе, что и вчера Люк, — нога на ногу, большие внимательные глаза устремлены на Варю, — но под глазами темнели круги, на лбу намечались залысины. Варя вдруг вспомнила его мальчишкой — младшего брата, чей юношеский идеализм сменился с годами чем-то более приземлённым, зато простым, роднившим их.
— Он говорил, — объясняла Варя Люку, — что на войне не выжить, если во врагах видеть людей. Другими словами, надо выдумать себе врага. Говорил, что сострадание — привилегия штатских, а не тех, чья задача — действовать. А чтобы действовать, нужно определиться, на чьей ты стороне. Лучше помочь одной из сторон, чем никому.
Варя накрыла крышкой пластиковый судок с обедом и вспомнила о Фриде, сидевшей на низкокалорийной диете. Вначале она всё кричала и кричала, без конца требуя пищи. Её крики преследовали Варю и дома, и столь неприкрытое выражение голода будило в ней отвращение пополам со стыдом. Так велика была у Фриды воля к жизни, с таким отчаянным укором смотрели её глаза, что, казалось, вот-вот заговорит по-человечески.
— Да, я привязываюсь к обезьянам, — добавила Варя. — Сознаваться в этом для учёного дурной тон.
Но я их знаю уже десять лет и постоянно себе напоминаю, что эксперимент им тоже на пользу. Я их оберегаю, особенно группу на низкокалорийной диете, так они проживут дольше. — Люк молчал; диктофон он убрал, а к записной книжке не прикоснулся, хоть она и лежала рядом, у Энни на столе. — И всё-таки приходится себе напоминать: эксперимент имеет большое значение. Его научные результаты ценнее, чем отдельно взятая жизнь животного. А иначе нельзя.
В ту ночь Варе не спалось. Она всё думала, стоило ли так откровенничать с Люком и как отразится на её репутации, если Люк включит их разговор в статью. Можно попросить об этом не писать, но это значило бы, что она не верит в свою работу, сомневается в её ценности. И вот Варя сидит в машине, и её мутит от стыда. Она не только скомпрометировала себя, но и предала Дэниэла. Вспоминая о встречах в лаборатории, она видит перед собой не Люка, а брата. Глупости, нет между ними никакого сходства, кроме роста, и всё равно образы встают перед ней: Дэниэл ждёт её, одетый в штормовку Люка и с рюкзаком за плечами; лицо Дэниэла накладывается на молодое, вдохновенное лицо Люка. Вдруг картина меняется: Дэниэл в фургоне, с простреленной ногой, в луже крови — и Варя знает, что не будь она так поглощена собой, он поговорил бы с ней о Вруне, и она, Варя, могла бы его спасти.
Только через час приступ дурноты проходит, а руки перестают дрожать и могут удержать руль. Впервые в жизни Варя опоздала на работу, и Энни, к её облегчению, увела Люка на кухню, где он помогает ей взвешивать корм, не доеденный обезьянами, и раскладывать новые гранулы по кормушкам-головоломкам. Варя избегает его — закрылась в кабинете, пишет заявку на грант. Наконец в дверь стучат. Люк, догадывается Варя, Энни не стала бы её беспокоить.
— Хотел вам предложить. Может быть, поужинаем вместе? — произносит он, когда Варя открывает дверь. Он стоит, спрятав руки в карманы, и, видя Варино смущение, улыбается. — Уже шесть.
— Я пока не проголодалась. — Варя подходит к столу, выключает компьютер.
— Или выпьем? Красное вино содержит ресвератрол. Вот видите, я хорошо подготовился!
Варя вздыхает:
— Записывать будете?
— Как хотите. Вообще-то не собирался.
— Если не записывать, — спрашивает, развернувшись к нему, Варя, — тогда какой смысл?
— Укрепить деловые связи. А заодно и дружеские. — Люк смотрит на неё как-то странно, будто не понимает, шутит она или нет. — Я не кусаюсь. А если и кусаюсь, то уж пореже, чем ваши обезьяны.
Варя выключает в кабинете свет, и лицо Люка остаётся в полумраке, подсвеченное лишь люминесцентными лампами из коридора. Он уязвлён.
— Я угощаю, — добавляет он. — В благодарность.
Позже Варя станет спрашивать себя, почему она всё-таки согласилась, когда всё в душе восставало, и к чему бы привёл отказ. Что её заставило — неспокойная совесть, усталость? Чувство вины вконец её изнурило, отступало оно только во время работы, да ещё когда она мыла руки, подставив их под струю горячей воды, так что едва можно терпеть и кажется, будто это уже не вода, а то ли огонь, то ли лёд. Отступало оно и перед чувством голода, а голодала Варя часто. Порой от голода в теле появлялась небывалая лёгкость — ещё чуть-чуть, и отлетишь в небеса, к братьям и Кларе. В тот раз она тоже была голодна и в итоге почему-то пошла, почему-то согласилась.
Они сидят в погребке на Грант-авеню за бутылкой каберне из местного винограда, выращенного в семи милях к югу отсюда, и вино сразу же ударяет Варе в голову. Она вдруг вспоминает, как давно не ела, но в ресторанах она не ест никогда, вот и сейчас цедит вино и слушает рассказ Люка о его детстве, о родительской вишневой ферме в округе Дор, штат Висконсин: весь округ — это участок береговой линии озера Мичиган и близлежащие острова. Когда-то земля, как округ Марин, принадлежала индейцам — в Марине это были мивоки, здесь потаватоми, — а потом пришли европейцы, распахали её, вырубили леса. Люк рассказывает об известняках и песчаных дюнах, о разлапистых канадских елях, о том, как поздней осенью земля одевается чудным золотистым покрывалом из березовых листьев.
Постоянного населения в округе меньше тридцати тысяч, но в разгар туристического сезона, летом и ранней осенью, оно вырастает вдесятеро. В июле на ферме кипит работа: надо скорей собрать вишни, засушить, заморозить, закатать в банки — настоящая вишнёвая лихорадка. Вишни у них на ферме трёх сортов, и когда Люк был маленьким, каждому в семье поручали один сорт. Отец Люка собирал балатон — крупные сочные ягоды. Люк, младший, вместе с матерью срывал вишни монморанси, с прозрачной жёлтой мякотью. Брату Люка доставалась черешня, плотная, чёрная, самая драгоценная из всех.
Варя слушает Люка, а мысли где-то далеко, перед глазами вишни — жёлтые, чёрные, красные, в лёгкой дымке, будто во сне. Люк показывает Варе семейное фото на экране телефона. Ранняя осень, деревья в горчично-сиреневом мареве. У обоих родителей Люка густые пшеничные волосы, как у Люка, только ещё светлее; брат-подросток, прыщавый, зато с лучистой улыбкой (Эшер, так его зовут), обнял Люка за плечи. Люку на снимке лет шесть, не больше. Он крепко прижался к Эшеру, а улыбка до ушей, почти гримаса.
— А у вас? — спрашивает он, пряча телефон обратно в карман. — Кто ваши родные?
— Брат был врачом, как я уже говорила. Младший брат был танцором. А сестра — фокусником-иллюзионистом.
— Ничего себе! Кроликов доставала из шляпы?
— А вот и нет. — В погребке полумрак, и Варя не видит ничего, что бы её беспокоило. — Она была мастером карточных фокусов, а ещё умела читать мысли; её партнёр брал у кого-то из зала предмет — шляпу, кошелёк, — а она отгадывала, без подсказок, стоя лицом к стене, с завязанными глазами.
— А сейчас они чем заняты? — спрашивает Люк, и Варя подскакивает. — Простите меня, — извиняется Люк. — Просто вы говорили в прошедшем времени. И я решил, что они…
— На пенсии? — Варя качает головой: — Нет, они умерли. — И, сама не зная почему, продолжает рассказ; может быть, потому что Люк скоро уедет и чувствуешь странную свободу, рассказывая кому-то о том, чем делилась только с психотерапевтом. — Мой младший брат умер от СПИДа, ему было двадцать. Сестра покончила с собой. Сейчас, задним числом, я думаю, не было ли у неё биполярного расстройства или шизофрении, но теперь уже ничем не поможешь. — Осушив бокал, Варя наливает второй. Пьёт она редко и от вина расслабляется, глупеет, становится болтливой. — А Дэниэл ввязался в нехорошую историю. Его застрелили.
Люк притих, смотрит на неё во все глаза, и Варю пронзает нелепый страх: вдруг он сейчас схватит её за руку? Но никто её за руку не хватает — с чего бы? — и Варя переводит дух.
— Простите меня, пожалуйста, — просит Люк. — Потому вы и посвятили себя этой работе? — Варя молчит, и Люк продолжает, сперва неуверенно, затем горячо, убеждённо: — Современные лекарства, будь они доступны тогда, спасли бы жизнь вашему брату. А генетические анализы помогли бы выявлять склонность к душевным болезням, даже ставить диагнозы. Это могло бы спасти Клару, верно?
— О чём ваша статья? — спрашивает Варя. — О моей работе или обо мне?
Она старается говорить бодрым голосом. Внутри пульсирует страх, но Варя не понимает, чего именно боится.
— Трудно представить одно без другого, ведь так? — Лицо Люка надвигается на неё, в полумраке блестят глаза, и в уме Вари шевелится догадка. Теперь понятно, что её так напугало: она никогда ему не говорила, что сестру звали Кларой.
— Мне пора, — мямлит она и, упершись руками в стол, пытается встать. В тот же миг пол взмывает вверх, как качели, стены кренятся, и Варя снова садится — нет, падает — в кресло.
— Не уходите, — настаивает Люк и на этот раз всё-таки берёт её за руку.
У Вари от ужаса перехватывает горло.
— Прошу, не трогайте меня, — бормочет она, и Люк выпускает её руку, на его лице написано сострадание. Предстать в жалком виде перед чужим человеком для Вари невыносимо. На этот раз ей удаётся подняться.
— Вам нельзя садиться за руль, — говорит Люк, тоже вставая. На лице его Варя видит испуг, отражение её собственного, и её тревога растёт. — Прошу вас, простите меня.
Варя, порывшись в бумажнике, достаёт тощую пачку двадцаток и выкладывает на стол.
— Всё хорошо.
— Давайте я вас подвезу, — уговаривает Люк, а Варя меж тем пробирается к двери. — Где вы живёте?
— Где я живу? — шипит Варя, и Люк отшатывается; даже в темноте бара видно, что он покраснел. — Да что вы себе позволяете? — И вот она уже у двери, за дверью. Оглядывается назад, не идёт ли Люк следом, — и бегом к машине.
Варя просыпается в субботу. Поясницу ломит, в голове будто молот стучит, одежда хоть выжимай, пахнет потом. Туфли и свитер она ночью скинула, а блузка липнет к животу, носки влажные. Варя стягивает их, и они тяжело плюхаются на пол машины. Варя приподнимается на заднем сиденье. За окном утро, Грант-стрит в пелене дождя.
Варя трёт глаза. Вспоминает погребок, лицо Люка напротив её лица, его настойчивый шёпот — «Трудно представить одно без другого», — его горячую руку поверх своей. Варя помнит, как бросилась к машине, как свернулась по-детски клубочком на заднем сиденье.
Есть хочется зверски. Перебравшись за руль, она ищет остатки вчерашнего завтрака. Съедает и яблоки, побуревшие, мягкие, как губка, и противно тёплый, сморщенный виноград. В зеркало заднего вида она смотреть избегает, но случайно видит своё отражение в окне машины — грива, как у Эйнштейна, рот разинут. Отвернувшись, Варя ищет ключи.
Дома, сбросив одежду, закидывает её прямиком в стиральную машину и стоит под душем долго-долго, пока в баке нагревателя не остывает вода. Достаёт халат — розовое пушистое безобразие, подарок Герти, Варя ни за что бы себе такой не купила — и принимает лошадиную дозу ибупрофена. Залезает под одеяло и снова засыпает.
Просыпается она за полдень. Теперь, когда усталость немного отступила, Варя вздрагивает от страха, как от удара током, и её тянет бежать из дома. Быстро одевается. Она бледна, в заострившемся лице появилось что-то птичье; из причёски торчат седые вихры. Смочив под краном руки, Варя приглаживает волосы и тут же спрашивает себя: а зачем? Сегодня суббота, в виварии одни лаборанты, да и шапочку она сразу наденет. На работе она обычно не ест, но на этот раз берет из холодильника пакет и жует за рулём яйца вкрутую.
Переступив порог лаборатории, Варя немного успокаивается. Надев спецодежду, заходит в виварий.
Надо проведать обезьян. Хоть рядом с ними ей и не по себе, но иногда бывает страшно: вдруг с ними что-нибудь случится без неё? Ничего, разумеется, не случилось. Джози направляет зеркало на дверь и, завидев Варю, выпускает его из рук. Детёныши в яслях неуёмно шмыгают туда-сюда. Гас сидит в глубине клетки. И лишь последняя клетка — Фридина — пуста.
— Фрида! — зовёт Варя, хоть это и глупо, ведь неизвестно, знают ли обезьяны свои имена. — Фрида!
Выйдя из вивария, она шагает по коридору и зовёт, и наконец из кухни выглядывает лаборантка Джоанна.
— Фрида в изоляторе, — объясняет она.
— Почему?
— Шерсть у себя выщипывала, — поспешно отвечает Джоанна. — Я думала, может, в изоляторе она бы…
И умолкает на полуслове — Варя уже ушла.
Второй этаж лаборатории квадратный. Кабинет Вари и Энни в западной стороне, виварий в северной; в южной — кухня и процедурные, а изолятор, прачечная и чулан уборщицы — в восточной. Изолятор даже просторней других клеток, метр восемьдесят на два с половиной. Однако разнообразия он начисто лишён — сюда отправляют в наказание за дурное поведение. Конечно, здесь нет ничего пугающего, мрачного, но нет и ничего интересного. Всего-навсего клетка из нержавеющей стали, с квадратной дверцей, запирающейся снаружи. Внутри кормушка и поилка, между дном клетки и полом промежуток в десять сантиметров, а в полу проделаны дырки, чтобы моча и помёт попадали в выдвижной лоток.
— Фрида! — зовёт Варя и заглядывает в изолятор. Сюда она принесла Фриду в первую ночь, трёхнедельной малышкой.
Фрида сидит съёжившись, лицом к стене, и раскачивается взад-вперёд. Спина у неё в проплешинах с ладонь, там, где она выщипывала шерсть. Полгода назад она перестала чиститься, и другие обезьяны её сторонятся — брезгуют, чуя её слабость. Вокруг неё лужа ядовито-жёлтой мочи, не успевшая стечь в лоток.
— Фрида, — говорит Варя громко, но ласково. — Перестань, Фрида, прошу тебя.
Услышав Варин голос, Фрида поворачивается к ней ухом. Сиреневое веко лоснится, рот приоткрыт полумесяцем. Затем она, состроив гримасу, медленно разворачивается, но, очутившись к Варе лицом, не задерживается ни на секунду, а продолжает крутиться, припадая на правую заднюю лапу, волоча левую. Две недели назад она прокусила себе левое бедро, понадобились швы.
Почему она так изменилась? В юности её энергии хватало на троих. В стае она плела интриги, заключала выгодные союзы, отбирала еду у более слабых, но при этом отличалась обаянием и неуёмным любопытством. Любила, когда её брали на руки, тянулась к Варе сквозь прутья клетки и обнимала её, и Варя иногда доставала её из клетки и носила по виварию, посадив на бедро. Её близость будила у Вари страх и исступлённую радость — страх подцепить заразу и радость, что можно хоть ненадолго, сквозь слои защитной одежды почувствовать близость к другому животному, самой побыть животным.
Стук в дверь. Джоанна, думает Варя, или Энни, хоть Энни и нечасто появляется здесь по выходным. Как и у Вари, у неё ни мужа, ни детей. В тридцать семь лет ещё далеко не поздно, но Энни не желает себя обременять. «Мне всего в жизни хватает», — призналась она как-то, и Варя поверила. Её большая корейская семья живёт по ту сторону моста Золотые Ворота. Любовники у Энни не переводятся — то мужчины, то женщины, — и любовными союзами она рулит так же уверенно, как ведёт исследования. Энни пробуждает в Варе материнскую гордость и материнскую зависть. Такой, как Энни, она сама мечтала стать — совершать нешаблонные поступки и не жалеть о них.
В дверь снова стучат.
— Джоанна? — окликает Варя и идёт открывать.
Но перед ней не Джоанна, а Люк. Волосы нечёсаные, сальные, губы запеклись, лицо отливает странной желтизной. Одет он как вчера — должно быть, тоже спал не раздеваясь. Покров спокойствия, которым окутала себя Варя, трещит по швам и соскальзывает.
— Что вы тут делаете? — спрашивает она.
— Клайд пропустил. — Люк хлопает глазами, одна рука по-прежнему на ручке двери, другая дрожит. — Нам нужно поговорить.
Фрида, отвернувшись к стене, снова раскачивается взад-вперёд. Варе не по себе от её раскачивания, да ещё при Люке. Стоя к нему спиной, Варя запирает клетку. Повернуть ключ — дело двух секунд, но на полпути она вздрагивает, услышав глухой щелчок. Варя оборачивается — Люк прячет в рюкзак фотоаппарат.
— Отдайте сейчас же, — рявкает она свирепо.
— Нет, — отвечает Люк робко, как ребёнок, у которого отнимают любимую игрушку.
— Ах, так? Вы не имели права снимать! Я в суд подам!
Против её ожиданий, на лице Люка не победное злорадство, а страх. Он крепко прижимает к себе рюкзак.
— Никакой вы не журналист, — заявляет Варя. От ужаса у неё звенит в ушах, будто кричат в тревоге мармозетки. — Кто вы такой?
Но Люк молчит, застыв в дверях как статуя, только рука дрожит.
— Я полицию вызову! — грозится Варя.
— Не надо, — просит Люк. — Я…
Но умолкает на полуслове, и в этой тишине в мозгу у Вари бьётся непрошеная мысль. «Пусть всё будет хорошо, — умоляет про себя Варя, — пусть всё будет хорошо». Будто не в лицо чужому человеку смотрит, а на снимок опухоли: «Только бы не рак».