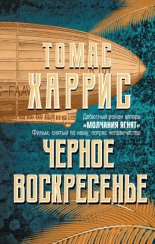Бессмертники Бенджамин Хлоя

Наверху виднеется что-то вроде полочки. Дэниэл карабкается всё быстрей, цепляясь за стволы и нижние ветви деревьев. Вглядываясь в темноту, он видит: часть опушки занята чем-то угловатым. Прямоугольным.
На краю густого леса стоит фургон. Дэниэл выбирается из ущелья на прогалину, он еле дышит, но готов повторить этот путь ещё раз. Фургон забрызган грязью, на крыше снег. Окна занавешены, а на боку наклонными буквами выведено: «Регата».
Дверь почему-то не заперта. Поднявшись по ступенькам, он заходит внутрь.
Лишь через миг глаза привыкают к темноте. С занавешенными окнами мало что видно, но общие контуры жилища всё-таки можно различить. Он стоит в тесном углу, левое колено упирается в засаленный диван с аляповатым узором. Напротив — некое подобие стола: привинченная к стене доска, сплошь заставленная коробками. Между столом и пассажирскими сиденьями втиснуты два металлических складных стула, на них тоже громоздятся коробки. Слева от стола — раковина и ещё один столик с разнообразными свечами и статуэтками.
За крохотной ванной закрытая дверь. К двери на уровне глаз прикреплён деревянный крест. Дэниэл берётся за дверную ручку.
Узкая кровать у стены, рядом деревянный ящик, на нём Библия и тарелка, на тарелке смятая бумажная обёртка. Под потолком квадратное оконце. Кровать застлана клетчатой фланелевой простынёй, из-под тёмно-синего стёганого одеяла торчит нога.
Дэниэл откашливается.
— Вставайте.
Спящая шевелится под одеялом, повёрнутое набок лицо скрыто длинными волосами. Она не спеша перекатывается на спину, открывает один глаз, другой. В первый миг она тупо смотрит на Дэниэла. Потом, резко втянув воздух, выпрямляется. На ней хлопчатобумажная ночная рубашка в мелких жёлтых цветочках.
— Я вооружён, — говорит Дэниэл. — Одевайтесь. — За это короткое время она успела ему опротиветь до тошноты. Кожа на босой пятке грубая, в трещинах. — Поговорим.
Дэниэл ведёт старуху в жилую комнатку, усаживает на диван. Она кутается в синее стёганое одеяло, что приволокла с собой. Дэниэл отдёргивает чёрные занавески: при свете луны лучше видно.
Она и сейчас полная, а в одеяле кажется ещё крупнее. Седые космы свисают ниже плеч, лицо изрезано сетью морщинок, тонких, будто вычерченных карандашом. Под глазами изжелта-розовые мешки.
— Я тебя знаю. — Голос у неё скрипучий. — Помню тебя. Ты ко мне приходил в Нью-Йорке. С братом и сёстрами. Две девочки и маленький мальчик.
— Они умерли. Мальчик и одна из девочек.
Старуха поджимает губы, кутаясь в одеяло.
— Я знаю ваше имя, — продолжает Дэниэл. — Вруна Костелло. И семью вашу знаю, и все их преступления. Но я хочу знать о вас больше. Хочу знать, зачем вы этим занимаетесь и почему так с нами обошлись.
Губы старухи плотно сжаты.
— Мне вам сказать нечего, — объявляет она наконец.
Дэниэл, выхватив из-за пазухи револьвер, всаживает две пули в алюминиевый пол. Старуха с визгом зажимает уши; одеяло сползает набок. Под ключицей у неё белеет шрам, гладкий, как капля засохшего клея.
— Здесь мой дом! — возмущается она. — Не имеешь права!
— Это ещё не предел. — Дэниэл целится ей в лицо, дуло вровень с носом. — Итак, начнём с самого начала. Вы из семьи преступников.
— Свою семью я не обсуждаю.
Дэниэл, направив дуло вверх, снова стреляет. Пуля, свистнув, пробивает потолок, Вруна визжит. Одной рукой она поправляет одеяло на плечах, другую выставляет перед лицом Дэниэла, как стоп-сигнал.
— Драбаримос[48] — это дар Божий. Мои родные использовали его во зло. Они невежды, обманщики, на руку нечисты. Я не такая. Я говорю с людьми о жизни, о дарах Бога.
— Знаете, что их поймали, что они под арестом?
— Слыхала. Но я с ними не общаюсь. Меня это не касается.
— Враньё. Вы, цыгане, держитесь стаей, как крысы.
— Я не такая, — повторяет Бруна. — Это не про меня.
Когда Дэниэл опускает револьвер, она убирает руку. В глазах у неё слёзы — видимо, не лжёт. Наверное, родные от неё так же далеки, как Клара, Саймон и Шауль от Дэниэла. Словно остались в другой жизни.
Но Дэниэл не поддаётся жалости.
— Поэтому вы ушли из дома?
— И поэтому тоже.
— А ещё почему?
— Потому что была девчонкой. Потому что не хотела я быть ничьей женой, ничьей матерью. С семи лет по дому хлопочешь, в одиннадцать-двенадцать уже работаешь, в четырнадцать — замужем. А я, я учиться мечтала, стать медсестрой, но образования у меня не было. Только и слышала: «Шай драбарэл? Шай драбарэл? Умеет она гадать?» Вот я и сбежала. Зарабатывала как умела, читала по руке судьбу. Но для себя решила: не хочу быть как все. Денег выпрашивать не стану. Никакого дерьмовства. Была у меня клиентка, много лет ко мне ходила, так я за всё время ни разу с неё не потребовала плату. Прошу её: «Научите меня. Научите меня читать». Та смеётся: «По руке?» «Нет, — я ей говорю, — газету».
Губы у Бруны дрожат.
— Мне пятнадцать, — продолжает она. — Живу в мотеле. Ни объявление составить не могу, ни договор прочесть. Я учусь, но как представлю, сколько нужно всего, чтобы стать медсестрой, колледж и прочее такое… И вот я, школу бросила в семь лет — и понимаю, ничего не выйдет, поздно уже. И говорю себе: зато у меня есть дар — он-то у меня ещё есть. Главное, как им пользоваться.
Кончив рассказ, она вся поникает. Видно, как тяжело далась ей вынужденная исповедь.
— Дальше, — велит Дэниэл.
Бруна сипло вздыхает.
— Я мечтала делать добро. И вот я думаю: чем занимаются медсёстры? Помогают людям, тем, кто страдает. А почему страдают люди? Потому что не знают, что с ними будет. А вдруг я сумею их освободить? Если будут у них ответы, они станут свободны, — вот оно, что я думала. Если они будут знать, когда умрут, смогут жить.
— Что вам нужно от тех, кто к вам приходит? Если не деньги, то что же?
— Ничего. — Глаза её чуть не вылезают из орбит.
— Ложь. Вам нужна власть. Мы были детьми и плясали под вашу дудку.
— Я вас не звала.
— Вы давали рекламу.
— Неправда, вы меня сами нашли.
Лицо у неё взволнованное, негодующее. Дэниэл силится припомнить, так ли всё было. Как он о ней узнал? От двух мальчишек в кулинарной лавке. Но они-то откуда узнали? След ведёт обратно к Вруне.
— Даже если так, вы должны были нас выставить вон. Мы же были детьми, а то, что вы нам сказали, совсем не для детских ушей.
— Дети, они думают о смерти. Все люди о ней думают! А те, кто ко мне приходит, приходят не просто так, свои причины, у каждого свои, вот я и даю им то, чего они ищут. Дети чисты в помыслах; у них есть мужество; они ищут знания, не боятся его. Ты был храбрый мальчик, я помню. Но то, что ты услышал, тебе пришлось не по вкусу. Значит, не верь мне — не верь! Живи так, будто не веришь.
— Я так и живу. Именно так. — Он сбился с курса. Всему виной усталость и холод — как может Вруна жить в таком холоде? — да ещё дорога, мысли о Майре: что она подумает, найдя на полу его мобильник? — А свою судьбу вы знаете? Знаете, когда умрёте?
Вруна как будто вздрагивает — нет, качает головой:
— Нет, не знаю. Свою судьбу я не вижу.
— Не видите? — Свирепая радость захлёстывает Дэниэла. — От страха, наверно, с ума сходите?
Она примерно одних лет с его матерью и одного с ней роста, но Герти крепкая, а Вруна одутловатая, рыхлая.
Дэниэл направляет на неё револьвер:
— А если сейчас?
Вруна хватает воздух, зажимает уши ладонями. Одеяло сползает на пол, Дэниэл видит ночную рубашку и босые ступни. Она сидит скрестив ноги — видно, что мёрзнет.
— Отвечайте, — требует Дэниэл.
Вруна пищит тоненько, сдавленно:
— Сейчас так сейчас.
— Впрочем, необязательно сейчас. — Дэниэл поигрывает револьвером. — Я мог бы это сделать когда угодно. Постучусь в дверь, без предупреждения. Что выбираете? Умереть сейчас или жить в неизвестности? Ждать, ждать, ходить на цыпочках — жить с оглядкой каждый божий день, смотреть, как другие умирают, и гадать, когда же твой черёд, и ненавидеть себя за то, что…
— Сегодня твой день! — Голос Вруны вдруг изменился, обрёл силу и уверенность. — Твой день сегодня. Вот почему ты здесь.
— Думаете, я сам не знаю? По-вашему, я случайно пришёл?
Но Вруна смотрит на него с сомнением, намекая на совсем иную версию происходящего: он пришёл сюда не сознательно, его притянуло, как Саймона с Кларой. Его поступок был предопределён — либо гадалка и впрямь предвидит будущее, либо дело в том, что он, по своей слабости, ей поверил.
Нет. Саймона и Клару притянуло невольно, словно магнитом, а он, Дэниэл, полностью отвечает за свои действия. И всё же две версии создают нечто вроде оптической иллюзии — как на картинке, где видишь то вазу, то два профиля; обе одинаково убедительны, и стоит уцепиться за одну, как другая отодвигается на задний план.
Есть лишь один способ утвердить свою версию, а другую заставить раствориться в прошлом. Он не уверен, то ли его осенило сейчас, то ли сразу, как только он увидел фотографию.
Вруна бросает взгляд влево, и Дэниэл замирает. Вначале он слышит лишь шум водопада, но сквозь него пробиваются и другие звуки: чьи-то тихие мерные шаги в ущелье, хруст камешков.
— Не двигаться! — велит Дэниэл.
Он идёт в кабину фургона. Приглядевшись, в темноте различает, как вдоль тропы скользит чья-то широкая тень.
— Прочь отсюда, — говорит ему Вруна. — Уходи.
Всё ближе шаги, всё быстрей; у Дэниэла заходится сердце.
— Дэниэл? — слышен голос.
Карта Уэст-Мильтона на экране компьютера, визитка возле коврика для мыши. Должно быть, Майра увидела и позвонила Эдди.
— Дэниэл! — кричит Эдди.
Дэниэл стонет.
— Говорю, уходи, — повторяет Вруна.
Но Эдди уже здесь. Вот он — выбравшись из ущелья, пересекает поляну. К горлу Дэниэла подступает тошнота. Он резко двигает к стене складной стол, и коробки летят на пол. Сверху падают металлические складные стулья.
— Хватит! — огрызается Бруна. — Довольно!
Но Дэниэла уже не остановить. Он ошеломлён собственным страхом, безмерным, неодолимым. Это чужеродный страх, надо его пресечь на корню. Дэниэл делает шаг к столу возле раковины, стволом револьвера сбивает иконы. Хватает с сидений коробки и вытряхивает на пол содержимое — газеты и консервы, игральные карты и карты Таро, старые документы и фотографии. Бруна с криком тяжело поднимается с дивана, но Дэниэл идёт мимо неё в спальню. Сорвав с двери деревянный крест, швыряет в стену.
— Не имеешь права! — завывает Бруна, еле держась на ногах. — Здесь мой дом! — Белки её глаз в красных прожилках, мешки под глазами влажно блестят. — Я здесь живу много лет, никуда отсюда не уйду. Нету у тебя права. Я тоже американка, как ты.
Дэниэл хватает её за запястье, на удивление хлипкое, как цыплячье крылышко.
— Нечего себя со мной равнять, — отвечает он.
Дверь фургона распахивается, и на пороге вырастает Эдди. Он в штатском — в кожаной куртке и джинсах, — но на груди полицейский значок, и револьвер наготове.
— Дэниэл, — приказывает он, — бросьте оружие.
Дэниэл качает головой. Нечасто ему приходилось совершать смелые поступки, и один предстоит совершить сейчас — за Саймона, всю жизнь скрывавшего, что он гей; за Клару, повесившуюся на люстре; за Шауля, работавшего по двенадцать часов в день, чтобы его детям не пришлось так надрываться. И за Герти, всех их потерявшую. Во имя веры. Веры не в Бога, а в себя. Не в судьбу, а в свободу воли. Он выживет. Будет жить. Вера в жизнь.
Не выпуская тощего запястья Бруны, он подносит револьвер к её виску, та морщится.
— Дэниэл! — рявкает Эдди. — Я буду стрелять!
Но Дэниэл почти не слышит. Мысль о том, что он невиновен, дарит ему свободу, поднимает его ввысь, как воздушный шар. Он смотрит сверху вниз на Вруну Костелло. Ещё недавно он думал, будто связан с ней чувством долга. Сейчас он не помнит, что у них было общего.
— Акана мукав тут ле дэвлэса, — бормочет напряжённым шёпотом Бруна. — Акана мукав тут ле дэвлэса. Вверяю тебя Господу.
— Послушайте меня, Дэниэл, — просит Эдди, — ещё немного — и я уже не смогу вам помочь.
У Дэниэла вспотели ладони. Он взводит курок.
— Акана мукав тут ле дэвлэса, — повторяет Бруна. — Вверяю тебя…
Часть четвёртая
Место для жизни
2006–2010. Место для жизни
28
Фрида голодна.
Варя заходит в виварий в половине восьмого, а обезьянка уже стоит на задних лапах, цепляясь за прутья клетки. Другие обезьяны встречают Варю писклявым гомоном, предвкушая завтрак, одна только Фрида издаёт всё то же отрывистое тявканье, что и неделю, и две назад. «Ш-ш-ш, — шепчет Варя, — ш-ш-ш». Каждая обезьяна получает кормушку с секретом: нужно прокатить гранулу корма сквозь жёлтый пластмассовый лабиринт к дырочке на дне, — пусть сами добывают пищу, как на воле. Фридины товарки возятся с кормушками, а Фрида оставляет свою на полу клетки. Головоломка для Фриды проста, заполучить корм для неё секундное дело. Но она смотрит на Варю и тревожно кричит, разевая рот так широко, что туда уместился бы апельсин.
Копна тёмных волос, рука на дверном косяке — в комнату заглядывает Энни Ким.
— Он уже здесь, — объявляет она.
— Рановато.
На Варе голубой лабораторный костюм и две пары плотных перчаток по локоть. Стриженые волосы убраны под полиэтиленовую шапочку, лицо закрыто маской и пластиковым щитком. И всё же запах мочи и мускуса неистребим. Варя чует его всюду, в лаборатории и у себя в квартире, — то ли сама насквозь пропиталась, то ли так к нему привыкла, что он везде мерещится.
— Всего-то на пять минут раньше пришёл. Вот что, — говорит Энни, — чем скорее начнёшь, тем быстрей отмучишься. Как с больным зубом.
Некоторые обезьяны уже справились с головоломками и требуют ещё корма. Варя чешет бок локтем.
— Визит к стоматологу длиной в неделю.
— Заявки на гранты и то дольше рассматривают, — замечает Энни, и Варя смеётся. — Помни: смотришь на него — представляй доллары.
Она открывает перед Варей дверь, придерживая ногой. Едва дверь захлопывается за ними, визг обезьян становится еле слышен, будто из телевизора где-то в дальней комнате. Здание бетонное, окон мало, во всех помещениях звукоизоляция. Варя следует за Энни по коридору в их общий кабинет.
— Фрида продолжает голодовку, — жалуется она.
— Ещё чуть-чуть, и сдастся.
— Не нравится мне это. Она меня тревожит.
— Думаешь, она этого не понимает? — спрашивает Энни.
Кабинет узкий, прямоугольный. Варин стол стоит возле короткой западной стены, стол Энни — у длинной южной, налево от входа. Между столами, напротив двери, стальная мойка. Энни садится в кресло, поворачивается лицом к компьютеру. Варя снимает маску и щиток, костюм и перчатки, шапочку и бахилы. Моет руки, три раза с мылом, в самой горячей воде, какую может выдержать. Затем приводит в порядок свою уличную одежду: строгие чёрные брюки, голубую рубашку и чёрный шерстяной жакет, застёгнутый на все пуговицы.
— Ну, смелей. — Энни косится на экран, одной рукой двигая мышь, а в другой держа надкусанный питательный батончик. — Не оставляй его надолго наедине с мармозетками, а то решит, что все наши обезьяны такие же симпатяги.
Варя сжимает виски.
— А может, всё-таки пошлём тебя вместо меня?
— Мистер ван Гальдер всё объяснил очень чётко. — Энни уставилась в монитор, а сама улыбается. — Ты руководитель, у тебя интересные результаты. Я ему не нужна.
Выйдя из лифта, Варя застаёт гостя возле вольера с мармозетками. Это единственное место в лаборатории, куда свободно пускают посетителей. Вольер два с половиной на три метра, из жёсткой проволочной сетки, защищённой стеклом. Гость не сразу поворачивается к Варе, и у неё есть возможность хорошенько рассмотреть его сзади. Ростом под метр восемьдесят, густые пшеничные кудри, а одет как-то по-походному: нейлоновые брюки, штормовка, хитро скроенный рюкзак.
Мармозетки сгрудились возле проволочной сетки. Их девять: двое родителей и семь детёнышей, из них шестеро — из одного помёта. Длина взрослых — сантиметров семнадцать, а вместе с красивым полосатым хвостом — все сорок. Мордочки с грецкий орех, но необычайно тонко вылеплены, словно бы изначально их задумали более крупными, а потом чудесным образом уменьшили, сохранив мельчайшие детали: ноздри с булавочную головку, раскосые глаза как капельки чернил. Одна уселась на обрезок картонной трубки, ступни вывернуты наружу, толстые ягодицы в густом меху, будто в шароварах, — миниатюрный джинн. Обезьянка пронзительно свистит, и стекло лишь слегка приглушает звук. Десять лет назад, когда Варя только начала работать в лаборатории, она приняла визг мармозеток за сигнализацию где-то в глубине здания.
— Так бывает иногда, — объясняет Варя, подходя к вольеру. — Это не то, что вы подумали.
— Это не страх?
Гость поворачивается к Варе лицом, и Варя поражена: совсем молодой, почти мальчик! Поджарый, как борзая; длинный любопытный нос затмевает другие черты лица. Зато губы пухлые, а когда улыбается, сразу же делается красавцем. Щель между передними зубами придаёт его улыбке что-то детское. Из-под очков в серебристой оправе смотрят карие, как у Фриды, глаза.
— Они устанавливают контакт, — продолжает Варя. — Так мармозетки общаются на больших расстояниях и приветствуют вновь прибывших. Вот резусы, те не дают себя разглядывать. Они чувствуют угрозу и защищают свою территорию. А мармозетки более кротки, к тому же любопытны.
Да, мармозетки менее агрессивны, чем другие обезьяны, но этот громкий свист — и в самом деле знак тревоги. Варя и сама не понимает, что побудило её солгать буквально с первой фразы, да ещё по столь пустячному поводу. Может, всё дело в его взгляде: он смотрит на неё с напряжённым любопытством — должно быть, точно так же смотрел минуту назад на обезьян.
— Вы, наверное, доктор Голд? — обращается он к ней.
— А вы мистер ван Гальдер? — Руку Варя не подаёт в надежде, что и он не подаст, но гость протягивает свою, и Варя нехотя пожимает. И тут же отмечает про себя его прикосновение, его манеру.
— Да. Зовите меня просто Люк.
Варя кивает.
— Пока мы не получили вашу флюорограмму, я не смогу провести вас в лабораторию. Так что сегодня покажу вам главный корпус.
— Вижу, вам каждая минута дорога, — широко улыбается Люк.
Его шутливый тон внушает Варе тревогу. Журналисты, они всегда так: держатся с тобой по-приятельски, втираются в доверие — и выкладываешь им то, о чём стоило бы молчать. Последним, кого пустили в лабораторию, был тележурналист, чей сюжет привёл спонсоров в такое бешенство, что Институту Дрейка пришлось построить новый игровой вольер, чтобы их задобрить. Репортёр, конечно же, выбрал самые обличительные кадры, где резусы с рёвом трясут прутья клетки, будто и не их только что покормили.
Варя ведёт Люка в вестибюль, где за стойкой сидит дюжий охранник, уставившись в газету.
— С Клайдом вы, наверное, уже знакомы?
— Конечно! Мы старые друзья. Он только что мне рассказывал про день рождения мамы.
— Ей в прошлом месяце сто один стукнуло, — вставляет Клайд, отложив газету. — Мы с братьями поехали в Дейли-Сити и закатили ей праздник. На улицу она не выходит, так мы заплатили хору из её церкви, чтобы приехали ей спели. Она до сих пор все гимны наизусть помнит.
За десять лет работы в лаборатории Варя и словом не обменялась с Клайдом, не считая дежурных приветствий. Варя тянется к тяжёлой стальной двери, жмёт на кнопки, набирая код, который недавно сменила Энни.
— Вашей маме сто один?
— А то! — отвечает Клайд. — Вам бы её изучать вместо обезьян!
Институт геронтологии имени Дрейка — ряд прямоугольных белокаменных громадин, похожих на корабли инопланетян, — построен на вечнозелёных склонах горы Берделл. Его территория почти в пятьсот акров лежит между национальным парком Оломпали и ранчо Скайуокер, среди нетронутой дикой природы. Корпуса громоздятся на полпути к вершине, в зарослях калифорнийских лавров и чапараля. Варе эта гористая местность всегда казалась неприглядной, запущенной — непролазные колючки, лавры будто чьи-то косматые бороды, — но Люк ван Гальдер, воздев к небу руки, со вздохом восклицает:
— Боже, работать в таком месте! Плюс двадцать в марте! В обеденный перерыв можно по заповеднику гулять!
Варя достаёт солнечные очки.
— Такого, увы, не случается. В семь утра я уже на работе. И, бывает, до самого вечера не знаю, какая сегодня погода. Видите вон то здание? — Она показывает рукой. — Это наш главный корпус. Построен по проекту Лео Чена. Он известен своей любовью к строгой геометрии. Вы ведь машину поставили на стоянке для посетителей? Оттуда видно, что здание — правильный полукруг. Окна со всех сторон. Отсюда они кажутся маленькими, а на самом деле от пола до потолка. — Она останавливается в полусотне шагов от лаборатории приматологии, в четверти мили от главного корпуса. — Есть у вас блокнот?
— Я вас слушаю. А факты могу и позже проверить.
— Как считаете нужным.
— Еще успею всё это достать, я ведь целую неделю здесь буду. — Люк улыбается, вскинув брови. — И мы, должно быть, присядем.
— Присядем, конечно, — отвечает Варя, — рано или поздно. Но с журналистами общаться я не привыкла, и, надеюсь, вы меня поймёте, если кое-что я буду объяснять на ходу. Учитывая формат исследования, надолго отлучаться из лаборатории мне нежелательно.
С Люком она почти одного роста, смотрит ему глаза в глаза. Лицо его сквозь её дымчатые очки кажется плоским и бесцветным, но в каждой чёрточке читается изумление. Чем же он так удивлён — её сухостью, деловитостью? Будь на её месте заведующий-мужчина с теми же чертами, Люк наверняка бы не удивился. Её минутный стыд за свою холодность тут же сменяется спокойствием. Она, выражаясь языком приматологов, доминирующая особь.
Люк, перебросив рюкзак на живот, достаёт чёрный диктофон:
— Вы не против?
— Пожалуйста, — отвечает Варя. Люк нажимает на кнопку «Запись», и Варя шагает дальше. — И давно вы работаете в «Кроникл»?
Ненавистная светская болтовня — примирительное одолжение; по широким мощёным дорожкам они идут вокруг главного корпуса. В лабораторию приматологии ведёт заросшая, чуть ли не звериная тропа. «Загнали нас, диких, подальше», — пошутила как-то Энни, и Варя в ответ засмеялась, хоть и не совсем поняла, о ком речь — об обезьянах или о них двоих.
— Я там не работаю, — отвечает Люк, — я внештатник. Вот взялся статью для них написать. Я работаю в Чикаго, обычно пишу для «Трибюн». Вы письмо моё читали?
Варя качает головой:
— Этим у нас доктор Ким занимается.
Энни, тоже исследователь, с лёгкостью взяла на себя и роль пресс-атташе. Из благодарности Энни за её ловкость в обращении с журналистами Варя согласилась на это недельное интервью для «Сан-Франциско кроникл». Вот уже десять лет лаборатория приматологии ведёт исследование, рассчитанное на двадцать. В этом году нужно подавать заявку на продление гранта. Внимание прессы на присуждение грантов якобы не влияет — официально. На деле же фонды, поддерживающие Институт Дрейка, любят участвовать в чём-то важном, жаждут всеобщего интереса, а если речь об опытах на приматах — одобрения общественности.
— Вам приходилось работать в отделе новостей? — интересуется Варя.
— В колледже. Я был редактором стенгазеты.
Варю разбирает смех. Знала Энни, кого к ней прислать! Люк ван Гальдер — птенец желторотый!
— Интересная, должно быть, у вас работа! Много путешествуете, двух одинаковых заданий не бывает, — говорит Варя, хотя на самом деле не видит в ремесле журналиста ничего увлекательного. — Что вы изучали в колледже?
— Биологию.
— Как и я. Где же?
— В коллежде Святого Олафа. Небольшое учебное заведение близ Миннеаполиса. Я родом из фермерского городка в Висконсине, хотелось учиться поближе к дому.
Варин костюм годится для лаборатории, где нет дневного света и всегда прохладно, но не для улицы. От жары с неё градом льёт пот, и она рада оказаться наконец возле главного корпуса, где трава аккуратно подстрижена, а деревья посажены недавно. Варя ведёт Люка вдоль кольцевой аллеи ко входу, толкает вращающуюся дверь.
— Обалдеть! — ахает Люк, когда они заходят в вестибюль.
Вестибюль Института Дрейка напоминает дворец: двухъярусные потолки, белокаменные вазоны для цветов, каждый размером с детский бассейн. Здесь просторно, как в школьной столовой, полы из привозного белого мрамора. Кучка туристов столпилась возле западной стены, где на плоских экранах показывают видеосюжеты. Другую группу ведут в сторону лифтов. Лифты роскошны — современные кабины из стекла и хрома, с видом на залив Сан-Пабло, — но из сотрудников пользуется ими только семидесятидвухлетний старичок-профессор, специалист по нематоде С. elegans, скрюченный артритом и прикованный к инвалидному креслу. Все остальные, если не больны, ходят по лестнице, даже те, кто работает на восьмом этаже.
— Нам сюда, — показывает Варя. — Можем побеседовать в павильоне.
Люк плетётся следом, глазея по сторонам. Павильон — стеклянная пирамида, как в Лувре, с видом на Тихий океан и гору Тамальпайс. В нём размещается кафетерий с круглыми столиками и безалкогольным баром, к которому уже тянется очередь из десятка туристов. Выбрав самый дальний столик, Варя садится, вешает на подлокотник сумочку
— Обычно здесь народу поменьше, — замечает она. — По понедельникам с утра мы проводим экскурсии.
Она сидит чуть наклонившись вперёд, не касаясь спинки кресла — в попытке удержать равновесие, постоянной бдительностью отвести угрозу, будто расплачиваясь неудобством за безопасность. Как-то раз в детстве, лёжа у себя на верхнем ярусе двухэтажной кровати, она упёрлась в потолок грязной пяткой, любопытства ради. На потолке остался чёрный след. В ту ночь она боялась, что крохотные частички грязи упадут во сне ей на лицо, и долго не могла уснуть. Она так и не увидела, чтобы грязь падала, — значит, не упала. Но если бы она заснула — если бы не следила, — то могла ведь и упасть.
— Наверное, многие стремятся здесь побывать, — говорит Люк и тоже садится. Снимает штормовку, ярко-оранжевую, как жилет постового, и швыряет на спинку кресла. — Сколько людей здесь работает?
— У нас двадцать две лаборатории, в каждой есть заведующий и ещё не меньше трёх человек, в некоторых — до десяти: научные сотрудники, профессора, приглашённые специалисты, лаборанты, магистры, докторанты. В самых крупных лабораториях есть секретари-референты — как у доктора Данэм, она изучает сигналы нейронов при болезни Альцгеймера. Это, разумеется, не считая охраны и обслуживающего персонала. А всего более ста семидесяти человек, большинство — научные работники.
— И все занимаются вопросами омоложения?
— Мы предпочитаем термин «долголетие». — Варя жмурится: хоть она и выбрала самый затенённый уголок павильона, но солнце поднялось выше, и на металлической столешнице играют зайчики. — При слове «омоложение» приходит на ум научная фантастика, криоконсервация, полная эмуляция мозга. Но наш заветный грааль — не просто увеличить продолжительность жизни, а продлить срок полноценной жизни, улучшить качество жизни в зрелом возрасте. Например, доктор Бхаттачарья разрабатывает новое средство от болезни Паркинсона. Доктор Кабрильо стремится доказать, что возраст — главный фактор риска для развития рака. А доктору Чжану удалось купировать сердечно-сосудистые заболевания у пожилых мышей.
— Есть у вас, наверное, и противники — те, кто считает, что людям и так отпущено немало. Кто-то указывает на неизбежность перенаселения, эпидемий, нехватки продовольствия. Не говоря уж об экономических последствиях или о том, кому это на руку в политическом плане.
Варя готова к такому повороту беседы, ведь недоброжелателей им хватало всегда. Как-то в гостях один юрист-эколог спросил у неё: раз уж вы так озабочены борьбой за жизнь, почему бы не заняться охраной природы? В наш век, доказывал он, множество видов растений, животных и целые экосистемы находятся на грани исчезновения. Что важнее — уменьшить выбросы углекислого газа, спасти от вымирания синих китов или добавить к человеческой жизни ещё десяток лет? К тому же, вмешалась его жена-экономист, если увеличится продолжительность жизни, то взлетят и расходы на социальное и медицинское страхование, страна ещё глубже увязнет в долгах. Что скажет на это Варя?
— Конечно, — говорит она сейчас Люку. — Вот почему для Института Дрейка так важна открытость. Мы каждую неделю проводим экскурсии, пускаем в лаборатории журналистов вроде вас: мы должны быть честными с широкой публикой. Но, как ни крути, всякое исследование, всякое решение будет кому-то выгодно, а кому-то нет. Приходится выбирать, на чьей ты стороне. А я всегда на стороне людей.
— Кто-то сказал бы, что вы преследуете личные интересы.
— Кто-то сказал бы обязательно. Но давайте рассуждать логически до самого конца: надо ли прекратить поиски средств от рака? Перестать лечить ВИЧ? Закрыть старикам доступ к медицине — сколько проживут, столько проживут? Теоретически ваши доводы не лишены смысла, но спросите любого, чей отец или супруг умер от инфаркта или от Альцгеймера, — спросите их до трагедии и после, поддерживают ли они наши исследования, и, слово вам даю, в конечном итоге они ответят «да».
— Вот как… — Люк подаётся ей навстречу, руки в замок. Рукав штормовки сползает на пол — Значит, это дело глубоко личное.
— Мы стремимся облегчить страдания людей. Это такой же моральный долг, как спасти китов, разве нет? — Это Варин козырь: вопрос, способный утихомирить спорщиков на вечеринке, оживить дискуссию на всякой публичной лекции. — У вас куртка… — говорит она, поморщившись.
— Что?
— У вас куртка на полу.
— А-а… — отмахивается Люк, оставив куртку лежать под креслом.
29
Из лаборатории Варя выходит уже в сумерках. Когда она на полпути через мост Золотые Ворота, на мосту зажигаются огни. Обогнув мыс Лендс-Энд, миновав Музей Почётного легиона и особняки района Сиклифф, она въезжает на стоянку до я посетителей на Джири-стрит. Расписавшись в регистратуре, идёт тропинкой к корпусу Герти.
В пансионе «Добрые руки» Герти живёт уже два года. Несколько месяцев после гибели Дэниэла она оставалась в Кингстоне, пока Майра и Варя решали, как быть дальше. Но в мае 2007-го Майра, вернувшись с работы, нашла Герти на заднем дворе, на полпути из сада. Та лежала ничком, левая щека прижата к земле, возле подбородка прозрачная лужица слюны. Правая рука в крови — оцарапалась о проволочную изгородь. Майра закричала, но Герти сама поднялась и даже пошла. После томограммы и анализа крови ей поставили диагноз: инсульт.
Варя была вне себя, иного слова не подберёшь. Печали она почти не чувствовала, лишь ярость, слепую головокружительную ярость, когда услышала наконец голос Герти.
— Почему, — бушевала Варя, — почему ты не позвонила Майре? Ты же могла встать! Могла ходить! Так почему не зашла в дом и не позвонила Майре — а если не ей, то мне?
Одной рукой она прижимала к уху мобильник, в другой тащила чемодан — она садилась на самолёт, вылетающий в Кингстон из Международного аэропорта Сан-Франциско.
— Думала, умираю, — ответила Герти.
— Но ведь скоро поняла, что не умираешь!
Тянулось молчание, и в нём Варя услышала правду, которую знала с самого начала, — она-то и вызвала столь буйную ярость. «Я ждала смерти. Я хотела умереть». Варя не нуждалась в словах, она и так всё понимала. И причину знала — как же не знать, — и всё равно сердце разрывалось от мысли, что Герти могла её покинуть по собственной воле, именно сейчас, когда их всего двое на свете.
Последствия не заставили себя ждать. У Герти стали путаться мысли, немела левая рука, подкашивались ноги. Полгода она жила у дочери, но несколько неудачных падений убедили Варю, что Герти нуждается в постоянном уходе. Объехав три пансиона, в итоге они выбрали «Добрые руки», потому что здание — кремовое с бирюзовым, над каждым балконом жёлтый козырёк — напомнило Герти домик у моря, который семья Голд снимала в Нью-Джерси. Вдобавок там была библиотека.
Когда Варя входит в комнату матери, Герти встаёт с линялого кресла и на слабых ногах ковыляет к двери. Врачи в пансионе советуют ей пользоваться креслом-каталкой, но Герти его люто ненавидит и всегда ищет повода от него избавиться — так подросток, чтобы улизнуть от родителей, нарочно теряется в толпе.
Герти стискивает Варины руки повыше локтя:
— Ты другая.
Варя, наклонившись, целует мать в мягкую, бархатистую щёку Почти всю жизнь Варя носила длинные волосы, чтобы скрыть большой нос, но теперь она поседела, а на прошлой неделе коротко подстриглась.
— Почему вся в чёрном? — недоумевает Герти. — И волосы как в «Ребёнке Рози»?
— В «Ребёнке Розмари»? — Варя хмурится. — Она была блондинка.
С тихим стуком заходит нянечка, приносит Герти ужин: салат из мелко нарезанных овощей, куриную грудку в жёлтом студенистом соусе, булочку и ломтик масла в золотой фольге.
Герти садится на кровать, нажимает на кнопку — и выдвигается складной столик. Вначале она ненавидела пансион, называла «заведением» — а не «домом», как Варя — и чуть ли не каждую неделю порывалась сбежать. Полтора года назад, после того как Герти позвонила в автосалон Дона Дорфмана, сказала, что хочет купить «вольво С40», и дала Дону Дорфману номер кредитки Шауля, давным-давно заблокированной, Герти выписали антидепрессант, и ей стало лучше. Теперь она посещает курсы лекций — «Сражения Второй мировой войны» и всеми любимую «Частную жизнь президентов», играет в маджонг с компанией разбитных вдовушек, ходит в библиотеку и даже в бассейн — возлежит на надувном матрасе, как королева, и приветствует всякого, до кого можно докричаться.
— Не понимаю, почему ты не заглядываешь к нам в столовую, — ворчит Герти, когда уходит нянечка. — Сидела бы со всеми за столом, общалась. А то и поела бы.
Но среди новых Гертиных подруг Варя не в своей тарелке. Только и знают, что сплетничать — к кому сын собирается в гости, чья внучка недавно родила. Узнав, что Варя одинока и бездетна, они ужаснулись, потом стали её жалеть. И почти не проявили интереса к её исследованиям, призванным, кстати, помочь таким, как они. «Но как же без детей? — не унимались они, будто Варя им солгала. — И не с кем разделить жизнь? Жалость-то какая!»