Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
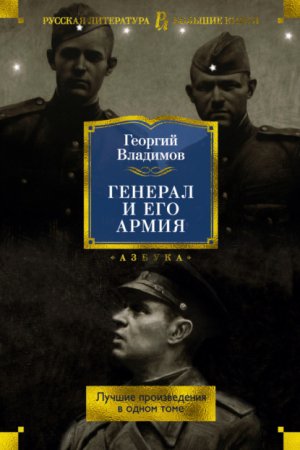
Был счастлив генерал Кобрисов – тем, что Мырятинский плацдарм оказался самым красивым – и недорогим – решением Предславльской операции, и красоту эту оценили даже те, кто попытался скинуть его с Тридцать восьмой. Сбитый с коня и ставший пешкою, он все же ступил на последнее поле, и пусть-ка попробуют не признать эту пешку ферзем! И сердце его было полно солдатской благодарности Верховному, который его замысел разгадал и понял, что Мырятин был ключом не к одному Предславлю, но ко всей Правобережной Украине. И если так хочет Верховный, чтобы Предславль был взят именно к 7 Ноября, ну что же, он сделает все возможное, чтоб так оно и было. В конце концов, всем необходим праздник. Он думал об этом, проезжая по переправе, трясясь по пустынной рокаде, залитой серебряно-голубым светом, и видя далекие синие подфарники машины, на которой выехали его встречать.
Был счастлив ординарец Шестериков, что не придется коротать век без генерала, еще столько всего впереди у них, одной войны года на полтора, а еще же будет в их жизни Апрелевка, воспоминания о днях боевых, о том, как встретились, это уж без конца! Ну а погибнуть придется – так вместе же.
Был счастлив адъютант Донской, наблюдавший визуально все тернии генеральской судьбины и пожелавший себе, чтоб миновала его чаша сия. Преисполнясь мудрости, он так себя и спросил: «Ну зачем, зачем тебе, Андрей Николаевич, эта головная боль?» И все чаще прикидывал он на слух, и все больше нравилось ему слово «адъютант». Что-то в нем слышалось энергичное, красивое, молодое.
И был счастлив водитель Сиротин, освободясь от своих страхов, что с этим генералом он войну не вытянет. С последней «рогатки», где они заночевали, он сумел-таки дозвониться до Зоечки, он сообщил ей маршрут и время прибытия – и мог быть спокоен за всех четверых. Они уже не были песчинкой, затерянной в бурном водовороте, всемогущая тайная служба распростерла над ними спасительные крыла – и никакой озноб, ни предчувствие, ни мысль о снаряде, готовом покинуть ствол, не мучили его в ту минуту, когда подвыпивший комбат, выстраивая «параллельный веер», скомандовал наводить в правый срез луны, и грустный наводчик, подкручивая маховики, ловя в перекрестье молодой месяц, приникал натруженной бровью к резиновому оглазью панорамы.
1996Москва – Niedernhausen
Три минуты молчания
Ты не Дух, – он сказал, – и ты не Гном.
Ты не Книга и ты не Зверь.
Не позорь же доброй славы людей,
воплотись еще раз теперь.
Живи на Земле и уст не смыкай,
не закрывай очей
и отнеси сынам Земли
мудрость моих речей:
что каждый грех, совершенный двумя,
и тому, и другому вменен.
И… Бог, что ты вычитал из книг, да будет
с тобой, Томлинсон!
Р. Киплинг
Глава первая
Лиля
1
Сначала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове.
Я смотрел на черную воду в гавани – как она дымится, а швартовые белеют от инея. Понизу еще была видимость, а выше – как в молоке: шагов с десяти у какого-нибудь буксирчика только рубку и различишь, а мачт совсем нету. Но я-то, когда еще спускался в порт, видел – небо над сопками зеленое, чистое и звезды как надраенные, – так что это ненадолго: к ночи еще приморозит и Гольфстрим остудится. Туман повисит над гаванью и сойдет в воду. И траулеры завтра спокойненько выйдут в Атлантику.
А я вот уже не выйду. Я свое отплавал. И дел у меня никаких в Рыбном порту не было; просто завернул попрощаться. Посмотрю в последний раз на всю эту живопись, а после – смотаю удочки да и подамся куда-нибудь в Россию. В смысле – на юг.
Тут они являются, два деятеля. Вынырнули из тумана.
– Кореш, – кричат, – салют!
Оба расхристанные, шапки на затылке, телогрейки настежь, и пар от них, как от загнанных.
– Салют, – говорю, – кореши. Очень рад видеть.
А на самом деле – никакие они мне не кореши. Ну, с одним-то, с Вовчиком, я корешил недолго, рейса два сплавали вместе под тралом, даже наколками обменялись. У него на пальцах «Сеня» выколото, а у меня – «Вова». Ну, выколото, и ладно. А второго-то, пучеглазого, я вообще в первый раз видел. А он-то громче всего и орал. И с ходу лапаться полез мослами своими загребущими.
– Гляди, кого обнаружили! Нос к носу вышли – при такой видимости. Как это понимать, Вовчик?
«А так и понимать, – думаю, – что ты носом своим лиловым всегда кого надо обнаружишь. А раньше всего – денежного человека». Видно же, с кем имеешь дело – с бичами непромысловыми[21]. Которые в море не ходят, только лишь девкам травят про всякие там «штормяги» и «переплеты». Не портовым девкам, а городским. А все-то ихние «переплеты» – сползать раз в день отметиться в кадрах, лучше всего – под вечер, когда уже вся роль на отходящее судно заполнена. Ну и дважды в месяц потолкаться возле кассы, получить свои законные – семьдесят пять процентов. Чем не жизнь! И вечно они кантуются на причалах, когда траулеры швартуются и ребята на берег сходят с авансом. Тут они тебя прижмут – гранатами не отобьешься. «Салют, Сеня! Какие новости? Говорят, в Атлантике водички поубавилось, пароходы килём по грунту чешут, захмелиться бы надо по этому поводу. Моряки мы или не моряки?» И знаешь ты их как родных, а все равно – и поишь, и кормишь, потому что любому рылу береговому рад, и душа твоя просится на все четыре стороны.
– Что, – спрашиваю, – бичи? На промысел топаете?
– Какой теперь, к шутам, промысел? – пучеглазый орет. – Не ловится в этот год рыбешка. Научилась мимо сетки ходить.
– А ты почему знаешь?
– Осподи! Сами ж неделю как с моря.
А море он в позапрошлом году видел. В кино. Потому что у нас не море, а залив. Узкий, его между сопками и не видно. А неделю назад я сам вернулся из-под селедки, и этот же Вовчик меня на этом же самом причале встретил.
Смутился Вовчик.
– Ну где ж неделя, Аскольд? Больше месяца.
– Да где ж месяц?
– А где ж неделя?
Уйти бы мне от греха подальше, но, сами понимаете, интересно же – кто сегодня пришел, кого в последний мой день принимают в порту, а верней всего у бичей узнаешь, можно к диспетчеру не ходить.
– Ладно, – говорю, – считаем: неделя без году. Кого встречаете, Вовчик?
– Своих, трехручьевских, – отвечает мне Вовчик. А он и правда к женщине одной, инкассаторше, на Три Ручья[22] ездил. Трехручьевские ему, конечно, свои. – Триста девятый пришел, «Медуза».
Ну и пошел, конечно, обыкновенный рыбацкий треп:
– А куда ходили?
– К Жорж-Банке[23].
– А что брали?
– Окуня брали, хека серебристого.
– И хорошо брали?
– Не сильно.
– Штормоваться пришлось?
– Что ты! Штиль всю дорогу, хоть брейся. Гляди в воду и брейся. Хотя окунь-то, он в штиль не любит ловиться.
– Значит, и плана не набрали?
– Да почти что в пролове. Премия-то, ясно, накрылась. Ну, гарантийные получат, и коэффициенту набежит; под Канадой – там вроде ноль-восемь.
Все знают бичи: и кто куда ходил, и как рыбу брали, и кто сколько получит. Зато сами в пролове не бывают.
– Дак вот, плешь какая, – Аскольд опечалился. – Пришли ребята с Жорж-Банки, четыре месяца берега не нюхали, а их в порт не пускают. Локатор из строя вышел. Со вчерашнего дня и стоят на рейде, видимости ждут.
– Что ж, – говорю, – зато целее будут.
Но это они умеют мимо ушей пропустить. Помолчали для вежливости. Вовчик спрашивает:
– А у тебя чего, отход на сегодня назначен?
– Нет, – говорю, – кончилась для меня эта музыка.
– Списали, значит?
– Зачем? Сам решил уйти.
– Что ж так?
– А вот так. Надоело.
– И документы забрал?
– За этим, что ли, дело – с тюлькиной конторой расчихаться?
– Н-да, – говорит Вовчик, – куда ж ты теперь пойдешь?
– Не пойду, – говорю, – а поеду.
– На другое море?
– Люди, Вовчик, не только ж по морю ходят. И на сухом месте объякориться можно.
– Можно. Да смотря как.
– Ну, по крайней мере, не как у тебя, по-глупому: ни в море, ни на земле.
Аскольд стоял и помалкивал, губы развесив, как будто его не касалось. А Вовчика я все же смутил. Да ведь он уже долго бичевал, пообвыкся в бичах, плюнешь в него – утрется.
– Что ж, – говорит Вовчик, – тут грех отговаривать. Если человек решился. Может, захмелимся по этому поводу?
– Да захмелиться-то недолго…
– А что мешает? Монеты кончились? Вон, Аскольд пиджак может заложить, ты расчет получишь – выкупишь.
– Монеты не кончились, Вова. Дураки, – говорю, – кончились.
За такие речи любой моряк дал бы мне по глазам. Но эти уже и забыли, когда и звались по-честному моряками, они только переглянулись, когда я сказал про монеты; Аскольд даже губу лизнул. А все деньги у меня при себе были, в платке, в нагрудном кармане, заколотые булавкой, – тысяча двести новыми. Все, что осталось с последней экспедиции. Мы ходили под селедку в Северное, к Шетландским островам, и рыба хорошо заловилась – иной раз по триста, по четыреста бочек в день брали, – поуродовались, как карлы[24], зато и премию взяли, и прогрессивку. И тридцать процентов начислили мне полярки[25]. А истратил я – на папиросы в лавочке, на лезвия, ну и долги по мелочам роздал, и матери по аттестату. Ну, приход свой, конечно, отметил – рублей на полста. Но уж в кредит на плавбазах не взял ни на рубль, и на берегу ни одной стерве не перепало. Кончился для некоторых Сенька Шалай, списывается по чистой и аванса не просит.
Так вот, я и говорю им:
– Монеты не кончились. Дураки кончились.
– Как это понимать, Вовчик? – Аскольд понемногу обидеться решил, багровый сделался, глазищи только на шапку не вылезли. – Это он, выходит, с матросами не желает знаться!
А Вовчик, друг мой, кореш, засмеялся и говорит:
– Он же шпак теперь без пяти минут, разве не слышал? Он теперь в Крым поедет, будет там на пляже придуркам травить, какая в Атлантике сильная погода.
Хотелось мне врезать ему, но ведь кореш все-таки, да и я ему тоже не комплименты говорил, – раздумал и пошел от них подальше. У меня в этот день была мечта – обойти все причалы, судоверфь, сходить на катере в доки на Абрам-мыс, везде побывать, где я бывал, откуда уходил в море или в ремонте стоял, нес береговую вахту, – а теперь вот сразу и расхотелось. Потому что еще кого-нибудь встретишь и не отвяжешься, такие пойдут беседы.
– Обожди-ка! – Вовчик мне крикнул. Так они и стояли на пирсе, но уже лица не увидишь, одни ноги свисали из тумана. – Значит, не повстречаемся больше? Так, что ли, кореш? А мне и подарить тебе на прощанье нечего.
– Подари, когда будет, Аскольду.
– Он вот и сам предлагает: подарить бы чего дураку. Чтоб хоть память осталась. А хочешь – мы тебе курточку сосватаем?
– Какую еще курточку?
– Лопух, в чем же ты уедешь?
Подошли, и Вовчик меня взял за пальто, раздраил на груди.
– Срам! Девки на первом броде[26] засмеют. Ну, флотский! Ну, северный! Бостоном не мог обшиться, макен[27] позаграничнее нацепить. Жмешься вот, а себе же и прогадываешь. Где он, этот-то, с курточкой?
– Здесь он. – Аскольд куда-то рукой махнул. – Промеж пакгаузов ходит.
– Понимаешь, механичек тут один, с торгового, такого курта загоняет: ты во сне увидишь, проснешься и опять скорей заснешь!
– Норвежеская! – пучеглазый орет. Чем другим, а глоткой бог не обидел малого. – С мехом, понял, на подстежке. Цветом не то вроде серенькая, а не то, понял, темненькая такая, в дымчик. Что ты! У спекулей разве такую достанешь?
– А он что, не спекуль? Торгаш[28] этот.
– Ну где ж спекуль? – Вовчик мне доказывает. – Сотнягу просит. Можно считать, даром отдает. Ну бывает несчастье у человека – купил, а не в размер. А на тебя, мы так прикинули, в сам раз.
А я, в том-то и дело, насчет такой курточки давно мечтал. Сраму-то на мне не было, – вот уж на них срам, это точно! – а у меня пальто было велюровое, с мерлушкой, костюм коверкотовый, шапка тоже в порядке. Но все мое – что на мне надето. Так и затаскать недолго, следить же за мной некому. А главное, во внешнем облике, как говорится, ничего у меня морского-то не было, один тельник полосатый под рубашкой. А все-таки море меня видело, память должна же остаться!
– Чего раздумываешь? – спросил Вовчик. – Так он тебя и ждал, торгаш, с такой курточкой! Ну-к, стой тут на пирсе, никуда не беги…
Прихлопнули меня по плечам, и нет их, растаяли. А я стою и жду. А потом думаю: лопух я, вот уж действительно! Доверился бичам, чтоб они мне барахло сватали. Ведь они четвертак за комиссию попросят, у них такой прейскурант, за прекрасные глаза ничего не делается. А нужна мне ихняя комиссия! Что я, сам бы не мог торгаша этого повстречать? К тому же на моих золотых, смотрю, уже два пробило, вот-вот стемнеет.
И снялся я с места, пошел по причалам, под кранами, вдоль пакгаузов. Потом увидел – ни к чему все это. Да и туман. Хороший я себе денек выбрал для прощания! Но ведь его не выбираешь, проснешься как-нибудь утром – или сегодня, или никогда! А почему именно сегодня, не надо и спрашивать. Как спросишь – так и раздумаешь.
И все-то я знал в Рыбном порту, любую дорогу отыскал бы с завязанными глазами – только по запаху, по звуку. Вот я слышу: соленой рыбой уже не пахнет, а пахнет мороженым свежьем, аммиаком, – это я на десятом причале, возле рефрижераторов. Дальше – мочеными досками запахло, ручники стучат по железу, шофера матерятся, – тарные склады, двенадцатый причал, здесь контейнеры набивают порожними бочками. Еще дальше – нефтяной дурман, и насосы почмокивают, – там уже тринадцатый, там топливо берут и воду.
Если б я еще лет пять проплавал, я бы и не это знал – чьи там гудки перекликаются, чья сирена попискивает – водолазов зовет или сварщика, и как этого диспетчера зовут, который в динамик хрипит на всю гавань:
– «Чеканщик»! Включите радио, «Чеканщик»!.. Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал!..
Но я, пожалуй, и так слишком долго плавал. Хватило бы мне и года. И ничего бы я такого не переживал. Уехал бы и как-нибудь прожил без моря. А может быть, и не прожил бы – человек же про себя ничего не знает.
У Центральной проходной я оглянулся напоследок и ничего не увидел. Туман загустел – кажется, руку протянешь и пальцев своих не разглядишь.
Однако бичи меня разглядели. Совсем, бедняги, задохлись, но догнали у проходной. И с ними торгаш с чемоданчиком. А я и забыл про них.
– Что же ты подводишь? – Аскольд кричит. – Мы к тебе со всем доверием, а ты и закосил. Как это понять, Сеня?
Торгаш меня сразу глазами смерил.
– Этот, что ли? Напялим.
Он в порядке был морячок – ладненький, резвый, шуба-канадка на нем с шалевым воротником, мичманка на месте, козырек на два пальца от брови. Это мы, сельдяные, все больше в пальтишках, в телогрейках. А торгаши себя уважают.
Мы отошли шага на два, за щиты с газетами, и тут он вытащил свою курточку.
Какая это была курточка! Просто явление природы, и более того. Поперек груди – белые швы зигзагами, подкладка – сиреневая, скрипучая, карманы внутри на «молниях», и по бокам еще два косых, белым мехом отороченных, и капюшон на меху, а от него до пояса «молния», а в плечах погончики вшитые с «крабом», безо всяких там якорей, якоря – это старо, и рукава тоже мехом оторочены. А насчет цвета и говорить не будем – как штормовая волна баллах при восьми и когда еще солнце светит сквозь тучи…
– Сдохнуть можно, – пучеглазый чуть не навзрыд. – Эх ты, мой куртярик!
– Ладно ты, – Вовчик ему сурово. – Не куртярик, а прямо-таки куртенчик. Ты только руками не лапай, твоим он не родился.
– Ну как? – торгаш говорит. – Тот самый случай?
Мне бы спросить, почем такое сокровище, но так же не делается, так только вахлаки на базаре торгуются, надо сперва намерить. Я скинул пальто, дал его Аскольду подержать, а пиджак взял Вовчик. Курточка мне и вправду оказалась «в сам раз», ну чуть свободна в плечах. Но это ведь не на год покупается, я же еще раздамся.
Они меня застегнули, прихлопали, поворотили на все стороны света, торгаш с меня шапку снял и свою мичманку мне надел, как полагается. Потом открыл чемоданчик – там у него в крышку вделано зеркальце.
– Не торопись, – говорит, – посмотрись подольше. Надо же знать, какое действие производишь. Акула увидит – в обморок упадет.
Вид был действительно – как у норвежского шкипера. Только скулы бы чуть покосее. Рот бы чуть пошире. Глаза бы – не зеленые, а серые. И волосы без этой дурацкой рыжины. Но ничего не поделаешь.
– Сколько? – спрашиваю.
– Ну, если нравится, то полторы.
– Как полторы? Ты же сотню просил.
– За такую курточку, родной, не просят. За нее сами дают и говорят спасибо. Кто тебе сказал – сотню?
Бичи, конечно, уже по сторонам загляделись.
– А больше, – говорю, – она не стоит.
Торгаш моментально мичманку с меня стащил и куртку расстегивает.
– Будь здоров, – говорит. – Привет капитану!
– Постой. – Я уже понял, что так просто мне с нею не расстаться. – Сколько, если для конца?
– Вот для конца как раз полторы. Для начала две хотел, но – засовестился. Вижу – идет тебе.
Я потянулся было за пиджаком, а Вовчик уже, смотрю, вынул всю пачку, развернул платок и сам отмусоливает пятнадцать красненьких. Торгаш их перещупал, сложил картинками в одну сторону, последнюю – поперек, как в сберкассе, и нету их, сунул за пазуху. Аскольд тем временем надрал газет со стенда, завернул мне пиджак.
– Ну, сделались? – торгаш говорит. – Носи на здоровье.
– Что ты! – Аскольд ему улыбается и трогает под локоть. – Не-ет, это мы еще не сделались. Не знаешь ты нашего Сеню. А он у нас – добрый человек. Правда же, Сень?
Откуда ему, пучеглазому, знать, добрый я или злой? Первый раз человека видит. Добрый – значит всю капеллу теперь захмели. А торгаш и так на мне руки нагрел, с ихней же помощью.
– Да уж, – говорю, – добрей меня нету!
– А замечаешь, Сень, – все пучеглазый не унимается, – мы с тебя за комиссию ничего не берем. А вообще – берут. Замечаешь?
Да, думаю, тяжелый случай. Ну, что поделаешь, раз уж я в эту авантюру влез.
– Гроши-то спрячь, – Вовчик напомнил. – Раскидаешься.
Я взял у него пачку, уже завернутую и булавкой заколотую, и так это небрежно затиснул в курточку, в потайной карман. Как она, эта пачка, только не задымилась от ихних глаз. Любим же мы на чужие деньги смотреть!
2
И мы, значит, с ходу взошли в столовую – тут же, у Центральной проходной, и сели в хорошем уголке, возле фикуса. А над нами как раз это самое: «Приносить-распивать запрещается».
– Это ничего, – говорит Вовчик. – Это для неграмотных.
Одолжил у торгаша самописку и приделал два «не». Получилось здорово: «не приносить и не распивать запрещается».
– Вот теперь, – говорит, – для грамотных.
Но мы всё сидели, грамотные, а никто к нам не подходил. Официантки, поди-ка, все на собрание ушли – по повышению культуры обслуживания.
– Бичи, – говорю, – не отложить ли нам встречу на высшем уровне?
– Что ты! – Аскольд вскочил. – С такими финансами мы нигде не засидимся. Сейчас пойду Клавку поищу, Клавка нам все устроит, на самом высшем!..
Пошел, значит, за Клавкой. А торгаш поглядывал на нас с Вовчиком и посмеивался. У них в торговом порту все это почище делается, и никто этих дурацких плакатов не вешает. Все равно же приносят и распивают, только не честь по чести, а вытащат из-под полы и разливают втихаря под столиком, как будто контрабанду пьют или краденое.
Пришла наконец Клавка, стрельнула глазами и сразу, конечно, поняла, кто тут главный, кто платит. Передо мною и с чистой скатерки смела.
– Мальчики, – говорит, – я вам все сделаю живенько, только чтоб по-тихому, меня не выдавайте, ладно?
– Сколько берем? – Аскольд захрипел. По-тихому он не умеет.
– Ну сколько, – говорю, – четыре и берем, раз уж мы сидя, а не в стоячку. Пора уже вам жизнь-то понимать!
– Вот это Сеня! Добрый человек! А ты думаешь, Клавдия, почему он такой добрый? А он с морем прощается нежно, посуху жить решил.
Очень это понравилось Клавке.
– Вот слава богу! Хоть один-то в море ума набрался. Ну, поздравляю.
– А ты думаешь, Клавдия, мы не добрые? Видишь, как мы его прибарахлили?
– Вижу. Хорошо, если эту курточку и его самого до вечера не пропьете. – Клавка мне улыбнулась персонально. – Ты к ним не очень швартуйся, они же пропащие, бичи. А ты еще такой молоденький, ты еще человеком можешь стать.
Вся она была холеная, крепкая. Красуля, можно сказать. А лицо этакое ленивое, и глаза чуть подпухшие, будто со сна. Но я таких – знаю. Когда надо, так они не ленивые. И не сонные.
– Кому от этого радость, – спрашиваю, – если я человеком стану? Тебе, что ли?
Опять она мне улыбается персонально, а губы у ней обкусанные и яркие, как маков цвет. Наверно, никогда она их не красила.
– Папочке с мамочкой, – говорит. – Есть они у тебя?
– Папочки нету, зато мамочка ремнем не стегает. Неси, чего там у тебя есть получше.
– Не торопись, все будет. Дай хоть наглядеться на тебя, залетного…
Торгаш посмотрел ей вслед, как она плывет лодочкой, не спеша, чтоб на нее подольше глядели, и даже присвистнул.
– Хорошая, – говорит, – лошадка. И ты уже определенное действие производишь. Я бы уж не пропустил, ухлестнул бы на твоем месте.
– Что же не ухлестнешь?
– Своя имеется. Пока хватает.
– Тоже и у меня своя.
– Это другое дело.
Правду сказать, насчет «своей» это я так брякнул. Были у меня «свои», только они такие же мои, как и дяди-Васины, – но вот за такими Клавками, крепенькими, гладкими, на портовых щедрых харчах вскормленными, я еще салагой гонялся. И с ними-то я быстрее всего состарился.
Принесла она «рижского» на всех и закусь, какой и в меню не было, – прямо как для ревизии, – жаркое «домашнее» и крабов, даже копченого палтуса. Поставила передо мною поднос и так это скромненько:
– Угодила?
Я и не посмотрел на нее.
– Ух ты, рыженький, какой сердитый! А говорил – что жизнь понимаешь. Как же ты ее понимаешь, скажи хоть?
Ни больше ни меньше захотела знать! И еще я почему-то рыженький для нее. Ну, есть малость, но никто меня так не называл.
– Сколько надо, – говорю, – столько понимаю. На все другое боцман команду даст. Что касается тебя – не глядя вижу.
– Ах, – говорит, – какой залетный!..
Опять они с Аскольдом ушли, потом он приносит, озираясь, четыре поллитры под телогрейкой, и мы с них зубами содрали шапочки, налили по полному и закрасили пивом. Они-то по половинке решили начать – для долгой беседы, а мне – о чем с ними особенно беседовать, хлопнул его весь, ну и другие за мной, ободренные примером.
– А ты здоров! – торгаш говорит.
Он и то заслезился, а уж, наверно, отведал там, в загранке, и ромов, и джинов. Стали закусывать быстренько, как будто нас кто-то гнал.
– Вот, Сеня. – Вовчик ко мне придвинулся и начал проповедовать. Он как выпьет, всегда чего-нибудь проповедует. Тем он мне и надоел. – Видишь, как все красиво, по-мирному получилось, а ты уже и знаться с нами не хотел. А я тебе так скажу, Сеня: не отрывайся ты от бичей, они тебе родная почва. Настоящих бичей, как мы с Аскольдом, мало осталось, всё – шушера, никто тебе в беде не поможет. Вот ты с флота уходишь, а никого вокруг тебя нету, один ты по причалам бродишь. Почему бы это, Сеня? А мы тебя и проводим, и на поезд посадим, рукой хоть помашем тебе.
Торгаш мне подмигнул:
– Пропаганда.
Но мне вдруг так жалко стало Вовчика. Ведь спивается мужик, и ничего я тут не поделаю. Я его бить хотел – ну куда его бить! Руки у него трясутся, капли по бороде текут, глаза мутные, в них жилки краснеют. И Аскольда этого пучеглазого мне тоже стало жалко. Орет, дурень такой, рот у него не закрывается, губы никак не сложит, ну жалко же человека, разве нет!
И так мне захотелось утешить Вовчика, и Аскольда утешить, и торгаша заодно – наверно, не от хорошей жизни такую куртку толкнул…
– Об чем говорить, бичи! – Это я, наверно, во всю глотку рявкнул, потому что набилось тут много портового народа, и весь народ на меня глядел. – Вечером сегодня отвальную даю – в «Арктике»! Всех приглашаю!
Бичи мои взвеселились, Аскольд ко мне обниматься полез, чуть глаз мне не выколол щетиной.
– Нет, – говорит, – ты мне объясни: за что я тебя сразу полюбил? Вот веришь – не знаю. Но я всем могу сказать: «Это такой человек! Таких теперь нету, все умерли!»
А Вовчик справился с нервами и говорит:
– Отвальная – это здорово! Святой морской закон. А сколько ж ты на нее отвалишь?
– О чем ты говоришь, волосан! – Аскольд ему рот ладошкой прикрыл. – Мелко плаваешь, понял. Не хватит у него, так я пиджак заложу. Сейчас вот Клавку позову и заложу!
– Не надо, – говорю, – поноси еще. Будь другом, поноси.
– Так, – кореш мой, Вовчик, соображает, – а ежели мы с собой кого приведем?
– Валяй, приводи свою трехручьевскую. И я свою приведу.
– Ясное дело, – Аскольд кивнул важно, – какая же отвальная без баб? А кто она у тебя? Может, она какая-нибудь тонкая, не захочет с бичами в ресторане сидеть. Не все ж такие, как ты, Сеня!
– Как это не захочет? Раз вы со мной – захочет.
Вовчик совсем растрогался – опять всем налил по полному, и мы опрокинули, а пивом уже не закрашивали, не до того было, и тут я почувствовал, что не худо бы и кончить.
Я закусил наспех, а потом встал и качнулся, голова кругом пошла, но все же выстоял.
– Салют вам, бичи! До вечера.
– Да посиди ты, – Аскольд меня не отпускал. – И не побеседовали, душой не раскрылись. А ведь интересный же ты человек, содержательный, многогранный!..
– В «Арктике» побеседуем. Все в «Арктике» будет.
Тут Клавка подошла, не понравилось ей, что мы так расшумелись, а я ее взял за плечи и поцеловал за ухом, в пушистый завиток.






