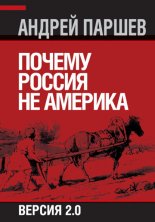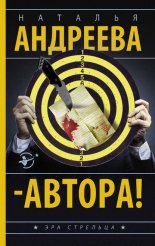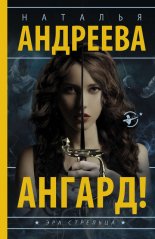Дань псам. Том 2 Эриксон Стивен

Возможно, хотя и не обязательно, на этот раз она зашла слишком далеко.
Грантл открыл глаза и заметил слабо мерцающее облачко, проплывшее над ним и повисшее над спящими братьями Бревно. Повисев, оно вернулось и опустилось в тело Чудной Наперстянки.
Он услышал, как Трелль тихо хмыкнул. Затем: — Интересно, какую игру она затеяла…
Грантл хотел было ответить… но тут сон внезапно охватил его, понес, отнимая разум, выплюнув словно хромую крысу… Влажные луга, высокая трава. Солнце сверкает глазом гневного бога. Ощутив себя потрепанным и оскверненным, он вскочил на все четыре лапы — поза, не показавшаяся необычной, не удивившая его.
Поляну окружали плотные джунгли, из них доносился щебет птиц, крики обезьян и жужжание насекомых — какофония столь громкая и назойливая, что глубоко в его горле родилось раздраженное рычание.
И тут же звуки вблизи затихли, кокон безмолвия окружил его — только гудение пчел и шелест крыльев двух колибри, танцующих над орхидеей, хотя и они тут же пустились прочь.
Грантл ощутил, как встает дыбом шерсть на шее — слишком густая для человека — посмотрел вниз, увидел гладкие полосатые лапы тигра на месте привычных рук и ног.
«Еще один из треклятых снов. Слушай, Трейк, если хочешь, чтобы я стал таким как ты — прекрати посылать видения. Я готов быть тигром, если хочешь — но не лезь ко мне во сны. Я просыпаюсь, чувствуя себя неуклюжим, и мне это не по вкусу. Я просыпаюсь, помня лишь… свободу».
Кто-то приближается. «Их… трое, нет, пятеро. Не большие, не опасные». Он медленно повернул голову, прищурился.
Вышедшие на край поляны существа казались чем-то средним между обезьянами и человеком. Высокие, тонкие и гибкие, с гладким мехом, более густым в паху и подмышками. Два самца несли кривые, обожженные в огне палки; в концы орудий были вставлены клыки какого-то крупного хищника. Самки тащили копья; одна держала не только копье, но и широкий каменный топор во второй руке. Она бросила его на поляну. Орудие плюхнулось, сгибая траву, между Грантлом и группой полулюдей.
Грантл испытал некое потрясение, сообразив, что ему известен вкус этих существ — горячая плоть, кровь, соленый пот. Здесь, в этом теле и этом времени, он охотился на них, повергал на землю, слышал жалобные вопли, и челюсти смыкали роковой захват на горле.
Но сейчас он не голоден, и существа как-то поняли это.
В их глазах блестит благоговейный восторг, рты странно кривятся. Женщина подала голос. Язык был резким, обильным гортанными звуками и внезапными перерывами.
И Грантл понимал его.
— Зверь темноты и огня, охотник во тьме и свете, мех ночи, движение в траве, бог забирающий, узри наши дары и пощади нас, ибо мы слабы и нас мало, и земля эта не наша. Это земля странствий, ибо мы спим и грезим о береге, где много еды и птицы кричат под жарким солнцем.
Грантл понял, что скользит к ним, безмолвный как мысль, и был он жизнью и силой, спаянными воедино. Вперед, пока кремневый топор не оказался у когтистых лап. Голова опустилась, ноздри раздулись — он вдохнул запах камня и пота, старой крови на краях, травы, которой чистили топор, мочи, которой его поливали.
Существа желали объявить поляну своей.
Они молили о позволении, а может, и о большем. О чем — то вроде… защиты.
— Леопард идет по следу и бросает тебе вызов, — сказала женщина. — Но он не пересечет твой след. Он сбежит от твоего запаха, ибо ты здесь владыка, бог, неоспоримый охотник. Прошлой ночью в лесу он забрал моего сына. Мы потеряли всех сыновей. Возможно, мы — последние. Возможно, нам никогда не отыскать берег. Но если нашей плоти суждено питать чужой голод, пусть ты станешь сильнее, выпив нашу кровь.
Сегодня, если захочешь придти и забрать одного из нас, возьми меня. Я старше всех. Я уже не понесу. Я бесполезна.
Потом она склонилась, отбросив копье, и упала в траву. Перекатилась на спину, показав горло.
Они безумны — так решил Грантл. Их свели с ума ужасы джунглей, ведь они здесь чужаки, потерялись, ища какой-то далекий берег. Каждая ночь путешествия приносила новый страх.
Но это сон. Из какого-то древнего времени. Даже если он решит провести их к желанному берегу, сон окончится гораздо раньше. Он проснется, оставив их судьбе. А что, если он вскоре проголодается? Если инстинкт взыграет, заставив наброситься на беспомощную женщину, сомкнуть клыки на горле?
Не отсюда ли появилась идея человеческих жертвоприношений? Когда природа смотрит на тебя жадным глазом, когда у тебя нет для защиты ничего лучше заостренных палок и чадного костра?
Сегодняшней ночью он их не убьет.
Нужно найти и убить кого-нибудь другого. Грантл бросился в джунгли. Его переполнили тысячи запахов, тысячи тихих звуков раздавались из темных теней. Он нес тяжелое тело без усилий, ступал неслышно. Под пологом мира царит сумрак, и так будет всегда — но он видел всё, и блеск крыльев зеленого богомола, и россыпь ландышей на сырой земле, и торопливое бегство тысяченожки. Он пересек тропу оленей, заметил, где они обрывали темнолистные побеги. Перескочил через бревно, сдвинутое с места и разломанное нетерпеливыми рылами кабанов.
Некоторое время спустя, когда наступила ночь, он обнаружил искомый запах. Кислый, жгучий, странный, но почему-то знакомый. Запах то и дело исчезал, доказывая, что оставившая его тварь осторожна, что она отдыхает на деревьях.
Самка.
Он замедлил шаги, ибо нашел следы добычи. Ночь прошла, темнота уступала место оттенкам серого. Если она заметит его, то убежит. Но ведь от него не убегает лишь слон, и ему вовсе не нравится нападать на мудрого левиафана с дурным чувством юмора.
Делая шаг за шагом, он подобрался к месту, на котором она убила добычу. Вапити — вонь его паники еще висит в воздухе. Земля истоптана крошечными копытцами, черные листья пахнут кровью. Грантл остановился, лег. Поднял голову.
Самка леопарда была создана для ночной охоты: черная шкура, пятна едва различимы.
Она смотрела без страха, и Грантл заколебался.
В голове прозвучал голос, сладкий и зловещий: «Иди своим путем, Лорд. Нам нечего делить… если бы я и захотела. Но не рассчитывай».
— Я пришел за тобой, — подумал Грантл.
Глаза ее широко раскрылись, мышцы на шее напряглись. «Значит, все звери имеют ездоков?»
Сначала Грантл не понял вопроса, но затем понимание пришло, принеся внезапную вспышку интереса. — Твоя душа забрела далеко, леди?
«Сквозь время. Сквозь непостижимые расстояния. Сюда каждую ночь уносит меня сон. Я вечно охочусь, вечно вкушаю кровь, вечно ухожу с пути таких как ты, Лорд».
— Меня призвала молитва, — сказал Грантл, только сейчас поняв, что это истина, что оставшиеся позади полулюди действительно воззвали к нему, словно вызов убийцы отвечал врожденному желанию бросить вызов слепому случаю. Его вызвали убивать, понял он, вызвали, чтобы доказать существование судьбы.
«Забавная идея, Лорд».
«Пощади их, Леди».
«Кого?»
— Ты знаешь, о ком я. В этом времени есть лишь один вид существ, способных молиться.
Он ощутил сухую усмешку. «Ты не прав. Хотя все прочие не считают зверей богами или богинями».
— Прочие?
«За много ночей отсюда есть горы, и в горах можно найти крепости К’чайн Че’малле. Есть великая река, текущая к теплому океану, и по ее берегам расположились ямные города Форкрул Ассейлов. Есть здесь и одинокие башни, в которых живут, ожидая смерти, Джагуты. Есть и деревни Тартено Тоблакаев, а в тундре ютятся их родичи Неф-Трелли».
— Ты знаешь этот мир куда лучше меня, Леди.
«Ты все еще намерен меня убить?»
— Прекрати охоту на полулюдей!
«Как скажешь. Но знай, что иногда мой зверь не имеет седока, да и твой зверь охотится сам по себе».
— Понимаю.
Она встала с лежки и стала вниз головой спускаться по сучьям, изящно спрыгнув на мягкую лесную почву. «Почему они так заботят тебя?»
— Не знаю. Возможно, я их пожалел.
«Нашему роду, Лорд, жалость не свойственна».
— Не согласен. Именно ее мы и можем давать, обитая в теле зверей. Видит Худ, только ее мы и можем давать.
«Худ?»
— Бог Смерти.
«Похоже, ты пришел из странного мира».
Удивленный Грантл помолчал. — А откуда пришла ты, Леди?
«Из города Новый Морн».
— Я знаю развалины, называемые Морн.
«Мой город — не развалины».
— Может, ты живешь во времени до появления Худа.
«Может». — Она потянулась, блестящие глаза превратились в щелки. «Я скоро ухожу, Лорд. Если останешься, освобожденный зверь не обрадуется твоему присутствию».
— О. Она так глупа, чтобы напасть на меня?
«И умереть? Нет. Но я не прокляла ее чувством страха».
— Ах, и в тебе есть жалость?
«Не жалость. Любовь».
Да, он тоже понимал, как кто-то способен любить этих великолепных животных, ценить возможность «езды» в их душах как драгоценный дар. — Я ухожу, Леди. Думаешь, мы встретимся еще раз?
«Кажется, мы делим с тобой одну ночь, Лорд».
Она ускользнула, и даже необыкновенное зрение Грантла не помогло ему проследить ее скачки. Он развернулся и потрусил в противоположном направлении. Да. Он чувствует, что хватка слабеет, что скоро он вернется в привычный мир. К бледному скучному прозябанию, к жизни неуклюжего, полуслепого, полуглухого и полумертвого.
Он позволил вырваться глухому, гневному рыку. Обитатели леса замолкли.
Наконец некая смелая мартышка высоко в ветвях швырнула палку. Стук возле левой лапы заставил его отпрыгнуть.
Из темноты сверху донесся кудахчущий смешок.
Буря хаоса притягивала его взор. Буря заполнила полнеба безумием вихря из полос свинцового, серебристого и зернисто-черного оттенков. Он уже мог различить фронт урагана, терзавший почву, поднимавший неспокойную стену песка, пыли и камней. Все ближе.
Неминуемое забвение казалось Дичу не столь уж страшным. Его тащила цепь, сковавшая правую лодыжку. Почти вся кожа слезла — он видел кости и сухожилия локтя, запятнанные грязью и окруженные облачком брызг крови. Колени мало чем отличались от локтя; браслет цепи медленно вгрызался в кость ноги. Он гадал, что случится, когда кость наконец переломится. Что он почувствует? Будет лежать, оставшись наконец в покое, смотря, как цепь и браслет звенят, удаляясь. Он станет… свободным.
Мучения здешнего ада не должны включать боль. Она кажется несправедливостью. Разумеется, боль почти ушла — он слишком устал, чтобы дергаться и трепетать, стискивать зубы и рыдать — но воспоминания еще жгли мозг, словно в черепе разведен костер.
Его тащит по россыпям камней, острые края рвут спину, проводят новые борозды по обнаженному мясу, ударяют о затылок, срывая последние клочки скальпа. Иногда цепь натягивается сильнее, и его переворачивает. Он имеет возможность снова и снова любоваться надвигающейся бурей.
Со стороны движущегося где-то впереди фургона доносятся звуки страдания, сзади слышен неумолчный хор отпавших.
Как плохо, думал он иногда, что могучий демон не нашел его в миг падения, не вскинул на плечо — не то чтобы он смог бы нести больше того, что уже нес, но хотя бы оттащил его в сторону, и массивное колесо не оторвало бы правую руку до плеча, превратив кости и плоть в кровавую кашу. От конечности остались лишь концы рваных жил. После этого он потерял всякую надежду встать и присоединиться к процессии. «Да и слабой была надежда. Я стал еще одним мертвым весом, я влачусь позади, добавляя страданий тем, что тащат повозку».
Неподалеку, почти параллельно ему, огромная замшелая цепь тащит останки дракона. Крылья как рваные паруса, торчащие концы сломанных ребер, лишившая почти всей кожи голова болтается за ободранной шеей. Увидев его в первый раз, он был потрясен, устрашен. Но и сейчас каждый взгляд в ту сторону вызывал волну страха. Неудача могущественного существа — доказательство безнадежности их отчаянных усилий.
Аномандер Рейк больше не убивает. Легион не справляется. Уничтожение все ближе.
«Жизнь боится хаоса. Всегда так было. Мы боимся его сильнее всего иного, ибо хаос — анафема. Порядок сражается против распада. Порядок ищет сотрудничества, видя в нем механизм выживания — в любом масштабе, от заживления ранки на коже до спасения особей и целых видов. Разумеется, сотрудничество не обязано по своей природе быть мирным. Крошечные неудачи обеспечивают конечный успех.
Да, тащась за повозкой, оказавшись на краю существования, я начал это понимать…
Поглядите на меня, вкушающего плоды размышлений.
Рейк, что ты творишь?»
Мозолистая рука сомкнулась на оставшемся запястье, подняла с земли; его тащили вперед, к повозке.
— Бессмысленно.
— Это, — раздался глубокий, размеренный голос, — не имеет значения.
— Я не стою…
— Возможно. Но я намерен найти для тебя местечко в фургоне.
Дич хрипло засмеялся. — Просто оторви ногу, добрый господин, и оставь меня.
— Нет. В тебе может возникнуть нужда, маг.
Нужда? Что за нелепая вещь. — Кто ты?
— Драконус.
Дич снова рассмеялся: — Я тебя искал… теперь кажется, столетия назад.
— Ну, вот и нашел.
— Я думал, ты можешь знать путь спасения. Ну разве не забавно? Если бы ты знал, тебя бы тут не было.
— Кажется логичным.
Странный ответ. — Драконус?
— Что?
— Ты человек логичный?
— Ни в коей мере. Ну, вот и пришли.
Зрелище, которое пришлось увидеть перевернутому лицом вперед Дичу, было страшнее всего, что он уже успел повидать в проклятом мирке Дрангипура. Стена тел, торчащие конечности, лица… вот шевельнулась рука, вот кто-то дернулся… закапал пот… Колено там, плечо здесь. Клубки мокрых волос, пальцы с заостренными ногтями. Люди, демоны, Форкрул Ассейлы, К’чайн Че’малле, существа неизвестной Дичу природы. Одна из увиденных рук, казалось, состоит целиком из металла — шарниры, выемки, штыри, прутья, оболочка железной кожи, вся в разномастных заплатах. Хуже всего оказались глаза, смотрящие с потерявших всякое выражение, оставивших далеко позади даже тоску и отупение лиц.
— Освободите место сверху! — заревел Драконус.
Ему ответили криками «Нет места!» и «Все занято!»
Не обратив внимания на протесты, Драконус полез по стене плоти. Лица исказила боль, ярость, глаза расширились в неверии и возмущении; руки сжимались в кулаки или старались вцепиться в него; однако могучий воитель оставался равнодушным. Дич мог ощущать необычайную силу этого мужа, неумолимую уверенность каждого движения. Он казался непобедимым. Он вгонял в потрясенное молчание.
Они поднимались выше, и тени от искрящегося, бурлящего фронта бури сплетали безумные узоры на боках повозки — как будто естественный для этого мира сумрак опускался с небес. Воздух здесь был холоднее и чище.
Рокочущее продвижение фургона можно было ощутить по колыханию стены, по бульканью трясущейся плоти, ритмическому хору тупых жалоб и стонов. Стена наконец стала наклонной, Дича положили на гамак из кожи, на тела упакованные столь тесно, что поверхность казалась однородно плотной — подобной кочковатому полю с лужицами пота, островками пепла и сажи. Почти все лежали кверху животами, будто смотря в небо. Но небо исчезнет, едва сверху ляжет новый слой. Нет, это невыносимо!
Драконус перекатил его к углублению между двумя спинами. Двое, смотрящие в разные стороны — мужчина и женщина. Внезапное прикосновение к обнаженному женскому телу вызвало возбуждение; Дич выругался.
— Бери что дают, маг, — сказал Драконус.
Дич слышал, как он спускается.
Еще он начал различать отдельные голоса, странные звуки поблизости. Кто-то полз к нему; Дич ощутил, как слабо дернулась его цепь.
— Почти готово. Значит, почти готово.
Он извернулся, чтобы лечь лицом к говорившему.
Тисте Анди. Он был слеп, на месте обоих глаз виднелись устрашающие рубцы от ожогов — только обдуманная пытка может быть столь тщательной. Ноги его кончались культями под самым пахом. Анди тянулся к Дичу; маг увидел, что в руке у существа зажата длинная кость с острым, черным концом.
— Думаешь меня убить?
Тисте Анди помедлил, поднял голову. Черные спутанные волосы обрамляли длинное, опустошенное лицо. — А какие у тебя глаза, дружище?
— Работающие.
Мимолетная улыбка. Анди продвинулся еще ближе.
Дич сумел повернуться так, чтобы оставшаяся рука оказалась сверху. — Звучит глупо, но я все еще хочу защитить себя. Хотя смерть была бы благом. Если она здесь возможна.
— Невозможна, — отозвался Тисте Анди. — Я могу тыкать в тебя палкой всю следующую тысячу лет, и в тебе просто будет много дырок. Много дырок. — Он замолчал, снова озаряясь улыбкой. — И все равно я должен тебя прикончить, потому что иначе ты все испортишь. Будет неразбериха, неразбериха, неразбериха.
— Из-за меня? Объясни.
— Не смысла, если нет глаз.
— У меня они есть, проклятый идиот!
— А они могут ВИДЕТЬ?
Дич уловил ударение на последнем слове. Сумеет ли он пробудить здесь магию? Сумеет ли выжать что-нибудь из своего садка — для того чтобы усилить зрение? Остается попробовать. — Погоди, — сказал он. О, садок здесь, непроницаемый, словно стена. Однако он ощутил нечто неожиданное. Трещины, расселины, просачивание наружу и внутрь…
Это действие хаоса. «Боги, он рушится!» Не будет ли мгновения — перед тем, как буря настигнет повозку — в которое он сможет дотянуться до садка? Не сумеет ли он скрыться, избежав уничтожения вместе со всеми?
— Долго еще, долго еще, долго еще? — спросил Тисте Анди.
Дич обнаружил, что в нем еще остаются силы. Пробормотал несколько слов и в тот же миг увидел прежде невидимое — да, ясно увидел груду плоти, на которой лежит.
Огромная татуировка покрывает каждый клочок обнаженной кожи, линии и фигуры переходят с тела на тело, но нигде не видно целого рисунка — только сложные, загадочные сплетения, схемы внутри схем. Он видит переплетенные границы. Он видит вытянутые тела, искаженные лица и перекрученные торсы. Рисунок покрывает все тела на вершине, кроме самого Дича.
Тисте Анди, должно быть, расслышал его вздох, ибо захохотал. — Вообрази себя парящим… ну, скажем, на высоте пятнадцати людей. Пятнадцати людей. Сверху, сверху. Висишь в воздухе как раз под потолком ничто, под потолком ничто. Смотришь вниз на все это, все это, все это. Знаю, отсюда смотрится нелепо — но не оттуда, не оттуда, не оттуда — ты не увидишь груду плоти, узлов костей под сухой кожей — ты даже теней не увидишь. Только картину! Картину, да. Увидев ее, ты проклянешь всех богов и богинь, которых знаешь. Плоскость, картина, плоскость, картина!
Дич пытался понять, что же видит — он не решился последовать совету Анди опасаясь, что сойдет с ума; о нет, он не мог вообразить себя вне плоти, парящей в высоте душой. Ему трудно было понять одержимость этого существа, одержимость слепого рисовальщика. — Ты явно пробыл тут долго, — сказал Дич в конце концов. — И не оказался засыпанным.
— Да и да. Я был среди первых в повозке. Среди первых. Убит Драконусом, потому что пытался вырвать у него Драгнипур. О, Аномандер Рейк не был первым. Я был. Я был. Я был. Возьми я меч, первой жертвой был бы сам Аномандарис. Разве не горькая шутка, дружище? Да, да.
— Но это… — Дич показал рукой, — это свежие рисунки.
— Нет, только слой, последний слой, последний слой.
— Что… что ты использовал вместо чернил?
— Умный вопрос! В фургоне кроводрево, чернодрево, смола так и сочится, так и капает, и застывает.
— Сумей я воспарить так, как ты советуешь, — сказал Дич, — что за картину увижу?
— Блуждания, Оплоты, Дома, каждого бога, каждую богиню, каждого достойного упоминания духа. Королей и королев демонов. Драконов и Старших — о, все тут, все тут. А ты остаешься тут, дружище, остаешься тут?
Дич представил себе существо, нависающее над ним, представил пронзающую кожу кость. — Нет. Я намерен ползти как можно дальше. Не останавливаясь. Пока не уйду с твоей картины.
— Ты не смеешь! Ты все испортишь!
— Тогда вообрази, что я невидим. Вообрази, что меня вообще нет — и я тебе не помешаю.
Пустые глазницы сочились слезами, Тисте Анди качал и качал головой.
— Ты меня не получишь, — продолжил Дич. — Да и вообще скоро всё кончится.
— Скоро? Как скоро? Как скоро? Как скоро?
— Буря, мне видится, всего в лиге позади нас.
— Если ты не присоединишься к картине, — заявил Тисте Анди, — я сброшу тебя вниз.
— Драконусу может не понравиться.
— Он поймет. Он понимает больше тебя, больше тебя, больше тебя и еще больше тебя.
— Дай мне немного отдохнуть, — попросил Дич. — Потом я сам слезу вниз. Не хочу быть сверху, когда настанет конец. Хочу стоять лицом к буре.
— Ты правда вообразил, что ритуал пробудится сразу? Правда правда правда? Цветок открывается быстро, но ночь долга, долга, и все потянется долго, долго, долго. Открытие цветка. Он откроется за миг до зари. Откроется за мгновение. Драконус выбрал тебя — мага — для узла. Мне нужен узел. Ты узел. Лежи тут, тихо, не шевелясь.
— Нет.
— Я не могу ждать долго, дружище. Ползай где захочется, но я не могу ждать долго. Всего лига!
— Как твое имя? — спросил Дич.
— А тебе зачем?
— Для следующего разговора с Драконусом.
— Он меня знает.
— Но я не знаю.
— Я Кедаспела, брат Энесдии, а она была женой Андаристу.
«Андарист. Это имя я знаю». — Ты хотел убить брата мужа своей сестры?
— Хотел. За то, что он сделал им, что сделал им. За то, что сделал им!
Дич поразился горестному выражению лица дряхлого Анди. — Кто ослепил тебя, Кедаспела?
— Это был дар. Милость. Я не понимал эту истину, не понимал всю истину, всю истину. Нет. К тому же, я думал, что внутреннего зрения будет достаточно, чтобы бросить вызов Драконусу. Украсть Драгнипур. Я был неправ, неправ. Был неправ. Истина это дар и милость.
— Кто ослепил тебя?
Тисте Анди вздрогнул и словно уменьшился, падая в себя. Слезы блеснули в дырах глазниц. — Я сам, — прошептал Кедаспела. — Когда увидел, что он сотворил. Что сотворил. Со своим братом. С моей сестрой. Моей сестрой.
Дичу вдруг расхотелось задавать вопросы этому калеке. Он принялся выбираться из щели между телами. — Я пойду… на разведку.
— Вернись, маг. Узел. Вернись назад. Вернись назад.
«Посмотрим».
Апсал’ара получила здесь достаточно времени для размышлений и в конце концов заключила, что главной ее ошибкой было не проникновение в Отродье Луны. Не обнаружение подвалов с грудами магических камней, зачарованных доспехов, оружия, политых кровью идолов и реликвий тысяч исчезнувших культов. Нет. Главной ошибкой была попытка ткнуть Аномандера Рейка ножом в спину.
Он позабавился бы, найдя ее. Пообещал бы казнить или сковать до скончания веков в самой дальней крипте. Или просто спросил, как ей удалось войти внутрь. Проявил бы любопытство, а вполне вероятно — и удивление, и даже восхищение. Но она пошла и попробовала его убить…
Клятый меч вылетел из ножен быстрее, чем она смогла моргнуть; гибельное лезвие разрезало живот, когда она еще не успела выбросить руку с обсидиановым ножом.
Какая глупость. Но урок становится уроком лишь тогда, когда ты достигаешь нужной степени ученического смирения. Когда забываешь обо всяческих самолюбивых оправданиях и объяснениях, призванных скрыть очевидную виновность. В нашей натуре нападать первыми, а потом забывать про идеи вины и стыда. Прыгать, пламенея от ярости, и отскакивать, будучи полностью уверенными в собственной правоте.
Она давным-давно оставила позади дебильное самолюбование. Путь просветления начался в тот миг, когда тело испустило последний вздох, когда Апсал’ара очнулась на жестком каменном полу, глядя в лицо Аномандера Рейка, видя его отвращение, его сожаление, его горе.
Она ощущала нарастающий жар бури, ощущала вечный ее голод. Уже скоро. Все усилия пропадут впустую. Звенья цепи наконец-то стали потертыми, но дело еще не завершено. Далеко не завершено. Она погибнет вместе со всеми. Она не уникальна. Она ничем, в сущности, не отличается от любого идиота, пытавшегося убить Рейка или Драконуса.
Сочащийся сквозь днище повозки дождь стал необычайно теплым, он вонял потом, кровью и калом. Все тело вымокло. Кожа была влажной так долго, что сходила белыми мертвыми клочьями, обнажая сырое красное мясо.
Она гниет заживо.
Близко время, когда она снова спрыгнет с колеса, вылезет из-под фургона и станет наблюдать приход забвения. В его глазах не будет жалости; да и откуда взяться жалости, ведь равнодушие — второе имя вселенной, второй лик, от которого все стараются отвернуться. Созерцание хаоса — вот истинный источник ужаса. Все прочее — лишь вариации и оттенки.
«Когда-то я была ребенком. Уверена. Ребенком. У меня остались воспоминания о тех временах. Неровный берег широкой реки. Небо — совершенная голубизна. Карибу пересекают реку тысячами. Десятками тысяч.
Помню вскинутые головы. Помню, видела, что самых слабых затирают, они падают в мутную воду. Трупы всплывут ниже по течению, где уже поджидают курносые медведи, волки, вороны и орлы. А я стояла с остальными. Отец, мать, может, братья и сестры… они были как чужие, ведь я не сводила глаз с огромного стада.
Сезонные кочевья, один из множества бродов. Карибу часто меняют тропы. Но реку нужно перейти, и звери скапливаются на берегу все утро, пока наконец не бросятся в поток — приливная волна кожи и плоти в облаках влажных выдохов.
Даже звери не желают принимать неизбежное, хотя кажется: огромность стада сможет обмануть судьбу. Каждая жизнь сражается, старается выскочить из ледяной воды. «Спасите!» Вот что читается в глазах. «Спасите меня раньше всех. Спасите, я хочу жить. Подарите еще миг, еще день, еще весну. Я буду соблюдать законы рода…»
Она помнит этот миг из детства, помнит чувство потрясения при виде переправы, при виде сил природы, столкновения воли, неумолимости рока. Она помнит весь пережитый тогда ужас.
«Карибу — не просто карибу. Переправа — не просто переправа. Карибу — сама жизнь. Река — преходящий мир. Жизнь плывет, ловит течения, тонет, барахтается, торжествует. Жизнь умеет задавать вопросы. Иногда некоторые из живых могут спросить: кто же мы такие, если умеем спрашивать? И еще: почему мы верим, что ответы хоть чего-то стоят? К чему обмены изящными репликами, тонкие диалоги, если истина не меняется, если иные жизни сохраняются еще на миг, а другие тонут? Если на следующую весну новые карибу снова начнут тонуть?
Истина неизменна.
Каждой веной во время переправы река наполняется кровью. Хаос бурлит под водяной гладью. Самое плохое время.
Ждет нас».
Ребенок не хотел видеть. Девочка заплакала и убежала на равнину. Братья и сестры бежали следом, может, и хохотали — но они понимали ее страх, ее отчаяние. Хотя все равно кто-то бежал и хохотал. Или это была река… или это стадо карибу поднялось на берег и помчалось, заставив зрителей испуганно разбегаться? Возможно, они и заставили ее бежать. Трудно вспомнить.
Воспоминание завершается паникой, плачем, смущением.
Лежавшая на перекладине под сочащимся деревянным настилом Апсал’ара снова ощущала себя ребенком. Река ждет, она полна крови, а она — одна среди множества — молит о милости судеб.
Если швырнуть в пруд сотню камней, гладь разобьется, сумятица круговых волн не позволит глазу увидеть хоть какой-то порядок. Мгновение хаоса растревожит человека, отяготит дух и оставит след беспокойства. Так случилось в то утро со всем Даруджистаном. Глади раскололись. Каждое движение прохожих выдавало возбуждение. Люди говорили отрывисто и грубо как с иноземцами, так и со своими близкими.
Шквал слухов вызвал к жизни бурные потоки, и некоторые несли в себе истину; однако все намекали на что-то неприятное, нежелательное, влекущее беспорядки. Такое беспокойство может охватывать города на дни, целые недели — а иногда навечно. Такое беспокойство может заразить всю нацию, весь народ, приучив его к гневу и постоянной враждебности, ослабив в людях способность к сочувствию и усилив жестокость.
Ночью город оросила кровь. Поутру нашли покойников больше, чем находят обыкновенно, и притом в районе Имений, что вызвало негодующее потрясение избалованной знати за высокими стенами дворцов. От Городской Стражи истерически требовали расследования; в суд были призваны маги для проведения магического дознания. Вскоре новый слух заставил глаза широко раскрыться, рты распахнуться. «Ассасины! Все до одного! Гильдию уничтожили!» Тут на иных лицах появились удовлетворенные ухмылки — быстро изгнанные, оставленные для приватного употребления, ведь никогда нельзя перестараться в осмотрительности. И все же… гнусные убийцы нарвались на кого-то еще страшнее их и заплатили дюжинами жизней.
Некоторые задумывались — и пришедшие им в головы мысли мало кого… гм, вводили в уныние. Скорее они вызывали любопытство, рождая вопрос: «Кто же проник в город, если он способен безнаказанно перебить двадцать опаснейших ассасинов?»
Да, утро выдалось тревожное — проезжали по улицам телеги с трупами и кареты чиновников, шагали отряды стражников, толпы зевак вздыхали, между людей сновали коробейники, предлагая приторно-сладкие напитки, липкие леденцы и все что угодно; но никто не обратил внимания на запертые двери «К’рул-бара», на недавно вымытые стены, вычищенные стоки.
Тут все было пристойно.
Крут из Тальента вошел в свою комнатушку и увидел развалившегося в кресле Раллика Нома. Крут со вздохом удалился в нишу, служившую кухней, бросил мешок с овощами, фруктами и завернутой в листья рыбой. — Давно тебя не вижу.
— Дурацкая война, — ответил Раллик, не поднимая глаз.
— Уверен, этим утром Себа Крафар с тобой согласился бы. Они ударили превосходящими силами — как им казалось — только чтобы попасть в мясорубку. Если так пойдет дальше, Себа останется Мастером Гильдии — и единственным ее членом.
— Кажется, ты в дурном настроении, Крут. Какое тебе дело до провалов Себы?
— Я ведь всю жизнь отдал Гильдии, Раллик. — Крут появился, держа в руке репу. Подумал — и швырнул овощ в ведро около фляги с чистой водой. — Он же в одиночку ухитрился ее разрушить. Да, скоро его уберут — но что останется в итоге?