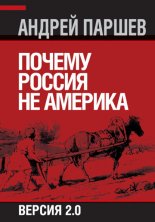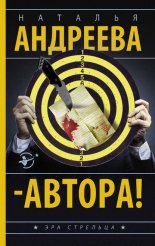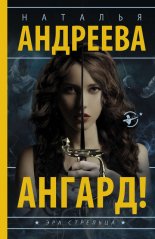Дань псам. Том 2 Эриксон Стивен

Около помоста пятеро выхватили мечи и ножи из-под плащей и принялись резать всех, кто оказывался рядом.
Помещение заполнилось воплями.
Выйдя из-за столика, Дымка подобно клубу тумана проникла между тремя убийцами у двери. Ее ножи мелькали и резали — она вскрыла горло тому, что был перед ней, рассекла сухожилия на руке человека слева. Поднырнув под первого (он уже начал падать), Дымка вонзила клинок в грудь третьего ассасина. Лезвие застряло в кольчуге и сломалось. Тогда она ударила вторым ножом снизу, между ног; едва мужчина начал оседать, Дымка высвободила нож и резанула второго ассасина по лицу. Пытаясь уклониться от выпада, он присел слишком низко и задел затылком бревно. Послышался противный хруст, и колени противника обмякли. Дымка прикончила его ударом в глаз.
Тут же она услышала звяканье четвертого арбалета — и нечто пронзило левое плечо, развернув тело. Казалось, рука ниже плеча исчезла — она совсем не ощущала ее, лишь слышала, как стукает о пол выпавший нож. Ассасин, вошедший в дверь позже прочих, бросил арбалет и устремился к ней с кинжалами.
Колотун закрыл дверь в конторку в тот самый миг, когда Хватка присела с удивленным криком. Стрела ударилась о стену едва ли на расстоянии ладони от головы целителя. Он тоже присел и выполз в коридор. Едва успел встать, как целая группа выскочила из-за угла слева. Зазвенели тетивы. Одна стрела пронзила его живот. Вторая прошла через горло. Он упал на спину, погрузившись в гущу боли и лужи крови.
Лежа на спине, Колотун поднес руку к горлу. Шаги быстро приближались. Он не мог дышать — кровь текла из легких, горячая и алая. Неистовый призыв Высшего Денала…
Тень коснулась его; поглядев вверх, он увидел равнодушное юное лицо; глаза не моргнули, когда ассасин двинул лезвие к голове целителя.
«Раскрой ворота пошире, Вискиджек…»
Колотун следил, как приближается острие кинжала.
Боль в левом глазу — и тьма.
Убивший Колотуна выпрямился, убирая кинжал, и мельком удивился странной улыбке на лице мертвеца.
Выскочив из кухни и присев под низкой притолокой двери, Синий Жемчуг услышал, как гудят арбалетные болты, услышал вопли и свист вылетающих из ножен мечей. Огляделся…
Прилетевший кинжал пришпилил левую руку к фляге. Закричав от сильнейшей боли, он отшатнулся; тут же к нему рванулись двое. У одного ассасина был нож, второй держал длинный меч с двусторонней заточкой.
Первый, с ножом, поднял оружие.
Синий Жемчуг плюнул в него.
Мерцающий шарик преобразился в полете, став клубком извивающихся змей. Дюжина клыков впилась в лицо ассасина. Завопив от ужаса, он порезал лицо собственным ножом.
Жемчуг попытался бросить флягу, но рука потянулась следом — она еще была пришпилена — и он закричал от нового взрыва боли.
Ему еще хватило времени поднять взор и рассмотреть устремившийся к лицу меч. Острие вошло в нос, пробив кости и проникнув в мозг.
Еще на пороге Дергунчик услышал суматоху в зале. Дернувшись и выругавшись на четырнадцати различных языках, он получше перехватил меч. Боги, такой шум, словно там треклятая битва! Нужен щит!
Дергунчик вломился в кладовую, чтоб была слева. Побежал к ящику в дальнем конце, скрытому грудой тряпок. Поднял крышку и вытащил три, четыре жулька. Спрятал под куртку. Пятый взял в левую руку.
И понесся к кухне.
Навстречу бежали повар и две девицы-помощницы; Дергунчик заметил в задней двери людей под капюшонами. — Ложись! — заорал он, метнув снаряд высоко над головами двоих ассасинов. Жулек ударился о стену в переулке и взорвался.
На его глазах стоявших в проеме двери ассасинов окутал красный туман — словно аура самого Худа. Оба шлепнулись лицами вниз. Встав на их спинах, Дергунчик прислушался (с улицы доносился жуткий хор) и бросил второй жулек, отбежав внутрь. Новый оглушительный разрыв гренады… Крики прекратились.
— Пожуйте, гребаные жопы!
Хватка покатилась по полу вслед первой стреле. Она видела, как Колотун выскакивает в коридор, видела, как стрелы нашли его. Понимая, что целителю конец, женщина пробралась к двери конторки и успела захлопнуть ее. Шаги приближались. Засов упал — еще удар сердца — увесистый удар не смог выбить прочную дверь… Хватка пошла к ящику, что стоял у ножки стола.
Она не сразу управилась с ключом — грохот за дверью, ужасающий шум из гостевого зала — наконец замок поддался, крышка упала. Она вытащила тяжелый арбалет и связку болтов.
Раздался грохот жульков со стороны кухни; она ухмыльнулась, и эта ухмылка вовсе не была веселой. Вскочила на ноги как раз тогда, когда дверь затрещала, и подбежала к окну — чтобы увидеть, как падает с арбалетным болтом в руке Дымка, как ассасин прыгает за ней.
Чертовский хороший выстрел — ее болт вошел ассасину в лоб, из затылка вырвался фонтан крови, мозгов и осколков кости.
Вихрем развернувшись, Хватка подбежала к ящику, достала единственный припрятанный жулек; назад к окошку, на подоконник. Она присела. Прямо внизу стол. Между упавшими стульями истекают кровью двое, ноги неестественно согнуты — двое невинных посетителей, завсегдатаев, что всегда были любезны, щедро оставляли чаевые и улыбались…
Хлопнула дверь сзади. Извернувшись, она метнула жулек и прыгнула из окна. Треск гренады в конторке, языки пламени, дым… Хватка приземлилась на стол.
Он просел под ней. Колено угодило в челюсть, она ощутила, как ломаются зубы. Хватка упала набок, плечом ударившись о трупы. Арбалет остался в руках, хотя болты рассыпались.
Хватка села и сплюнула кровь.
Дымка увидела, как падает преследователь, как лопается его голова. Присела и схватилась за торчавший из плеча наконечник. Головка застряла в хрящах между плечевой костью и суставной впадиной лопатки. Оставить так — возможно, опаснее, чем вытаскивать. Заскрежетав зубами, она вырвала болт. Сознание померкло.
Вытолкнув уцелевших поваров в переулок, Дергунчик пересек помещение и подобрал крышку большого железного котла. У входа в общий зал нашел в луже эля Жемчуга, мертвее не бывает; прямо за ним сидел, сжавшись, ассасин — похоже, он вонзил ножи себе в глаза, превратил лицо в кровавое месиво. Ассасин гортанно бормотал какую-то песенку без слов.
Дергунчик сплеча рубанул негодяя по черепу. Вытащил меч и двинулся дальше.
Сверху донесся грохот еще одного жулька, затрещала мебель. Вскоре все затихло. Пригнувшись, он выставил меч и поднял крышку словно щит.
В дальнем углу бара обнаружилась стоявшая на коленях Хватка. Пошарив по полу, она подобрала болт и быстро зарядила моряцкий арбалет. Дымка недвижно лежала ближе ко входу.
Дергунчик шикнул.
Хватка подняла голову и встретила его взгляд. Рука ее сделала шесть знаков; бывший сержант кивнул и ответил двумя.
Текли кровь и эль, с разных сторон доносились стоны. Потом кто-то тихо ступил на верхний пролет лестницы.
Дергунчик положил меч, достал жулек и показал его Хватке; так кивнула и не спеша отползла, пользуясь обломками стола как прикрытием. Нацелила арбалет на лестницу.
Увидев, что она готова, Дергунчик поднял импровизированный щит, прикрывая плечо и голову, а затем быстро вышел к основанию лестницы. Швырнул гренаду наверх.
Две стрелы отскочили от крышки котла; сила удара выбила его из руки. В тот же миг женщина-ассасин прыгнула на него с середины лестницы.
Болт Хватки вошел в нее где-то на уровне паха, заставив задергаться еще в полете. Она упала под звук разорвавшегося жулька. Тогда Дергунчик, подняв меч, рванул вверх по лестнице. Хватка поспешила следом, вытаскивая свое оружие. — Уйди с дороги со своим свинорезом! — прорычала она. — Прикрывай! — Оттолкнув его плечом, она проскользнула вперед.
Наверху валяется куча все еще содрогающихся обрывков плоти, стены забрызганы кровью — и движение там, в коридоре.
Перескочив мертвецов и умирающих, Хватка ворвалась в коридор и, увидев троих ассасинов, что медленно поднимались с пола, напала на них.
Зарубить ошеломленных врагов оказалось просто. К тому же Дергунчик прикрывает с тыла…
Дымка открыла глаза и удивилась, почему лежит на полу. Попыталась поднять левую руку — и застонала от пронизавшей тело огненно-красной боли. Глаза почти не видели. Ох, теперь она вспомнила. С тихим стоном женщина перекатилась на правый бок и заставила себя сесть, стерла с глаз пот и кое-что похуже.
Входная дверь выбита и качается на одной петле.
На улочке можно различить полудюжину фигур в капюшонах — они сползаются все ближе. Дерьмо!
Она принялась оглядываться, отчаянно ища что-то похожее на оружие — зная, что времени нет, зная, что они порубят ее на куски, раз и навсегда. И все же она увидела нож и потянулась к нему.
Шестеро ассасинов рванулись к двери, словно соревнуясь в скорости.
И кто-то врезался в них сбоку, ревя как бешеный бык. Дымка вытаращилась на громадного мужлана — «Чаур!» — заработавшего увесистыми кулачищами. Головы вывертывались на сломанных шеях, брызгала кровь… Тут подоспел Баратол, с одним ножом напав на ассасинов. Дымка разглядела страх в глазах кузнеца — страх за Чаура, страх перед тем, что случится, когда ассасины опомнятся…
А они уже начинали.
Дымка встала, подняла кинжал с пола, похромала вперед…
Но Дергунчик оттеснил ее в сторону. Подняв в левой руке изрубленную крышку, он принялся полосовать мечом ближайшего убийцу.
Чаур (руки его были изрезаны отчаянными ударами асасинов) схватил одного и швырнул на камни мостовой. Затрещали кости. Все еще ревя, он ухватил изломанное тело за лодыжку и подбросил в воздух, отпустил — столкнулся со следующим асасином — оба упали… Баратол вдруг оказался над первым противником Чаура, вогнал носок сапога ему в висок. Тело сотрясли спазмы.
Дергунчик вытащил меч из груди ассасина и начал искать новую жертву. Потом выпрямился.
Прислонившаяся в косяку Дымка сплюнула. — Всех положили, серж.
Баратол обхватил Чаура руками, чтобы успокоить. По широким щекам Чаура струились слезы, кулаки все еще были сжаты, словно на концах его рук были окровавленные дубины. Он обмочился.
Дымка и Дергунчик следили за кузнецом; тот крепко прижал дружка с себе, с такой откровенной симпатией и таким явным облегчением, что малазане отвели взгляды.
Хватка появилась позади Дымки. — Выживешь? — спросила она.
— Буду как новенькая, едва Колотун…
— Нет, любимая. Не Колотун.
Дымка зажмурилась. — Они подловили нас, Хва. Застали врасплох.
— Точно.
Женщина огляделась. — Ты уложила всех, кто вошел в пивной зал? Чертовски впечатляет…
— Нет, не я. Хотя все готовы. Я убила четверых, что побежали сверху. Похоже, они чего — то испугались.
«Испугались? Но кто же был наверху?» — Мы потеряли барда?
— Не знаю, — сказала Хватка. — Не видела его.
«Сбежал со сцены…»
— Жемчуга мы тоже потеряли.
Дымка во второй раз сомкнула веки. Ох, у нее все болит, но не все раны удастся заштопать. — Они застали нас врасплох.
— Они убивали всех подряд, Дым. Людей, которым просто не посчастливилось зайти на ночь. Скевос. Хедри. Лармас, малыш Бутал. Чтобы найти нас.
На улице показался взвод Городской Стажи. Раскачивались фонари.
Сцена подобного кровопролития должна бы привлечь толпу зевак, любящих смотреть на калек и умирающих, словно питающихся подобными зрелищами. Но вокруг не было никого.
Потому что здесь работала Гильдия.
— Некоторые из нас еще дышат, — сказала Дымка. — Неправильно это — оставлять еще дышащих морпехов.
— Да уж, совсем неправильно.
Дымка знала этот тон. И засомневалась. «Хватит ли нас? Хватит ли, чтобы совершить такое? Все ли у нас есть, что нужно?» Сегодня они потеряли мага и целителя. Лучших из пятерки.
«Потому что оказались беззаботными».
Дергунчик присоединился к ним, когда стражники окружили Баратола и Чаура. — Хва, Дым, — сказал он, — не знаю как насчет вас, но я вот, боги подлые, чувствую себя стариком.
Подошел сержант стражи. — Внутри так же плохо?
Никто не стал отвечать.
В шести улицах, за полмира отсюда, Резак стоял перед лавкой, продающей надгробные памятники и стелы. Набор стилизованных божеств, еще не освященных храмами, но уже готовых благословлять будущих покойников. Беру и Бёрн, Солиэль и Нерруза, Трич и Падший, Худ и Фандерай, пес и тигр, вепрь и змея. Магазинчик закрылся, и он глядел на плоские камни, ожидающие, когда на них высекут имена любимых людей. Вдоль одной из низких оград стоял ряд мраморных саркофагов, напротив — высокие урны с раструбами узких горлышек и пузатыми брюшками — они напомнили ему беременную женщину… Рождение в смерть, чрева, готовые сохранять остатки смертной плоти, дома тех, что скоро найдут ответ на роковой, последний вопрос: что там дальше? Что ожидает всех нас? Какие врата? Есть много способов задать этот вопрос, но вопрос всегда одинаков. Как и ответ. Люди часто говорят о смерти — смерти дружбы, смерти любви. В каждом слове — отзвук окончательности, поджидающей нас на краю… но это всего лишь эхо, подобие кукольного спектакля в мерцающих тенях. Убей любовь. Что потом? Пустота, холод, летящий пепел — но не окажется ли он плодородным? Где место, на котором угнездится семя, начнет прорастать? Не такова ли сама смерть? Из праха — новый росток… Приятная мысль. Утешительная мысль.
На улице еще двигался народ — ночные покупатели не спешили расходиться. Может, у них нет домов? А может, они мечтают о последней покупке, напрасно надеются, что она заполнит пустоту, грызущую их изнутри?
Никто не заходил в этот дворик, никто не желал вспоминать о том, что ожидает всех. Зачем он сам сюда забрел? Искал некоего утешения, какого-то напоминания, что для любого человека итог жизни окажется одинаковым? Можно ходить, можно ползать, можно бегать, но никому не дано повернуться лицом назад, не дано спастись. Во всем этом, даже в трюизме, что всё горе достается живым, остающимся позади и смотрящим на опустевшее место, можно найти род покоя, утешения. Мы проходим по тропе — иные идут далеко, иные быстро сворачивают — но тропа одинакова для всех.
Да, иногда любовь умирает.
А иногда ее убивают.
— Крокус Свежачок?
Он медленно повернулся. Перед ним женщина в роскошном платье, в горностаевом плаще на плечах. Овальное лицо, ленивые глаза, накрашенные губы… да, он узнает это лицо. Он знал ее в более молодом облике, почти ребенком — но сейчас ничего детского не осталось ни в глазах, ни даже в грустной улыбке полных губ. — Чаллиса Д’Арле.
Впоследствии, думая об этом мгновении, он видел мрачное предвестие в том, что она не поправила его, услышав старую фамилию.
Если бы он оказался внимательнее — что изменилось бы? Стало ли бы иным будущее?
Смерть и убийство, семена во прахе. Что сделано, то сделано.
Саркофаги раскрыли пасти.
Урны гудели, гулко и пусто. Каменные лица жаждут получить имена. Горе скорчилось у врат.
Такова была ночь Даруджистана. Такова была эта ночь везде и всюду.
Глава 12
«Лишь чужаки», Рыбак Кел Тат
- Как же мне встать
- Если рушатся стены
- К востоку, где солнце восходит
- К северу, лику зимы
- К югу, дающему звезды
- К западу — смерти дороге
- Как же мне встать
- Если ветры вступили в войну
- От зари убегают
- Дышат хладом и льдом
- Сожжены поцелуем пустыни
- Пыль с могил поднимают
- Как же мне встать
- Если рушится мир
- И с любой стороны
- Нет надежной защиты
- От бряцающих лезвий
- От взметенного войска
- И зачем мне стоять
- Против сил необорных
- Содрогаясь при каждом ударе
- Среди бури мучений
- Если все, чем владел я
- Отнято без пощады?
- Смелость не восхваляйте
- И железную стойкость
- Дар свободы пылает
- Слишком ярко, жжет руки
- Рвет нам сердце мечта о покое…
- Как же мне встать
- Среди праха растраченной жизни
- Под бичом укоризны
- В кровь рассекшим лицо
- Там, где лишь чужаки
- За моим паденьем
- Следят?
Статные деревья с черными стволами и полуночной листвой неровным кругом обступили Сурат Коммон. Из центра обширной поляны можно, обратившись лицом к северу, видеть башни Цитадели, изящные линии которых подражают священным деревьям. Наступила осень, и воздух наполнен летучими волосками чернодрева.
Огромные кузницы востока осветили кармином грязные тучи дыма, так что кажется — одна из частей Харкенаса загорелась. Непрестанный дождь сажи запятнал стены неуклюжих строений, и к ним липнут изогнутые волоски, отмечающие начало холодного времени года.
В убежище Сурат Коммона выжженное царство фабрик кажется находящимся за полмира отсюда. Толстый слой мха затянул каменные плиты, приглушая шаги Эндеста Силана, который шел к скругленному алтарю в самой середине поляны. Он не видел других — время праздников еще не наступило. Да, это не время для веселья любого рода… Эндест принялся гадать, чувствуют ли его деревья, способны ли они сосредоточить на нем внимание, пробудили ли их сухость воздуха, жара и дымный выдох печей.
Однажды он читал ученый трактат, описывавший химическую взаимосвязь растений и животных. Исследование было изложено сухим, академическим языком, и все же Эндест Силан, помнится, закрыл книгу и замер в кресле. Идея о том, что он может подойти к травке, к дереву — например, к чернодреву — и благословить своим дыханием, извергнуть из легких отравленный воздух, который способен оживить растение, обеспечить ему здравие и силу, подарить жизнь… ах, это было настоящее чудо, сумевшее на время успокоить кипящий мальстрим юной души.
Так давно это было… он временами чувствует, что не способен делать подарки.
Он встал перед древним алтарем. Прошедший ночью дождик создал лужицу на поверхности базальта. Говорят, что Анди родились в лесах, среди природных полян. Они рождены, чтобы оживлять дыханием священные деревья, и первым падением народа был уход из леса, строительство каменного города.
Сколько падений состоялось с той поры? Сурат Коммон — последний фрагмент старого леса Харкенаса. Черное дерево напитало огромные печи. Ему не хочется смотреть на запад. Там не только яростный свет. На фабриках неустанно трудятся, создавая оружие. Доспехи. Все готовятся к войне. Сюда его заслала Верховная Жрица. «Будь свидетелем», велела она. И он принялся свидетельствовать. Глаза Храма, жрецы, должны оставаться открытыми и сознающими, ничего не упуская — особенно в нынешние хрупкие времена. Он избран один среди многих — но это отнюдь не повод для гордости. Его появление- политический ход: скромный ранг посланца выражает гнев Храма.
«Будь свидетелем, Эндест Силан. Но молчи. Ты просто присутствуешь. Понял?»
Он понял.
Они показались почти одновременно — один с севера, другой с востока, а третий — с юга. Три брата. Три сына. Это встреча кровных родичей, и они прогонят его, ибо он посторонний. Даже Храм для них посторонний. Так прогонят ли его?
Деревья словно рыдали обещанием нового цветения — сезона, который никогда не наступит, ибо негде волоскам пустить корни на десятки лиг во все стороны. Река подхватит миллионы прекрасных черных семян, но даже волоски не способны плыть по Дорсан Рил, и река хранит все, что приняла — в мертвых слоях ила. «Наше дыхание должно было дарить жизнь, а не красть ее. Наше дыхание было даром, но дар принес Чернолесу измену. Вот наше преступление, и прощения ему не будет».
— Добрый вечер, жрец, — сказал Андарист, добавив: — Кажется, Аномандер, ты был прав.
— Легкое предсказание, — отозвался Аномандер. — Храм следит за мной, словно свора ротесов за умирающим гинафом.
Эндест моргнул. Последний дикий гинаф пропал столетие назад; среброгривые стада больше не сотрясают почву южных равнин. А своры ротесов в наши дни машут крыльями лишь над полями сражений, никогда не бывая голодными. «Вы последний, Лорд? На это вы намекаете? Благослови меня Мать, никогда не понимаю, что именно вы сказали. Никто не понимает. Мы знаем слова, но не их смысл».
Третий брат молчал, не сводя красных глаз с неба над кузнями.
— Столкновения между Дретденаном и Ванутом Дегаллой близятся к концу, — заявил Андарист. — Может быть, пришло время…
— Стоит ли говорить вслух? — вмешался Сильхас Руин, повернувшись к Эндесту. — Это не для Храма и в особенности для жалкого аколита третьего уровня.
Аномандеру, кажется, было не интересно смотреть на Эндеста. На резкость брата он ответил пожатием плеч: — Может, так мы убедим Храм оставаться… в нейтралитете.
— Раскрыв все планы? Почему это Храм должен нам доверять? Что делает нас, троих братьев, более ценными, чем, например, Манелле или Хиш Туллу?
— Ответ вполне очевиден, — сказал Андарист. — Жрец?
Он мог бы не отвечать. Мог бы изобразить незнание. Он всего лишь служитель третьего уровня… И все же он произнес: — Вы собрались не для того, чтобы поубивать брат брата.
Андарист улыбнулся Сильхасу.
Тот скривился и отвел глаза.
— Есть о чем поговорить, — сказал Аномандер. — Андарист?
— Я послал представителей в оба лагеря. С предложением смириться. Велел сделать прозрачные намеки, что готов вступить в союз против вас двоих. Ключ в том, чтобы усадить Дретденана и Ванута в одной комнате с клинками, вложенными в ножны.
— Сильхас?
— И Хиш и Манелле согласились на договор. Манелле все еще меня беспокоит, братья. Она не дура…
— А Хиш — дура? — хохотнул Андарист. Смех был до безумия беззаботным, хотя они собрались обсуждать измену.
— Хиш Тулла не сложна. Ее желания очевидны. Правду говорят сторонники, что она не лжет. А вот Манелле подозрительна. Я ведь, в конце концов, говорю о величайшем преступлении — пролитии крови сородичей. — Он замолчал и поглядел на Аномандера, и лицо его вдруг преобразилось. Беспокойство, некое ошеломление, отсвет ужаса. — Аномандер, — прошептал он, — что мы затеяли?
Лицо Аномандера отвердело: — Мы достаточно сильны, чтобы пережить всех. Увидишь сам. — Тут он посмотрел на Андариста: — Перед нами тот, кто разобьет наши сердца. Андарист, решивший отвернуться и уйти.
— Решение, вот как? — Последовало тяжелое молчание. Он снова захохотал. — Да, точно. один из нас… должен быть хотя бы один, а я не желаю идти вашим путем, братья. У меня недостает смелости. Смелости и… жестокого безумия. Нет, братья, моя задача проще некуда: ничего не делать.
— Пока я не предам вас, — сказал Сильхас Руин, и Эндест потрясенно увидел слезы на глазах белокожего Владыки.
— Другого пути нет, — заявил Андарист.
Столетия складывались в тысячелетия, а Эндест гадал — не имея возможности узнать в точности — всё ли произошло по плану троих братьев. Смелость, сказал Андарист. Смелость и… жестокое безумие — со стороны Матери, да — все разрушения, откровенные предательства — могли ли они замышлять именно это?
Следующая встреча Эндеста Силана с Аномандером произошла на мосту у основания Цитадели; по его словам было понятно, что Лорд не узнал в Силане служку, посланного некогда разведывать творящееся между троих братьев. Странная рассеянность — для такого, как Аномандер. Хотя, понятное дело, Лорду в тот миг было что обдумывать.
Эндест передал Верховной Жрице отчет о злосчастной встрече. Докладывая подробности измены — зная, к каким последствиям она уже приводит — он ожидал узреть на лице Жрицы негодование. Однако она попросту отвернулась (впоследствии он увидел в этом еще одно предзнаменование).
А тогда в небесах еще не было бурь. Ничто, казалось, не предвещало грядущего. Черные стволы Сурат Коммона стояли уже две тысячи лет — а может, и дольше — и каждую осень разбрасывали по ветру длинные семена. Да, в следующий раз, когда ему случится бросить взгляд на статные деревья, они будут пылать.
— Ты стал каким-то очень уж тихим, старый друг.
Эндест смотрел на угасающее пламя. Быстро накатывал рассвет. — Я припомнил… как легко дерево становится золой.
— Высвобождая энергию. Может быть, лучше смотреть на это так?
— Подобное высвобождение гибельно.
— Для растений — да, — сказал Каладан Бруд.
«Для растений…» — Я думал о даре, что мы приносим им. О дыхании.
— И они возвращают нам дыхание, — отозвался полководец, — обжигающее руки. Похоже, хорошо, что я не склонен к иронии.
— Дар фальшив, когда мы ждем воздаяния. Словно алчные торговцы, мы даем — и требуем чего-то взамен. Похоже, обмен — основа наших отношений со всем миром. Всех нас. Людей, Анди, Эдур, Лиосан, Имассов, Баргастов, Джагутов…
— Только не Джагутов, — прервал его Каладан.
— Ах. По правде, я слишком мало знаю о них. В чем их сделка?
— Между ними и миром? Не думаю, что это возможно объяснить — по крайней мере, мне, с моим ничтожным умишком. Джагуты отдавали гораздо больше, чем получали. До тех пор, пока не начали ковать лед, защищаясь от Имассов. Разумеется, за исключением Тиранов — но ведь это делало тиранию особенно гнусной в глазах самих Джагутов.
— Значит, они были управляющими мира.
— Нет. Идея управления подразумевает превосходство. Известную степень высокомерия.
— Заслуженное, учитывая их силу.
— Скорее иллюзию силы, сказал бы я. Эндест, если ты уничтожаешь все вокруг себя, однажды ты уничтожишь и себя самого. Высокомерие создает некую отстраненность; мы думаем, будто можем переделывать мир в угоду своим целям, будто можем использовать его, словно живой инструмент с миллионами рабочих частей. — Но замолчал, качая головой. — Видишь? У меня уже голова трещит.
— Похоже, от истин, — ответил Силан. — Итак, Джагуты не считали в себе хозяевами. И паразитами тоже. Высокомерие не было им свойственно? Полководец, я считаю, что это необычайно. Фактически это невозможно понять.
— Они делили мир с Форкрул Ассейлами, во всем противоположными им. Они видели примеры чистейшего проявления высокомерия и отстраненности.
— Были войны?
Каладан Бруд молчал так долго, что Эндест Силан решил: ответа не будет. Но потом полководец поднял взор над костром, блеснув звериными глазами: — Были?
Эндест уставился на старинного друга и едва слышно вздохнул от удивления. — Боги подлые! Каладан! Ни одна война не длится так долго.
— Длится, если лик врага не имеет значения.
Это откровение… ужасно. Безумно. — Где?..
Улыбка полководца была лишена веселья. — Далеко отсюда, друг, что само по себе хорошо. Вообрази, что стал бы делать твой Лорд, будь иначе.
— Он вмешался бы. Он не смог бы удержаться.
Каладан Бруд поднялся. — У нас гостья.
Миг спустя во тьме над их головами захлопали большие крылья. Эндест поглядел вверх и увидел Каргу — она махала крыльями, спускаясь между воздушными течениями. Приземлилась птица на каменной осыпи за пределами круга света.
— Чую рыбу!
— Не знал, что ваш род умеет чуять, — отозвался Каладан.
— Смешной тупица. Признай хотя бы, что наше зрение — истинный дар совершенства. Мы лучше всех иных. Да, Великие Вороны прокляты даром превосходства… Что я вижу? Груду костей! Да, вижу с отчаянной ясностью: вы, грубияны, ничего мне не оставили!
Карга подскочила ближе, поглядела на мужчин одним глазом, затем вторым. — Печальная беседа? Рада прервать. Эндест Силан, твой Владыка призывает тебя. А тебя — нет, Каладан Бруд. Итак, послания доставлены. Желаю перекусить!
Харек бежал через Ночь. Старые запутанные улочки, оставшиеся после осады горы ломаного камня; узкие кривые аллеи, заваленные мусором по колено… Он пересекал развалины зданий, карабкаясь словно паук. Он знал: Тов погиб. Он знал, что погиб и Бач, как и еще полдюжины заговорщиков. Все мертвы. Убийцы порезвились. Наверное, Тисте Анди, некий вид тайной полиции, проникшей в ячейки и истребляющей всех выслеженных борцов за свободу.
Уж он — то всегда понимал, что демоны, нелюдское отродье, совсем не такие благожелательные завоеватели, какими они себя выставляют. О да, у них полно гибельных тайн. Планы захвата и порабощения, замыслы установления тирании — не только над Черным Кораллом, но и над ближними городами, над всеми местами, где обитают люди. Тисте Анди положили завистливый глаз на всё. Теперь он получил доказательства.
Кто-то идет за ним, выслеживает со всей сосредоточенной злобой охотящегося кота — он еще не заметил убийцу, но в мире, подобном Ночи, это не удивительно. Тисте Анди искусны в Королевстве Тьмы, опасны словно змеи.
Нужно добежать до Кургана. Нужно найти Градизена. Лишь там Харек может чувствовать себя в безопасности. Надо их предупредить, надо составить новые планы. Харек понимал, что может оказаться единственным выжившим в Коралле.
Он держался наиболее разрушенных частей города, пытаясь выйти на окраину или, если это не получится, прорваться через внутренние ворота, ведущие к лесистым холмам — туда, где засели некогда проклятые Сжигатели Мостов, убившие тысячи мерзостной магией и морантскими припасами. Да, весь склон доныне покрыт проплешинами мертвой почвы, засыпан поваленными древесными стволами, кусками доспехов, кожаными сапогами, из которых иной раз торчат отбеленные кости. Если дойти туда, можно отыскать путь к Свету — тогда он, наконец-то, окажется в безопасности.
Эта возможность кажется все более привлекательной, ведь он оказался близко от ворот, а здешние адские тени и бесконечный сумрак не приносят пользы — Тисте Анди умеют видеть во тьме, а он бредет, словно ослепший.
Он услышал, как зашумел под чьей-то ногой камень — едва в тридцати шагах позади. Забухало сердце. Харек поглядел на ворота. Их развалили во время осады, но прохожие успели протопать тропу, ведущую к окружающей город дорожной насыпи. Но, сколько он не прищуривался, около ворот никого не было видно.
Еще двадцать шагов. Он ускорил шаг, а выйдя на чистую улицу, побежал к проему ворот.
Мчится ли кто-то следом? Обернуться он не решался.
«Бегите, проклятые ноги! Бегите!»
Он вылетел наружу, на склон дорожной насыпи, торопливо пересек ее и спустился по осыпи. Искореженная земля, на скорую руку засыпанные могилы, кривые корни и мертвые сучья. Повизгивая, Харек пробирался, получая ссадины и царапины, глотая пыль гнилой сосновой коры и кашляя. Вон там, на вершине — там уже свет солнца? Да. Почти заря. Солнце — благословенное солнце!
Быстрый взгляд за спину не обнаружил никого — он не понимал, отчего из груд мусора доносится шорох.
Почти удалось.
Харек сделал последние шаги, погрузился в холодный воздух утра, в столбы золотых лучей — и кто-то встал на пути. Блеснула сабля. На лице Харека выразилось удивление — и словно примерзло, ведь голова уже катилась с плеч, стуча и перекатываясь по склону, пока не нашла прибежище среди груды серых, сухих костей. Тело опустилось на колени на самом краю выкопанной Сжигателями траншеи, да так и застыло.
Сирдомин вытер лезвие, вложил клинок в ножны. Последний из них? Он думал, что да. Город… вычищен. Остались только те, что у кургана. Им он позволит просуществовать еще немного — в полном неведении, что в Черном Коралле всё переменилось.
Он утомился — охота заняла больше времени, чем предполагалось. Да, пора отдохнуть. Сирдомин огляделся, изучил полузасыпанный ров, выкопанный саперами при помощи одних лишь складных лопат. Да, впечатляет. Эти малазане были особенным сортом солдат.
Но лес уже берет свое.
Он уселся в нескольких шагах от коленопреклоненного тела, взял в покрытые перчатками руки отрубленную голову. Ощутил запахи кожи, пота и старой крови. Запахи прошлого. Они вернулись. Он словно слышит крики, скрежет кольчуги, чувствует, как стучат по бедру ножны. Урдомены наступают шеренгами, забрала шлемов опущены, скрыв горящие глаза. Фаланги бетаклитов формируются около города, готовясь к броску на север. Застрельщики скаланди, Тенескоури — оскалившая зубы армия голодных и отчаявшихся. Он вспомнил, как они двигались громадными нестройными массами, колыхались, пересекая равнину — сзади оставались умирающие тела и трупы самых слабых — вокруг них образовывались «водовороты», ибо проходившие мимо поворачивали и бросались на беспомощных товарищей. Если не было врага, армия питалась самой собою. А он просто смотрел на всё это без всякого выражения на лице, отгородившись доспехами, ощущая запахи кожи, пота и крови.
Солдаты, ведущие справедливую войну — хотя бы верящие в ее справедливость — могут держаться за чувство чести, приносить себя в жертву. Укрепившись духом, они способны оставить войну позади, начать новую жизнь, иную жизнь. Им не важно, сколь мерзок и несправедлив окружающий мир, мир настоящего — ветераны способны держаться за святость прошлого. Но несправедливая война… в ней все иначе. Тем, у кого есть хоть капля совести, не укрыться от осознания совершенных преступлений, не смыть крови с рук, не забыть безумств прошлого, в котором честь была ложью, долг — сломанным клинком, а отвага — вонючей, запятнанной тряпкой. Внезапно они понимают: нет защиты от несправедливости, нет прибежища в воспоминаниях о прошлых делах. Тогда вздымается гнев, заполняет любую трещину, становится бешеной яростью. И нет способа выразить ее, выпустить накопившееся давление. Напряжение нарастает, и вот самоубийство уже кажется лучшим выходом, самым легким путем побега. Сирдомин мог видеть в этом логику, но логики недостаточно. Любой способен загнать себя рассуждениями в угол и затем найти оправдания капитуляции. Это еще проще, когда отвага уязвима, когда ей так часто пользовались в дурных целях. Продолжение жизни требует отваги, но не каждый может хранить отвагу, потеряв самоуважение.
Сирдомин поднял отрубленную голову, бросил взгляд на тело. «Ты понимаешь, Харек? Ты хотя бы сейчас смог понять, что лишь существование таких, как ты, дает мне причину жить? Ты придавал лицо моей ярости, а мой клинок жаждал видеть лицо противника». Либо так, либо ярость пожрет его душу изнутри. Нет, лучше кромсать лица врагов, чем свое лицо. Надо искать одного за другим. Справедливость так слаба. Гниль побеждает, чистота сердца исчезает. Мастерство и жажда крови берут верх над ответственностью и сочувствием. Он еще может сражаться, и не за себя самого. Он сражается за Черный Коралл, за Тисте Анди и за человечество.
Даже за Искупителя… нет, не так. «То, что я совершил… этому нет целения, нет искупления. Никогда не будет. Ты понимаешь это. Все вы должны понять…»
Он осознал, что оправдывается. Перед кем? Он не знал. «Всех нас поместили в невозможную ситуацию. Тиран хотя бы погиб, тиран был наказан. Могло быть и хуже: он сумел бы сбежать, скрыться от справедливого суда».
Война причиняет травмы. Некоторым удается избавиться от них, остальные оказываются в вечном плену. Для большинства дело вовсе не в неудаче, в болезни или безумии. По сути травма явилась следствием неспособности разрешить конфликты души. Ни один целитель не сможет это исцелить, ибо исцелять нечего. Никакой эликсир не вытравит болезнь. Никакая мазь не разгладит шрамы. Единственная возможность примириться с самим собой — предстать перед судом, понести наказание. История учит, что такое возмездие бывает весьма редко. Поэтому раны ветеранов не исцеляются, шрамы остаются вздутыми, лихорадка не отступает.
Итак, Сирдомину придется поверить — он уже отлично понимает происходящее — что все его подвиги, все удары клинка не разрешат конфликта души. Он запачкан не меньше остальных, и неважно, сколь накален его гнев, сколь праведна ярость: он не способен нести чистую справедливость, ибо на это способен лишь народ как целое. Подобное воздаяние должно быть действием всего общества, всей цивилизации. Не Тисте Анди — они, вполне очевидно, не примут бремени человечества, не станут дарить нам справедливость. «Да и кто ожидает этого?.. Итак… я здесь и я слышу, как рыдает Искупитель.
Нельзя свершать убийства во имя справедливости».
Примирения нет. Каким он был, таким и остался. То, что он делал раньше, делает и сейчас.
Неудачливый заговорщик стоит на коленях, и отрубленная голова кажется символом. Только символ слишком уж сложен и невнятен. Сирдомин может понять лишь одну, очевидную истину.
Головы летят и будут лететь.
Возможно, люди добровольно обманывают себя, веруя в искупление. Искупление ждет нас, подобно задней двери в зале суда. Мы обнаруживаем, что не надо даже платить штраф, что пустые разговоры способны избавить от ответственности. Помаши рукой и под благожелательным взором судьи мирно уходи в заднюю дверь. Виновность и ответственность счастливо отменяются.
О, Селинд воистину оказалась в кризисе. Аргументы стали не нужны; само понятие искупления стало предметом сомнения. Искупитель простирает объятия, берет все на себя. Прощение без вопросов, благодеяние, лишенное ценности и значения — а ведь прощаемые получают дар, не сравнимый со всеми горами золота тираний. Где же справедливость? Где же наказание за преступления, где воздаяние за грехи? Мораль больше не служит компасом, ведь любая тропа ведет в одно и то же место, в котором тебя благословляют безо всяких вопросов.
Культ Искупителя… это извращение.
Она начала понимать, откуда рождается священство, зачем нужны религиозные формы, правила и запреты, моральные фильтры, определяемые общепринятыми понятиями о справедливости. Но она начала понимать и глубинную опасность подобных структур, судящих о чужой нравственности и раздающих правосудие. Стервятники прячут лица под капюшонами, окружают двери суда, решая, кому войти можно, а кому — нет. Долго ли ждать, когда первый мешок с серебром перейдет из рук в руки? Скоро ли первый нераскаянный злодей купит проход в объятия слепого, нерассуждающего Искупителя?
Она могла бы организовать такую церковь, превратить культ в религию, заложить строгие и суровые нормы справедливости. Но как насчет следующего поколения жрецов и жриц? И следующего, и следующего? Скоро ли строгие правила превратят церковь в самовлюбленную, торгующую властью тиранию? Долго ли ждать коррупции, если тайное сердце религии — простой факт, что Искупитель принимает любого представшего перед ним? Этот факт, практически гарантирующий цинизм жрецов, неизбежно рождающий профанические злоупотребления…
Она теряет не только веру в Искупителя. Она теряет веру в саму религию.
Ее молитвы доходят до некоей сущности, она чувствует теплое дыхание божества. Она пирует на его силе. Она напирает. Требует. Настаивает на объяснениях, ответах.