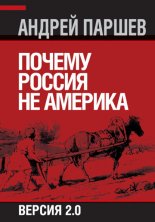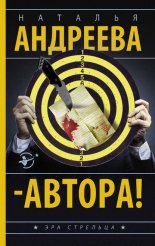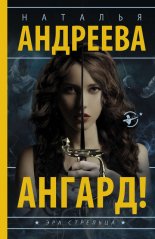Дань псам. Том 2 Эриксон Стивен

Жуткий медведь повернулся боком и поднял морду к опустошенному миру, словно был способен учуять гибель за немыслимые тысячи лиг.
Карса дернул Семар Дев за руку: — Он в городе, Ведьма. Нельзя упустить.
Она позволила Тоблакаю тянуть себя. Рука утонула в его ладони.
Раскорячившийся в нише у ворот Чилбес следил за тем, кто прозывается Скитальцем. Демона трясло. Вой Псов, обрушения целых зданий, явление Сына Тьмы и убийство бога — ох, любого из событий достаточно, чтобы оправдать непроизвольную дрожь ужаса. Даже разрушенной луны на южном горизонте. Увы, но не это довело крылатую жабу до крайнего расстройства чувств.
Нет, источник страха брел сквозь толпу у ворот, уже проходил под сводом стены. Этот самый Скиталец. Он таит в себе столь многое… волю столь необычайной интенсивности, что Чилбес воображал: пожелай того человек, он дотянулся бы до небес, через все воздушные просторы, и слепил луну заново.
Но это не целительная сила. Не благая воля.
Чилбес открыл пасть, посылая невозможно широкую улыбку. Улыбку безумному небу ночи. Затем демон вылез из ниши и помахал крыльями, проверяя, хорошо ли работают. Прыгнул в воздух.
И сразу упал в толпу, хотя вовсе этого не планировал. Возникшая паника совершенно не соответствовала скромным размерам твари. Пережив несколько волнительных мгновений, демон снова взлетел, помятый, поцарапанный и покрытый синяками. Замахал крыльями, стремясь в имение хозяина.
Чтобы доставить весть.
«Он здесь! Он здесь! Дассем Альтор в городе!
А можно мне из города?»
Карса и Семар Дев видели падение демона, но промолчали. Крылатая тварь взлетела и скрылась за стеной. Карса Орлонг побежал прямо к воротам, расталкивая людей; Семар влачилась следом.
Перебравшись через руины, они вскоре оказались на широком проспекте, на перекрестке, почему-то свободном от беженцев. Вдалеке кто-то еще убегал в слепом ужасе.
Скиталец встал. Одиночка, фигура, омываемая светом разбитой луны.
Слева от воителя показался Пес. Из его пасти свисал изгрызенный труп без головы, до сих пор источавший густую кровь. Сверкающие глаза отыскали Скитальца; тот не шевелился, хотя тоже повернул голову к зверю.
Карса вытащил меч и ускорил шаги. Семар Дев, спешила следом. Сердце ее громко стучало.
Она увидела, как Тоблакай еще замедлился и встал в тридцати шагах от перекрестка. Еще миг — и она поняла, почему.
Котиллион шел к Скитальцу. Вторая Гончая — черная — встала рядом, охраняя своего бога.
За ними внезапно рухнуло далекое здание, и сквозь грохот послышалось рычание зверей, сошедшихся в упорной, смертельной схватке. Крики людей казались слабым контрапунктом дикой музыки.
Скиталец ждал. Котиллион подошел к нему вплотную и заговорил.
Семар Дев хотелось выбежать вперед — хотя бы до точки, из которой можно расслышать слова бога, понять, что ответит Скиталец. Однако рука Карсы удержала ее; он покачал головой и чуть слышно пробормотал: — Это не для нас, Ведьма.
Скиталец, казалось, от чего-то отказывается. Он помотал головой, сделал шаг назад.
Котиллион настаивал.
— Он не хочет, — сказал Карса. — О чем бы не просил Котиллион, он не хочет.
Да, это и она видит. — Прошу, мне нужно…
— Нет.
— Карса…
— Это желание, а не нужда.
— И хорошо! Я люблю совать нос куда не нужно. Оставь меня в покое…
— Нет. Всё должно решиться между ними. Семар Дев, ответь мне: получив возможность услышать их разговор, смогла бы ты промолчать?
Она ощетинилась, а затем разочарованно зашипела. — Ладно, ладно, в этом я не сильна. Но, Карса — даже если бы я что-то сказала, какой был бы вред?
— Оставь его. Пусть решает сам, свободно.
Слова Котиллиона падали словно удары, и Скиталец принимал их один за другим, отводя глаза, явно не в силах встретить взор бога.
Пес принялся жевать разодранное тело с бездумным увлечением, столь свойственным всем спешащим набить желудки хищникам. Второй зверь отвернулся и вроде бы прислушивался к звукам схватки.
Котиллион был неумолим.
Для бога, для Скитальца, как и для Карсы Орлонга с Семар, окружающий мир словно исчез. Мгновение стало весомым, оно выпало из времени, как может каменный блок выпасть из сердца стены. Мгновение это должно окончиться решением, тем или иным, ведь очевидно: Котиллион встал на пути воителя и в сторону отступать не намерен.
— Карса… если будет плохо…
— Я берегу его спину, — прорычал Карса.
— Но что если…
Слова ведьмы прервал нечеловеческий вопль, вырвавшийся из горла Скитальца; он словно разящим ножом отсек все ее мысли. Что за отчаянный, тоскливый крик — он не принадлежит ему, не должен… но Скиталец выбрасывает вперед руку, словно сметая Котиллиона с дороги…
Воитель прошел мимо бога, но теперь ему словно нужно волочить каждую ногу. Скиталец будто сражается с незримым, но страшно могучим потоком. Злобная его одержимость вышла за все преграды — он бредет как обреченный.
Котиллион смотрел ему вслед; Семар видела, что он закрыл лицо ладонями, как бы не желая сохранять память о происходящем. Словно воспоминания можно смыть одним движением рук….
Семар ничего не понимала, но горе охватило ее. По кому? У нее не было ясного ответа. Хотелось плакать. По Скитальцу. По Котиллиону. По Карсе. «По всему проклятому городу и трижды проклятой ночи…»
Гончие неторопливо ушли.
Семар моргнула. Котиллион тоже пропал.
Карса встряхнулся и снова потащил ее за собой.
Давление снова росло, напирая на ее защиту. Ведьма слышала треск, шелест песка. И, ковыляя по следу Скитальца, Семар Дев осознала, что они идут в самый узел этой силы.
Страх горчил на кончике языка.
«Нет, Скиталец, нет. Передумай. Прошу, передумай».
Но он же не передумает, правильно? Не сможет. Не захочет. «Рок обреченных… звучит неуклюже, но… как еще это можно назвать? Эту силу неизбежности, ненужную, и тем не менее неодолимую. Рок обреченных».
Бредя сквозь пойманный ночным кошмаром город под призрачным светом умирающей луны, Скиталец словно тянет за собой цепи — а на концах цепей никто иные, как Семар Дев и Карса Орлонг. А сам Скиталец надел на шею стальной воротник, незримо и неумолимо влекущий его вперед.
Никогда еще она не ощущала такой беспомощности.
В растянувшийся до размеров вечности миг перед прибытием Повелителя Смерти мирок Драгнипура начал медленно, жутко и неостановимо содрогаться. Повсюду нависло ощущение конца. Повсюду многоголосие криков отчаяния, ярости и бессмысленного вызова. В каждом из скованных пробудилась суть души, вернула себе природное звучание, и в каждом крике выразилась горькая истина. Драконы визжали, демоны ревели, глупцы истерически вопили. Храбрые герои и безрассудные разбойники набирали в грудь воздух — так, что трещали ребра — и затем испускали боевые кличи.
Серебряные огни падали с небес, разрывая облака пепла. Армия невообразимых размеров, армия, не берущая пленных, ускорила атакующий шаг; мечи стучат о края щитов, белая волна аннигиляции вздымается все выше, смыкаясь с штормовыми тучами.
Жалкие ободранные туши на концах цепей позади повозки поджали обрубки рук и ног, словно все еще страшились грядущего забвения. Вращаются глаза в дырах черепов, в них в последний раз блестят искры разума и понимания.
Нет, никто не желает умирать. Смерть — забвение, и жизнь плюет ей в лицо. Если успевает.
Разумные и безумные в этот миг объединились.
«Отриньте все доводы. Взбудораженные инстинкты — плохие советчики. Трясите цепями, если еще можете, но помните: то, что сковывает нас, нерушимо, и дорога наша лишена ответвлений, как бы ни хотелось думать иначе».
Дич одним глазом взирал в падающее небо и ощущал ужас, но не свой ужас. Бог, которому пришлось одолжить глаз, заполнил череп колдуна воплями. — Рожден на смерть! Я рожден на смерть! Нечестно нечестно нечестно!
Дич хрипло рассмеялся — по крайней мере попытался это сделать — и ответил: «Мы все рождены на смерть, идиот. Нить жизни может оборваться через один удар сердца или через тысячу лет. Растягивай сердцебиение, ломай стены столетий — всё одно. Когда наступит конец, мы почувствуем одно и то же.
И боги ничем не отличаются от нас!»
Нет, его не поразил бог, что угнездился в душе. Кадаспела безумен, если думает, будто такое создание на что-то способно. Вложи в глубину сердца страстное желание убивать, а потом покажи весь ужас беспомощности — ох, разве это не жестокость выше всех пределов? Разве это не приглашение сойти с ума?
«Кедаспела, ты сделал всего лишь версию себя. И ничего иного не смог бы… да, я понимаю.
Но, чтоб тебя, эта плоть — моя. Не твоя.
Проклятие…»
И вот он, пойманный в «великий рисунок». Его кожа — часть гобелена. А какая на нем изображена сцена? Увы, ему не увидеть.
Демон Жемчужина стоял, сгорбившись под весом тел, и железные корни свисали до земли. Он не мог поднять новых и стоял, тихо плача; ноги его дрожали и подгибались, походя на падающие деревья. Он уже давно понял бесполезность ненависти. К Верховному Магу Тайскренну, призвавшему его и подчинившему своей воле. К Бену Адэфону Делату, бросившему его против Сына Тьмы, к самому Рейку, чей меч жалит больно. Всё иллюзия. Ненависть — ложь, питающая твои эмоции, но высасывающая дух. Нет, Жемчужина больше не испытывает ненависти. Жизнь — сделка между ожидаемым и неожиданным. Но не все мы — хорошие торговцы…
Драконус подошел к нему. — Жемчужина, друг мой, я хочу сказать прощай. И поведать, как мне жаль.
— Что тебя так печалит?
— Мне хочется просить прощения за всё. За Драгнипур. За ужас, выкованный моими руками. Разве не правильно, что оружие забрало своего создателя? Думаю, что правильно. Да уж. — Он помолчал, закрыв лицо руками. На миг показалось — сейчас он вцепится в бороду, раздерет кожу. Но вместо этого скованные руки упали вниз, словно под весом цепей.
— Мне тоже жаль, — сказал Жемчужина. — Видеть конец всего этого.
— ЧТО?!
— Так много врагов, сошедшихся вместе не по своей воле. Враги, однако работающие воедино. Так давно. Разве это не чудесно, Драконус? Необходимость заставила их соединить руки, работать сообща. Чудесное дело.
Воитель взирал на демона. Казалось, он онемел.
Апсал’ара взобралась на балку около колеса. Удержаться было трудно — повозка качалась и скрипела, ведь её по-прежнему бездумно тащили вперед; балка была покрыта слизью, потом, кровью и еще какой-то гадостью. Однако что-то происходило в портале, в ледяном черном пятне под самой серединой днища.
Непонятный поток струился во Врата, сложное переплетение нитей, спускавшееся с бока фургона. Каждое щупальце чернильно-темное, но вокруг него слабое болезненное свечение, пульсирующее медленнее, чем бьется человеческое сердце.
Что это? Жалкий бог Кедаспелы? Он пытается использовать шедевр безумного татуировщика как решетку, как такелаж, по которому можно спуститься и нырнуть во Врата?
Он пытается сбежать. Если так, она готова его опередить.
Пусть холод сожжет ее плоть. Пусть отвалятся целые куски. Лучше так, чем рычащие воплощения хаоса, рвущие ей горло.
Она подобралась еще ближе; дыхание вылетало потрескивающими перьями, они тут же превращались в сверкающие кристаллы и падали вниз. Это напомнило юность, ночи в тундре, когда падал первый снег, когда тучи ежились, отрясая алмазные меховые бока, и мир становился таким тихим, таким бездыханно — совершенным, что ей казалось: через миг она сама станет ледяной, навеки приморозит к почве свою юность, смелые мечты и дерзания, память о любимых лицах — матери, отце, родичах и возлюбленных. Никто не постареет, никто не умрет, сойдя с пути, да и сам путь — верно, он не кончится никогда.
«Я остановлюсь на середине шага. Нога никогда не опустится, никогда не понесет меня вперед, ближе к концу дней. Да, оставьте меня здесь. В самом сердце возможностей, ни одна из которых не выпадет. Не будет ни потерь, ни ошибок, ни сожалений на губах — я не почувствую холода.
Я не почувствую холода…»
Она закричала, вдохнув обжигающе-холодный воздух. Какая боль… как она вообще решилась подойти?..
Апсал’ара сжалась в комочек. И поглядела на рисунок — вот он, длиной с человека, струится сверху. Если она прыгнет, попросту бросится вперед — не поймает ли ее волнующаяся сеть?
Или рассыпется? Или уплывет, открыв возможность свободного падения телу — замороженному, твердому, лишенному жизни, с открытыми, но незрячими глазами?
У нее мелькнула новая мысль, разметав сомнения и страхи. Несмотря на боль в руках, Апсал’ара принялась подтягивать цепи, укладывая звено за звеном на балку.
Наделен ли холод Врат силой, способной сломать цепи? Если она бросит груду во Врата, так далеко, как сможет, лопнут ли звенья?
И что потом?
Она зарычала. «Да, что потом? Бежать как заяц, оставить фургон далеко за спиной, бежать от легионов хаоса?
А когда падут сами Врата, куда я побегу? Сохранится ли этот мир?»
Тут она поняла: вопрос лишен значения. Освободиться на один миг — этого достаточно.
«Апсал’ара, Госпожа Воров. Хороша ли она была? А как же! Она сорвалась с цепей Драгнипура!»
Имасса продолжала вытягивать звенья цепей. Она дышала тяжело и мучительно, леденя воздухом легкие.
Драконус отошел от Жемчужины. Он не мог позволить эмоциям демона пробудить собственные чувства. Он не мог принять такую силу прощения, не говоря уже о желании найти нечто достойное в проклятом, объятом бурей безумия мире. Видеть, как Жемчужина стоит, сгибаясь под весом дергающихся, истекающих кровью тел бывших товарищей… нет, это слишком.
Кедаспела не справился. Рисунок был с пороком; в нем не оказалось силы для сопротивления гибели. Отчаянная игра — единственная, оставшаяся Драконусу. В чем же упрекать безногого и слепого Тисте Анди? «Никто из нас не смог бы.
Мы обречены с того момента, когда Рейк прекратил убивать».
И все-таки в нем не поднимается гнев при мысли о Аномандере Рейке. Фактически он начинает понимать — и сочувствовать — такому утомлению, такому желанию покончить со всем. Закончить всё. Назвать это игрой — таков был первый самообман. Самый главный принцип заключал в себе неизбежность конечной неудачи. Скучающие боги и их наделенные ужасающими силами дети — худшие судьи, когда приходится судить саму схему бытия. Они избегают перемен, хотя меняют мир вокруг; для себя они стараются сохранить даже угольки пережитого, хотя у соперников отбирают всё. Они провозглашают любовь, чтобы ловчее убивать и предавать.
Да, Драконус понимает Рейка. Всякая игра, вызывающая страдания и горести — мерзость, извращение. «Разрушай. Покончи со всем, Рейк. Мой наследник, мой духовный сын, мой неведомый, непостижимый преемник. Делай что должен.
Я не вмешаюсь.
О, какие смелые слова.
Когда на самом деле нужно сказать: «У меня нет выбора»».
Сила, внезапно спустившаяся в королевство Драгнипура, была столь могучей, что Драконус на миг поверил, будто хаос наконец добрался до них. Он пал на колени, оглушенный и почти ослепший. Необоримое давление стремилось расплющить всё; Драконус опустил голову, закрыл ее руками, ощутив, как трещит позвоночник.
Если раздаются звуки, он их не слышит. Если осталась жизнь, он видит лишь тьму. Если еще существует воздух, он не может вдохнуть. Кости застонали…
Пытка стала легче, когда на плечо ему легла костлявая длиннопалая рука.
Он снова стал слышать звуки, хотя странно приглушенные. Обычный ураган стонов и жалоб. Мир перед глазами обрел знакомые очертания, но казался призрачным, эфемерным. Наконец ему удалось глубоко вздохнуть.
И почуять смерть.
Кто-то заговорил над ним. — Он поистине умеет держать слово.
Драконус извернул шею, поднял взгляд — рука убралась с его плеча, послышался хруст цепей — он взирал на того, кто произнес эти слова. На Худа, Повелителя и Короля Мертвых.
— Нет! — заревел Драконус, вскакивая, чтобы упасть снова — даже он не мог разорвать своих цепей. — Нет! Что он наделал? Ради Бездны, что наделал Рейк?
Худ поднял руки и с каким-то удивлением смотрел на охватившие тощие запястья оковы.
Неверие перешло в потрясение, а потом в бесконтрольный ужас. Всё лишено смысла. Драконус не понимал. Он не может… о боги… не может поверить…
Тут он повернулся и поглядел на легионы хаоса — да, они отступили на лигу или еще дальше, их отогнало появление необычайного существа, поразила мощь Худа. Ядовито святящиеся тучи взволновались, меняя очертания и будто бы содрогаясь от разочарования… да, это передышка, но… «Напрасно! Все напрасно! Зачем? Это ничего не даст. Худ, тебя предали. Неужели сам не видишь? Нет…» — Драконус стиснул руками голову. — Рейк, ох Рейк, зачем тебе это? Как ты мог решить, будто сможешь что-то изменить?
— Я скучал без тебя, Драконус, — сказал Худ.
И Драконус поднял голову, сверкнув глазами на бога. Джагут. Да, безумный и непостижимый Джагут. — Проклятый глупец! Сам попросил, да? Неужели ты разум потерял?
— Сделка, старый друг, — ответил Худ, все еще изучая скованные запястья. — Или… игра.
— Что будет? Когда хаос схватит тебя? Когда хаос пожрет всё Королевство смерти? Ты предал богов — всех богов. Ты предал всё живое. Когда ты падешь…
— Драконус, — вздохнул Худ, поднимая руку и откидывая капюшон, являя взору морщинистое, словно изборожденное когтями вечного горя лицо. — Драконус, друг мой, — сказал он спокойно, — ты же не думаешь, что я пришел один?
Он еще миг непонимающе взирал на бога. А потом… услышал далекий шум, исходящий сразу с трех сторон. Линии горизонта словно… вскипели.
Армии мертвых ворвались в Драгнипур, на зов своего Повелителя.
— Худ, — едва промямлил пораженный Драконус, — они свободны. Без цепей.
— Точно.
— Это не их битва.
— Может быть. Это еще не решено.
Драконус качал головой: — Они не могут находиться здесь. Не могут сражаться — у мертвых, Худ, осталась лишь тождественность, голая душа, едва держащаяся за край забвения. ТЫ НЕ СМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ С НИМИ ТАКОЕ! НЕ СМЕЕШЬ ПРОСИТЬ ТАКОГО!
— Бог смотрел на повозку. — Все, чего я попрошу у мертвых, — возразил он, — это сделать выбор. По доброй воле. А после этого ничего не попрошу. Никогда.
— Но кто примет заново умерших?
— Пусть боги узнают своих.
Холодный тон поразил Драконуса. — Как насчет тех, что не поклонялись богам?
— Да, как насчет них?
— Что это за ответ?
— После этого, — бросил Худ, созерцая повозку, — мертвые перестанут быть моей заботой. Навеки.
Приближались всадники на конях-скелетах. За спинами воинов развевались драные плащи. Над марширующими армиями поднялись бесчисленные стяги, но вознесенных к небу копий было во много раз больше. Да, их число поистине не поддавалось воображению. Порванный в клочья ветер принес осколки боевых песен. Мир содрогнулся — Драконус не мог и представить, какая тяжесть навалилась сейчас на несущего меч. Смог бы он сам выдержать такое? Драконус не ведал. Но тогда… может быть, в этот миг Аномандер умирает, кости его ломаются, кровь брызжет потоками…
Но случилось и еще кое-что. На его глазах.
Прикованные к повозке существа прекратили тянуть цепи, и огромное сооружение — впервые за тысячелетия — прекратило двигаться. Все впряженные в цепи пали на колени, смотря по сторонам и, наверное, не веря собственным глазам. Армии мертвых приближались. Потоп, океан костей и железа…
Подскакали всадники. Все они незнакомы Драконусу. Шестеро подвели истощенных коней совсем близко. Один в маске, и маска Драконусу знакома — Аномандер однажды сразил сразу несколько таких людей. Сегуле. Знак на маске показал Драконусу, что это Второй. Бросил вызов Первому? Или его самого кто-то вызвал?
Второй заговорил первым: — Вот за эту сортирную дыру ты просишь нас сражаться, Худ? Мы попадем в пасть Хаоса. — Голова повернулась, глаза под маской вроде бы осматривали ободранных, скорчившихся в цепях тварей. — Кто они такие, чтобы мы умирали снова? Чтобы мы исчезли совсем? Жалкие развалины все до одного. Бесполезные дураки. Ба! Худ, ты просишь слишком многого.
Повелитель Смерти даже не взглянул на сегуле. — Ты передумал, Рыцарь?
— Нет, — сказал тот. — Просто жаловался. — Он выхватил два зазубренных, тронутых ржавчиной меча. — Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Но как же я хочу достать Шкуродера! Упустить его таким вот образом… во имя Тирана, у меня желчь разливается.
— Вот почему, — ответил Худ, — не тебе вести Мертвых в бой.
— Что? Я Рыцарь Смерти! Ее треклятый костяной кулак! Я требую…
— Ох, да тише ты, Второй, — вздохнул Повелитель Смерти. — Тебя ждут иные задания — и, я уверен, ты не будешь разочарован. Искар Джарак, примешь команду у Рыцаря? Станешь острием копья, направленного в самое сердце врага?
Тот, к которому он обращался, выглядел обычным старым солдатом. Седая борода, шрамы, простая кольчуга; выцветший трехцветный плащ — серый, малиновый и черный по краям. Услышав слова Худа, он поглядел на Джагута. — Мы укрепим копье, — ответил он. — малазанами. На самом острие будут мои Сжигатели. Даждек на левом фланге, Балт с Седьмой и виканами — на правом. — Тут он повернулся в седле, отыскивая еще одного воина: — Брукхалиан и Серые Мечи пойдут справа от Балта.
Брукхалиан кивнул: — Сочту за честь, Искар Джарак.
— Скемар Ара, строй легионы Джакуруку слева от Даджека. Худ, выслушай меня. У нас есть копье, но из оставшихся многие почти бесполезны. Их воля ослабла за протекшие тысячелетия — они встанут перед врагом, но долго не выдержат.
— Да, — ответил Худ.
— Просто чтобы ты знал, — сказал Искар Джарак. — Просто чтобы ты знал.
— Теперь вернитесь с войскам, — приказал Худ. — Искар Джарак, пришли ко мне одноглазого Глашатая. А ты, Балт, отыщи моего Солдата, того, что прежде звали Боденом. Есть и другие битвы.
Драконус следил, как командиры уезжают. Только Второй остался рядом. Он снова вложил мечи.
Худ, — сказал бог, — что тут творится? Ты просишь мертвецов биться за нас? Они проиграют. Они получат забвение — и ничего иного. Им не победить, Худ. Гонящийся за Драгнипуром хаос неотвратим. Ты слышишь, что я тебе говорю?!
Рыцарь фыркнул: — Это ты не понимаешь, Старший. Он долго был Владыкой Павших, но прежде всего он Джагут. Ха! Вот тебе Повелители Последних Битв. Часовые Разрушенных Крепостей. Пожиратели Утраченных Надежд … ты, Старший, что снова и снова противостоял Тисте Анди и Тисте Эдур — ты, шагавший по пеплу самого Харкенаса — ты поймешь меня. Прокисшие Анди и склонные к самоубийству Эдур — они НИЧТО перед жалким безумием Джагутов!
Слушая эту тираду, Худ не отводил взора от повозки, он груды содрогающихся тел. А затем Владыка Смерти заговорил. — Я часто гадал, на что это похоже — Оплот, скрипящий на деревянных колесах. Да, убогое зрелище. Грубо сделано, топорно. — Он поглядел на Драконуса. Гнилая кожа завивалась над клыками. — А теперь РАЗВОРАЧИВАЙ ЕГО.
Глава 23
«Потерянные сокровища Индароса», Рыбак Кел Тат
- Спроси, что мертвый встретит
- когда раздвинет шторы
- тропу в миры слепые
- где каждый шаг наводит
- на мысли о потерях
- спроси что мертвый видит
- последний взгляд бросая
- назад, на чётки жизни
- рассыпались каменья
- еще дрожит струна
- спроси, что мертвый знает
- там, где невежде проще
- зачем загреб охапкой
- пустые безделушки
- и новый строит дом
- спроси — он не ответит
- за занавесом ливня
- под листьями гнилыми
- где копошатся черви
- жируя на могиле.
Выпучив побелевшие глаза, вол бежал, спасая жизнь. Телега подпрыгнула и задребезжала, встав на одно одичавшее колесо, когда покрытое пеной животное обогнуло угол и понеслось вдоль по улице.
Даже боги не смогли бы пробиться сквозь толстую броню черепа, внутрь, к тугому узлу ужаса в помраченном мозгу. Однажды пробудившись, страсть затуманивает весь окружающий мир, суживает до размеров тоннеля, и спасение светится в далеком, очень далеком конце. Но кто захотел бы посочувствовать волу? Ни человек, ни тем более бог с вечно вздернутой в насмешке бровью — ну зачем бы им обращать внимание на бездумно бегущую тварь?
Зверь есть зверь. Четырехногий, двуногий. Паника использует такое количество конечностей, какое мы можем предоставить. Паника поедет на повозке, паника загрохочет подкованными копытами. Паника вскарабкается на стены — ведь Псы один за другим проносятся мимо.
Ночной воздух смердит и смрад врывается в ноздри, словно терпящий бедствие корабль врезается в берег. Дым и кровь, желчь и моча. Но прежде всего кровь.
И еще крики. Они поднимались отовсюду, очень часто прерываясь на самой высоте или, еще хуже, становясь сдавленным хрипом. Даже матери редко слышат такие умоляющие крики. Кто может сказать, что вол в свое время не мычал призывно, видя сладостное вымя, нависшую над головой тушу, чуя вкусные запахи теплого молока? Увы, мамочка его давно уехала за поворот, возить телегу на небе — но даже сумей она вернуться на отчаянный зов дитяти, что смогла бы противопоставить Гончим Псам?
Нет, бежать придется самому. Каждому — поодиночке. Волу, коню, собаке, кошке, мышке и крысе, ящерице и гнусу. И людям всех сортов. Старым хромцам и старикам, которые до сегодняшней ночи не хромали. Женщинам всех возрастов, размеров и характеров, которые могли бы хромать, если бы это вызывало симпатию в мужчинах. Но если даже на крышах не спастись от бед, зачем нестись в телеге умопомрачающей паники? Не лучше ли упасть брюхом наземь, сдаваясь, не заботясь более о красоте одежд и прочих неприличных моменту приличиях? Пусть люди гадят в штаны — они и раньше плохо мылись.
Благородные бежали подло, падшие взлетали как на крыльях, воры отважничали, а громилы плакали и пускали слюни, стража ослепла от ужаса и никого не ловила, а воины неслись, лязгая зубами, щитами и мечами. Нищие глупцы оставались, чтобы защищать неимения свои. Шулеры плясали, а шлюхи шельмовали на бегу — а в Храме Теней прекрасные женственные служки с визгами разбегались с пути вопящего Мага, пустившего мула в галоп — прямиком через громадный алтарный зал, летят кадила в струях змеящегося дыма, во множестве выбрасывая горящие глаза угольков. За крупом атакующего мула крылатые обезьянки вопили и забрасывали комками соплей и кусками облепленного волосами помета каждую бегущую женщину, пока пауки кишели в давно пересохшем желобке для стека крови у подножия алтаря: настоящий ковер судорожно дергающихся лапок, блестящих брюшек, узорчатых спинок и круглых дальхонезских глаз, размноженных в сотнях сотен. Стоило ли удивляться, что, едва Маг и мул пересекли зал, двери в дальнем конце распахнулись словно по своей воле?
Едва Верховная Жрица — вышедшая из-за занавеса словно женщина, прерванная в разгар любовной игры, с натертым мужской щетиной подбородком, вздутыми губками, выскочившими из выреза грудями и взволновавшимися изгибами бледной плоти — погрузилась по щиколотки в гущу клубящегося, черного, полного яда и злобы ковра, как начала бешено плясать; но даже Могора впала в ступор от неожиданности и не решилась вонзить поросль зубов в столь сладкое мясо. А бхок’аралы набросились, загребая в лапы сочных пауков и хрусть — хрусть их челюстями, и если бы пауки могли кричать, то так и сделали бы, но они не могли и попросту сбежали в глубину желоба.
Мул с Магом прогрохотали по колоннаде и выбили вторую пару дверей, выскочив в унылую аллею, где нашли укрытие многие беженцы, рассеявшиеся при виде ужасных выходцев, а особенно при виде тучи спешащих за ними бхок’аралов.
А теперь со скоростью сгорающих мошек понесемся через город, назад к волу, который едва бредет, изнемогая от утомления и сердцебиения — его загнала бешеная телега или кто там прицепился сзади, а впереди он видит приближающуюся груду развалин какого-то громадного здания…
Даже вообразить трудно степень разрушений, устроенных в городе Гончими Тени. Едва развалив ворота, Барен метнулся на запад, преследуя Бледа: белый как кость зверь оторвался от стаи, явно замыслив совершить что-то неподобающее в другой части устрашенного Даруджистана.
Блед не знал, что его уход заметили. Навстречу ему попались более десятка стражников, вышедших на середину улицы. Чудовищный зверь прыгнул в середину группы, обнажив острые клыки. Доспехи вминались, конечности отрывались, оружие взлетало в воздух. Крики вознеслись над водоворотом истребления.
Едва Блед сплющил челюстями голову последнего стражника, Барен налетел на него словно лавина. Грохот столкновения казался громом — или звоном колоколов, которым уподобились мощные грудные клетки; Блед отлетел в сторону, да и нападавший ударился о стену соседнего большого здания.
Двери, прочные и широкие, вмяло внутрь. Осколки камня поразили троих людей, имевших несчастье стоять в передней комнате. Обрамлявшие дверь громадные каменные блоки осыпались, ударяясь друг о дружку словно игральные кости, и раздавили одного из раненых — он даже вскрикнуть не успел. Двое других, покрытые кровью и ссадинами, были прижаты к стене массивным столом. Через несколько мгновений они умерли — внутренние органы и кости превратились буквально в месиво.
Сцепившиеся псы, рыча и кусаясь, разбили столешницу; нижняя часть стола полетела в потолок, уже начавший проседать. Балки и колонны жутко затрещали, и весь дом обрушился, отчего новые вопли прорезали пыль. Но быстро заглохли.
Задняя стена упала под ударом зверей, за ней показался коридор с рядами зарешеченных дверей, а также еще двое стражников — они пытались сбежать в дальний конец, но потолок рушился и здесь, замки ломались, железные прутья выпадали из каменных креплений. Заключенные исчезли под грудами расщепленных деревяшек, штукатурки и кирпича.
Блед попятился под очередным натиском Барена — и ввалился в одну из камер. Заключенный присел, потом отпрыгнул в сторону, а Гончие сцепились снова, снеся заднюю стенку и выкатившись на улицу, уже заваленную грудами камня, ибо обрушилась вся тюрьма.
Одинокий заключенный встал на ноги и хотел побежать следом за Псами…
… но не успел, потолок камеры упал ему на голову.
На улице Бледу удалось сомкнуть челюсти на плече Барена; резкий рывок послал зверя кувыркаться в воздухе. Он врезался в стену, повалившуюся под солидным весом Барена.
В первой камере кусок оштукатуренного потолка поднялся, под ним была спина заключенного. Он, покрытый кровью, синяками и порезами, все-таки сумел выбраться наружу.
Блед расслышал его кряхтенье и стоны, уловил шорох — и развернулся, сверкая глазами.
А Баратол замер, не успев освободить ноги, глядя в адские очи и понимая: это последнее зрелище его жизни.
Блед подобрал ноги, готовясь напасть. Запачканные, порванные губы поползли, обнажая длинные клыки… он прыгнул…
Но какая-то фигура оказалась на пути, ударила в плечо так сильно, что животное кувыркнулось в полете.
Баратол упал на спину — или скорее, на бок, как сумел — и тотчас же забрызганная алым голова Гончей врезалась в россыпь камней. За головой последовало тело.
Встав с земли, Чаур поглядел на Баратола, радостно улыбаясь кровавым ртом и поднимая взятую в кузнице громадную секиру — любимое оружие Баратола. Когда Блед вылез из завала, Чаур бросил секиру в сторону Баратола, а сам подхватил каменную глыбу.
Баратол завопил, отчаянно пытаясь сбросить с ног кусок стены, а белый Пес с рычанием развернулся к Чауру. В глазах плескалась раскаленная ярость.
Барен выкарабкался из мусора дальше по улице, но подоспеть вовремя никак не мог. Не повезло Чауру.
Дергая ногами, забыв о телесной боли, Баратол сражался с завалом.
Чаур метнул камень, как только зверь бросился в атаку.
Угодив прямо в нос.
Мучительный визг… инерция вынесла Пса на Чаура, послав того лететь вдоль улицы. Он ударился о стену, упал на грязную мостовую и больше не шевелился.
Баратол вытащил ноги, оставляя след крови и кусков кожи. Перекатился на живот, схватил секиру и тяжело поднялся на ноги.
Голова Бледа повернулась.
Баратол встал посередине улицы.
Белый Пес оглянулся, зарычал и сбежал. Через мгновение мимо кузнеца промчался Барен.
Баратол зашатался на неверных ногах. С трудом сделал вдох, другой… поглядел туда, где лежало неподвижное тело. Всхлипнув, заставил себя брести в том направлении.
Потоп заливал странные места в мозге, именовавшие себя Чауром, и одно за другим эти места тонули. Одна за другой гасли искры, не разгораясь вновь. Его обычная бессознательность становилась чем-то более глубоким — защитным забвением, спрятавшим от Чаура тот факт, что он умирал.
Лицо его стало торжественным — только уголок рта опустился — и, когда Баратол перекатил тело на спину, зрачки оказались предельно расширенными.
Рыдающий кузнец положил голову и плечи дурачка на колени. Все остальное — весь мир, взрывы, крики, грохот битвы — все ушло. Не сразу Баратол понял, что еще кто-то вылез из развалин тюрьмы. Раздалось стаккато проклятий на малазанском языке, а также на фаларском, добрийском и дару. Кузнец поднял голову, заморгал.
— Дергун… прошу… нужна помощь. Ему плохо.
Бывший Сжигатель был покрыт пылью, но иначе не поврежден. — Я потерял клятый меч. Я потерял клятый арбалет. Я потерял клятые жульки. Я потерял…
— Дергун! Дыханье Худа, прошу помощи — нужно найти целителя. Высший Денал — такой должен быть в городе. ДОЛЖЕН!
— Ну, есть же Колотун… но он… дерьмо! он же помер. Забыл. Не могу поверить. Забыл.
Дергунчик склонился и поглядел на Чаура. Потряс головой: — Ему конец, Баратол. Череп пробит, кровь в мозгу — всегда видать, ежели лицо обмякло…
— Я знаю, чтоб тебя. Нужен целитель! Думай, Дергун — должен быть хоть кто-то.
— Может, но не близко — нам полгорода пройти. Баратол, с этими Гончими…