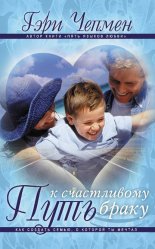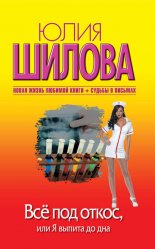Notice: Undefined variable: contentRead in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 681
Notice: Undefined variable: row in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
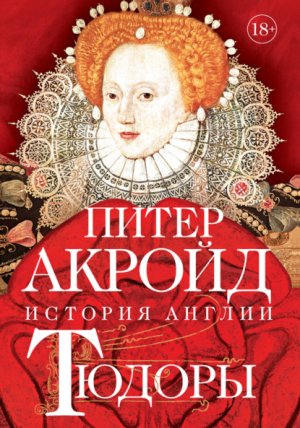
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― quantum per Christi legem licet ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― Dei legem, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[14]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1531 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 24 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1531 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1528 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1531 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―]; ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1532 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 11 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1532 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 25 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1533 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 19 ïŋ―ïŋ― 216 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 23 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 31 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ėŧ.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, HA (Henry and Anna), ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―!ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1533 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1534 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 7 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
7.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― 1533 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1531 ïŋ― 1532 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1533 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1534 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1533 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1534 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1534 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1534 ïŋ― 1540 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―å ŧ ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[15] ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 15 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1534 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Anglicana Ecclesiaïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― potestas ordinis; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1535 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: Vivat Rex! Vivat Rex!, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1535 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 4ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1535 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
1.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
2.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 22 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1535 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―î ŧ ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1535 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (superstitio)ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 419 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― 176 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
8.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―
7 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 29 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―] ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 24 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
30 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 19 ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 6 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 25 ïŋ―ïŋ―ïŋ―. VIII [1533] ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―.ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 12 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 25 ïŋ―ïŋ―ïŋ―. VIIIïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[16]:
- ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[17]
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[18]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―!) ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―. 16:8). ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[19] ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[20]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[21] ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[22], ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (confusissime compositi).
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―] ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
9.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1536 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[23] ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―]ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 15 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 19 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 40 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[24]
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
2 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 15 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― III.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― cura animarum, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
10.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1538 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1537 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―č ŧ. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.