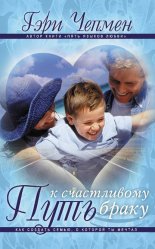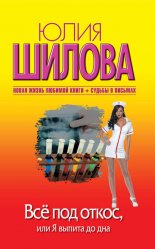Notice: Undefined variable: contentRead in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 681
Notice: Undefined variable: row in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
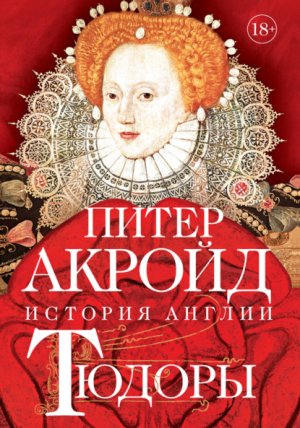
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1560-ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[74] ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― 1568 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1577 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
31.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―[ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―] ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1569 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1569 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 28 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1569 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1570 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1570 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― V ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1570 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1570 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 17 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1570 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― IX ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1570 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― putain publique, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1570 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 45 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1571 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[75].
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1571 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1571 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 5 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1571 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― 9 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
16 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― La royne sïŋ―advisera ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1570-ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1570-ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 10 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― 1573 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 20 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 11 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 22 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 10 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 150 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 365 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
32.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[76].
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[77]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―)ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― IX ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 24 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XIII ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 3ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―í ŧ ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1573 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―é ŧ
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1573 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 1572 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― 1578 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―).
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1577 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1552 ïŋ―ïŋ― 1616 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1585 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1574 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―î ŧ. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1575 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1575 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[78].
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1576 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―: ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
33.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1576 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1577 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― 1559 ïŋ―ïŋ― 1585 ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 20 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1577 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1578 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 20 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, cui adhaereo praeest, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1578 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 28 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1578 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[79]
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 4ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1578 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 1976 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1578 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1579 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― 1579 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― grenouille, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1579 ïŋ― 1583 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1580 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1580 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1580 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1569 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― IHS, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[80]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―), ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 0,4 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1580 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 8 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 4 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―). ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― 123 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 300 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 308 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1534 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― 1 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 20 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 21 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 140 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 5ïŋ―% ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
34.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1581 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Ojo ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1582 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1580 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? Ut quid tot sumptus?ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. Nemo novit nisi cui Pater revelavit ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―], ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1583 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―č ŧ
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1582 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―). ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[81]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 12 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1583 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: Jacta est alea!ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―[82]
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―å ŧ ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―], ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1584 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1584 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―] ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1584 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1585 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―]ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VI, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 20 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1585 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1585 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―] ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.