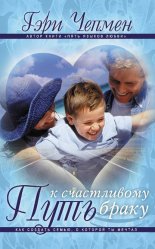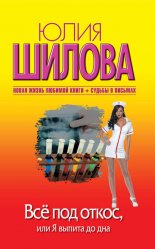Notice: Undefined variable: contentRead in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 681
Notice: Undefined variable: row in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VIII ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
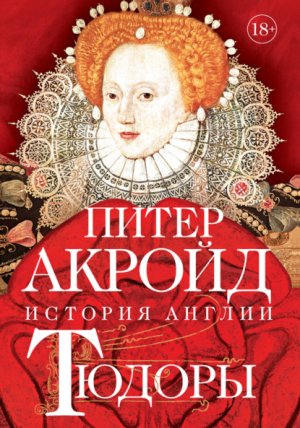
Peter Ackroyd
THE HISTORY OF ENGLAND
Volume II. Tudors
ïŋ― Peter Ackroyd, 2011
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―.ïŋ―., ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 2020
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 2020
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
1.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 21 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1509 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
9 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1400 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 700 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, 24 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 200 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1509 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 250 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 380 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1510 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1511 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1510 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1511 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1490 ïŋ― 1530 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1511 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1511 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1511 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1511 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1512 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 15 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1512 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 25 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1513 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 300 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 115 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1513 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― III ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1340 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― 1513 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― IV ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― IV ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 10 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
2.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1511 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1514 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1515 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1512 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1512 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1515 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (praemunire) 1392 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1351 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― III ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XIV ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1485 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― praemunire; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XIV ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1370-ïŋ― ïŋ― 1380-ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1381 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1515 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― X ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1516 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1506 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1515 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1515 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 18 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1516 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1517 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 30 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―! ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1517 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― sudor Anglicus, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 120 ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ä
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[1].
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1517 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XIV ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[2].
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XIV ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XVIII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[3]. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XVIII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
3.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ― 1517 ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1518 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― devotio moderna, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[4] ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[5],ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―). ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XIX ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― XVI ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1517 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[6]. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1518 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1518 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[7]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1519 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― 1521 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1520-ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 21 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1521 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― De Captivitate Babylonica Ecclesiase (ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―), ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― X ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Assertio Septem Sacramentorum, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Fidei Defensor, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1523 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― II. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1518 ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―;
- ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[8].
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1519 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1520 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
4.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1514 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1519 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1520 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1523 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1523 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― De Servando Conjugio ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―î ŧ (ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 26:16). ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― III, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1521 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ― 1037 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[9], ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[10]. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1521 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 30 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 10 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1522 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ä ŧ ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1523 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1525 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―:
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,
- ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[11].
ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1381 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[12]. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1525 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― 1526 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1526 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― XVIII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1527 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― VII ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1527 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 1527 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Liber noster, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1527 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1527 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1528 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― 1528 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1528 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
5.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― 3 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 2 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―[13]. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1526 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1526 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―? ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 11 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1527 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1528 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1529 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1529 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 18 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―). ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― V ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 9ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―.ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 23 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―!ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 18 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― 27 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Non eset bonum irritare crabrones (ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―). ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1529 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
9 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― praemunire, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―), ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1529 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― [ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―], ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1529 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Leges Anglorum ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― 187 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―. ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― I ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Collectanea satis copiosa, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1530 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―?ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. 4ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―,ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―: ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―-ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
6.ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1530 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― praemunire; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1531 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― (ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―) ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― praemunire ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― 1531 ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― cura animarum, ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―; ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.
ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― Leges Anglorum, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―, ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―. ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―? ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ― ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―ïŋ―.