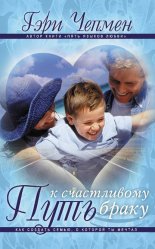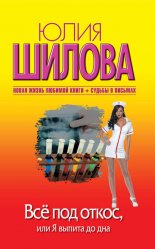Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности Поллан Майкл

Это обстоятельство навело нас на мысль о теории упоротой обезьяны Теренса Маккенны, олицетворяющей все размышления на тему микоцентризма, теории, которую Стеметс рассчитывал основательно со мною обсудить. Хотя чтение не заменяет слуха (а Маккенна вслух излагает свой тезис на YouTube, где его можно спокойно отыскать), он, однако, суммирует все сказанное в книге «Пища Богов» (1992): псилоцибе дали нашим предкам-гоминидам «доступ в миры сверхъестественной силы», «послужили катализатором для проявления человеческой саморефлексии» и «вырвали нас из рамок животного сознания, приведя в мир артикулированной речи и воображения». Последняя гипотеза – гипотеза о возникновении языка – строится на концепции синестезии, то есть на слиянии чувств, индуцируемых психоделиками: под влиянием псилоцибина числа могут окрашиваться в цвета, цвета неразрывно связаны со звуками, и так далее. Язык, утверждает он, являет собой особый случай синестезии, где кажущиеся бессмысленными звуки увязываются с логическими концепциями. Вот вам и упоротая обезьяна: даровав нам язык и саморефлексию, псилоцибиновые грибы сделали нас теми, кто мы есть, преобразовав наших примитивных предков в Homo sapiens.
На самом деле теория упоротой обезьяны не поддается ни доказательству, ни опровержению. Поедание первобытными гоминидами грибов вряд ли могло оставить какой-нибудь след в палеонтологической летописи, поскольку грибы, чья ткань очень нежна и мягка, нужно всегда есть свежими; к тому же они не требуют ни специальных орудий, ни особых методов обработки, необходимых для выживания. Маккенна толком не объясняет, каким образом поедание психоактивных грибов могло воздействовать на биологическую эволюцию, то есть на естественный отбор на уровне генома, приводящий к эволюционным изменениям. Ему было бы куда проще привести доводы в пользу иной гипотезы – о влиянии психоактивных грибов на культурную эволюцию (вроде той, которой посодействовал Уоссон), но у грибов, очевидно, куда более амбициозные планы на Теренса Маккенну и его ум, а сам Теренс Маккенна куда как счастлив повиноваться их приказам.
Стеметс и Маккенна (особенно в последние годы его жизни) близко сошлись и подружились, и со дня смерти последнего (Маккенна умер от рака мозга в возрасте 53 лет) Стеметс несет факел упоротой обезьяны, упоминая теорию Маккенны в своих бесчисленных лекциях и докладах. Стеметс признает, что будет трудно доказать эту теорию ко всеобщему удовлетворению, однако полагает «скорее возможным, чем нет», что псилоцибин «сыграл ключевую роль в эволюции человека». Что представляют собой грибы, задавался я вопросом, и те видения, которые они вызывают в сознании людей, видения, которые воспламеняют такого рода интеллектуальное сумасбродство и убежденность?
Истории грибных евангелистов вроде Маккенны читаются как рассказы о религиозном обращении, где некоторые люди, на собственном опыте познавшие силу грибов, выходят из этого опыта с убеждением, что эти грибы – первичные двигатели (своего рода боги), которые могут объяснить все. Пророческая миссия этих людей в жизни ясна: нести сие послание миру!
А теперь посмотрите на все это с точки зрения грибов: то, что началось как биохимическая случайность, превратилось в гениальную стратегию по расширению ареала обитания и численности вида путем завоевания страстной привязанности и доверия со стороны такого изобретательного и хорошо передвигающегося (как и хорошо говорящего!) животного, как Homo sapiens. По мысли Маккенны, сами грибы помогли сформировать именно такой ум – ум, наделенный инструментами языка и воспламеняемый воображением, – который способен наилучшим образом отстаивать и продвигать их интересы. Какая гениальность! Какая дьявольская изобретательность! Ничего удивительного, что Пол Стеметс убежден в их разумности.
На следующее утро, прежде чем мы уложили вещи в машины, чтобы двинуться на юг, Стеметс преподнес мне еще один подарок. Мы были в его офисе и просматривали кое-какие снимки на компьютере, когда он достал с полки несколько шляп амаду, напоминающих по форме шляпки грибов, и сказал: «Примерьте, может, какая и подойдет». Большинство оказались велики, но одна пришлась как раз впору: она идеально сидела на моей голове, к тому же была удивительно мягкой и почти невесомой. Я поблагодарил Стеметса за подарок, но шляпу надевать не стал: с этим «грибом» на голове я выглядел, как мне казалось, смешно и глупо, поэтому я упаковал ее вместе с другими вещами.
Итак, ранним воскресным утром мы двинулись на запад, к тихоокеанскому побережью, а оттуда на юг, к реке Колумбия, ненадолго остановившись лишь в курортном городке Лонг-Бич, чтобы пообедать и запастись провизией. Была первая неделя декабря, городишко казался мирным, сонным и словно вымершим. Стеметс заранее попросил меня не указывать то место, где мы собирались охотиться за Psilocybe azurescens; единственное, что я могу сказать: там три общественных парка, граничащих с широким устьем Колумбии, – Форт Стивенс, Мыс Разочарования и Национальный исторический заповедник Джорджа Роджерса Кларка, в одном из которых мы и остановились. Стеметс, наезжавший сюда многие годы с той же целью, что и сейчас, остался в машине (он немного расстроился из-за того, что его узнал здешний лесничий), а я тем временем зарегистрировался в офисе и захватил оттуда карту, указывавшую направление к нашей юрте.
Как только мы выгрузили и привели в порядок снаряжение, то тут же облачились в походную одежду, зашнуровали ботинки и двинулись по грибы. Другими словами, принялись бродить по дорожкам, устремив глаза в землю и внимательно обшаривая взглядом кустарник, тянущийся вдоль песчаных дюн, и травянистые лужайки, примыкающие к юртам, с их пестрым узором из трав, листьев и перегноя. Мы бродили в позе «псилоцибиновой сутулости», как ее называют, всякий раз поднимая головы и выпрямляясь, едва заслышав шум приближающейся машины. Заготовка грибов запрещена в большинстве национальных парков, а сбор псилоцибиновых грибов вообще является преступлением на государственном и федеральном уровне.
Здесь, на сороковых широтах тихоокеанского побережья, погода была пасмурной, но тихой, что можно считать почти благодатью в этом северном регионе, особенно в декабре, когда постоянно штормит, сыро и холодно. Мы имели в своем распоряжении почти целый парк. Ландшафт поражал своей пустынностью и безлюдьем: всюду топорщились угловатые сосны с искривленными стволами, низко склонившимися в одну сторону под напором сильных ветров, налетающих с океана, желтели бесконечные песчаные пляжи с большим количеством коряг, выброшенных морем, а вдоль них здесь и там колыхались на волнах либо гнили на берегу гигантские бревна, прибитые сюда бурей. Эти бревна, бывшие некогда высокими деревьями, росшими в девственных, дремучих лесах выше по течению Колумбии за сотни миль отсюда, были смыты водами реки и доставлены сюда, где и лежали, омываемые волнами.
Стеметс полагает, что Psilocybe azurescens, изначально произраставшие в лесу, попали сюда, в устье реки Колумбия, в виде спор, застрявших в древесине одного из бревен, унесенных рекой, – иначе как объяснить тот факт, что это единственное место на побережье, где встречается этот вид. А возможно, мицелий проник в древесные семена, поселившись там и образовав симбиотические связи с деревом. Мицелий, считает Стеметс, функционирует в данном случае как своего рода иммунная система для своего хозяина, дерева, то есть выступает как гормональное, антибактериальное, противовирусное и инсектицидное образование, защищающее дерево от болезней и паразитов в обмен на питательные вещества и кров.
Пока мы бродили по травянистым дюнам расширяющимися спиралями или выписывая замысловатые восьмерки в поисках грибов, Стеметс не переставая твердил принятую у заядлых грибников поговорку; грибная охота – в отличие от охоты на зверей – хороша тем, что здесь вовсе не требуется молчать, боясь спугнуть своим голосом грибы. Впрочем, время от времени он замолкал, но лишь для того, чтобы показать мне гриб. Все эти грибы были один к одному: маленькие и коричневые; опознать, что это за гриб, было совершенно невозможно, но Стеметс почти всегда приводил латинское название гриба и несколько интересных фактов о нем. В какой-то момент он протянул мне сыроежку, заявив, что ее надо съесть прямо сейчас. Едва я откусил ее красноватую шляпку, как тут же выплюнул: она оказалась жгучей на вкус. Что поделать! Скармливать новичкам сыроежки – это старый потешный обычай, принятый у бывалых грибников.
Я видел множество МКГ (маленьких коричневатых грибов), хотя не могу сказать, были ли это псилоцибиновые грибы или нет, и постоянно мешал Стеметсу, то и дело обращаясь к нему за консультацией, и каждый раз он опровергал мою надежду, что наконец-то я получил в свои руки драгоценную добычу. После часа или двух безрезультатных поисков Стеметс громко вздохнул и заявил, что, пожалуй, мы поздновато отправились за «азурами», так как они, видимо, уже отошли.
И вдруг, как в напряженной драматической сцене, он громко прошептал: «Да вот же он!» – и указал пальцем на гриб в стороне от себя. Я рванулся к нему, крикнув, чтобы он его не трогал: уж больно мне хотелось хорошенько рассмотреть, где и как он растет. Я надеялся, что тем самым обрету «наметанный глаз», как любят выражаться бывалые грибники. Как только наша радужка запечатлевает искомый визуальный объект со всеми его особенностями, то в следующий раз он непременно появится в поле нашего зрения. (На научном языке это явление называется феноменом более легкого распознавания стимула одного типа в ряду стимулов другого типа, или просто увеличением зрительного поля.)
Это был симпатичный грибок с гладкой, слегка глянцевой шляпкой цвета карамели. С согласия Стеметса сорвал его я; несмотря на малые размеры, он на удивление прочно сидел в земле, и когда я его вытащил, он прихватил с собой на ножке часть прелой листвы, почвы и крошечный белый узелок мицелия.
– А ну-ка, поскребите ногтем ножку, – велел Стеметс.
Я поскреб, и примерно через минуту это место приобрело синеватый оттенок.
– Псилоцибин, – непререкаемо изрек мой напарник.
Псилоцибин? Вот уж не ожидал, что воочию увижу химическое вещество, о котором я так много читал.
Этот гриб рос прямо на краю парковой зоны, примерно на расстоянии брошенного камня от нашей юрты. Стеметс сказал, что, подобно многим псилоцибиновым видам, «азуры» растут по краям больших экологических систем.
– Посмотри-ка, где мы находимся: на краю континента, на краю экосистемы, на краю цивилизации, и эти грибы, конечно же, и наше сознание подведут к самому краю. – И в этот момент Стеметс, который, когда дело касалось грибов, всегда был необычайно серьезен, вдруг взял и пошутил, пошутил впервые за все время нашего с ним знакомства: – Знаете, что является лучшим индикатором для грибов вроде Psilocybe azurescens? Виннебаго![17] – И он указал на следы от колес, испещрившие парк во всех направлениях.
Несомненно, мы не первые люди, охотившиеся за «азурами» в этом парке, а каждый, кто собирает грибы, оставляет за собой в воздухе облако невидимых спор; именно из этого обстоятельства, по его мнению, и возникло представление о волшебной пыльце, якобы разбрасываемой феями. Так же и здесь: если проследить многочисленные следы от колес машин и трейлеров, то в конце их, как правило, наткнешься на машину с трейлером или кемпинг; это и есть виннебаго.
В тот день мы нашли семь «азуров». Под «мы» я прежде всего имею в виду Стеметса; я нашел только один гриб, да и то до последней секунды, пока не подошел Стеметс, улыбнулся и показал поднятый вверх большой палец, я не был до конца уверен, что это псилоцибе. Могу поклясться, что он выглядел точно так же, как десятки других видов, попадавшихся мне на глаза. Стеметс был терпелив, уча и посвящая меня в морфологию грибов, так что на следующий день мое знание (а с ним и удача) заметно возросло: я сам нашел четыре маленьких красавчика карамельного цвета. Небогатый улов, но на меня хватило бы и этого, особенно когда я узнал от Стеметса, что даже одного из этих грибков достаточно, чтобы отправить меня в долгую экстрасенсорную экспедицию.
Тем же вечером мы осторожно уложили семь грибов на бумажное полотенце и сфотографировали их, а уж затем внесли их в юрту и разложили перед обогревателем для усушки. За несколько часов под действием горячего воздуха эти и без того ничем не примечательные грибы превратились в крошечные сморщенные голубовато-серые лоскутки, которые легко проглядеть. Трудно было поверить в то, что нечто столь непривлекательное могло претерпеть такие метаморфозы.
Я был преисполнен надежды в тот же вечер испробовать на себе один из «азуров», но Стеметс умерил мой энтузиазм.
– Я считаю, что azurescens слишком сильны для тебя, – сказал он мне, когда мы стояли у костра, который разожгли возле юрты, попивая пиво. Дело в том, что сразу после наступления темноты мы поехали на пляж, чтобы при свете фар поохотиться на моллюсков, и теперь, вернувшись назад, кипятили их в котелке над костром, добавив туда для аромата чеснок. – К тому же «азуры» вызывают один побочный эффект, который многие находят весьма неприятным для себя.
– И какой же?
– Временный паралич, – деловито-будничным тоном ответил он и пояснил, что люди, отведавшие «азуры», на какое-то время впадают в ступор, когда обнаруживают, что не могут управлять своими мышцами. – Это еще туда-сюда, если находишься в безопасном месте, но что, если ты на улице, а погода ветреная, дождливая и к тому же собачий холод? Ты же умрешь от переохлаждения!
Да, незавидная реклама «азурам», особенно учитывая тот факт, что она исходит от человека, открывшего этот вид и давший ему название. Мне как-то вдруг расхотелось пробовать эти грибы.
За эту неделю я не раз возвращался к одному и тому же вопросу: «Почему, черт возьми, какой-то гриб должен заботиться о производстве химического соединения, оказывающего столь радикальное воздействие на сознание животных, поедающих его? А что значит это соединение для самого гриба и значит ли хоть что-нибудь?» Можно, конечно, придумать квазимистическое объяснение этому явлению, как это сделали Стеметс и Маккенна: оба полагают, что нейрохимия – тот язык, которым природа объясняется с нами, пытаясь с помощью псилоцибина донести до нас что-то важное. Но я такой подход скорее расцениваю как поэтическое тщеславие, нежели как научную теорию.
Лучший ответ на этот вопрос из тех, которые мне удалось получить, дал спустя несколько недель (разумеется, при содействии Пола Стеметса) бывший профессор Колледжа Эвергрин, химик Майкл Бёг. Когда я дозвонился ему домой (он живет неподалеку от каньона Коламбия-Ривер-Гордж, в 160 милях от нашего кемпинга), Бёг сказал, что он ушел в отставку, прекратил преподавательскую деятельность и в последнее время как-то не очень задумывается о псилоцибах, но мой вопрос заинтриговал его.
Я спросил его, есть ли основание верить в то, что псилоцибин действительно является для гриба защитным веществом. Ведь защита от паразитов и болезней – самая распространенная функция так называемых вторичных метаболитов, производимых растениями. Любопытно, но многие растительные яды не убивают хищников, а действуют скорее как психостимуляторы или токсины, вот почему многие из них мы используем для изготовления лекарственных препаратов, вызывающих изменение сознания. Почему все же растения не убивают своих врагов? Возможно, потому, что при сопротивлении этот метод скор, но не столь эффективен, как кажется, тогда как возня с нейромедиаторными сетями хищника может отвлечь или, лучше сказать, может толкнуть его на спонтанные рискованные действия, которые сократят дни его жизни. Подумайте об одурманенном токсинами насекомом, чье неадекватное поведение привлекает к себе внимание голодной птицы!
Но Бёг обескуражил меня, сказав, что если бы псилоцибин был защитным химикатом, то «мой бывший студент Пол Стеметс давно бы уже оседлал его и нашел ему применение в качестве противогрибкового, антибактериального или инсектицидного средства». В сущности, Бёг однажды уже исследовал грибы на предмет содержания в них псилоцибина и псилоцина и обнаружил, что в мицелии их количество ничтожно – хватит лишь на то, чтобы защитить только часть организма. «Химические вещества находятся не в мицелии, а в плодоносящем теле – иногда более двух процентов на массу гриба в сухом состоянии!» – колоссальное количество, а защиту лишь части организма вряд ли можно считать в данном случае эволюционным приоритетом.
Даже если псилоцибин в грибах появился в результате чистой случайности, «некоего сбоя метаболического пути», тот факт, что он не был отброшен в ходе эволюции этого вида, заставляет предположить, что он, должно быть, приносит какую-то пользу. «Предполагаю, и это лучшее, на что я способен, – сказал Бёг, – что грибы, производящие большое количество псилоцибина, почему-либо поедались с большей охотой, поэтому их споры получили более широкое распространение».
Поедались кем или чем? И для чего? Бёг сказал, что псилоцибиновые грибы, как известно, поедаются многими животными, включая лошадей, коров, быков и собак. На некоторых из них, например коров, грибы не оказывают никакого дейст-вия, но многим животным, видимо, все же нравится временное нарушение привычного для них состояния. Бёг занимается сбором сведений об отравлении грибами для Североамериканской микологической ассоциации, и за многие годы он выслушал и перечитал множество рассказов о лошадях, бродящих, спотыкаясь, в своих загонах, и собаках, которые «фокусируются на псилоцибе и, по-видимому, галлюцинируют». Известно также, что некоторые виды приматов (помимо нашего собственного) тоже с наслаждением вкушают психоделические грибы. Вероятно, именно животные со вкусом к измененным состояниям сознания и способствовали столь широкому распространению псилоцибина. «Штаммы вида, который производил большее, а не меньшее количество псилоцибина и псилоцина, пользовались, как правило, большей благосклонностью у животных и поэтому постепенно распространялись все дальше и шире».
Поедаемые в малых количествах, психоделические грибы, вероятно, повышают выживаемость животных за счет усиления остроты восприятия и, возможно, фокусировки внимания. В обзорной статье, напечатанной в журнале «Этнофармакология» (2015), говорится, что некоторые племена в различных частях света кормят своих собак психоактивными растениями, чтобы улучшить их охотничьи способности[18].
Однако считается, что при больших дозах псилоцибина, от которого животные, наевшиеся психоделических грибов, «бродят, спотыкаясь», они были бы явно в невыгодном положении с точки зрения выживания, и нет сомнения, что многие из них именно в таковом положении и оказываются. Но для немногих избранных подобное воздействие может представлять некую адаптивную ценность, и не только для них самих, но, возможно, и для группы или даже для вида.
Но здесь мы ступаем на сугубо умозрительную и немного скользкую почву, где лучшим проводником считается небезызвестный итальянский этноботаник Джорджо Саморини. В своей книге «Животные и психоделики. Мир природы и инстинкт к изменению сознания» Саморини выдвигает гипотезу, что во время быстрых преобразований природной среды или экологических кризисов, когда некоторые члены группы отказываются от своих привычных и обусловленных средой проживания реакций и начинают осваивать кардинально иные, новые реакции, поступки и действия, это в немалой степени способствует выживанию группы в целом. Это что-то вроде генетических мутаций; в любом случае большая часть этих новшеств окажется бесполезной и будет устранена естественным отбором. Но, согласно закону вероятности, некоторые новые реакции все же окажутся полезными и для особи, и для группы, и, возможно, для вида в целом, помогая им приспособиться к быстрым переменам природной среды.
Саморини называет этот процесс депаттернингом, или, говоря более понятным языком, «фактором устранения старых шаблонов». Действительно, в ходе эволюции вида бывают периоды, когда старые шаблоны поведения уже недейственны и наилучший шанс для адаптации к новым условиям могут дать только радикально иные, потенциально инновационные восприятие и нормы поведения, к которым иногда могут подтолкнуть и психоделики. Можно сказать, что это своего рода нейрохимически индуцированный источник вариативности внутри популяции.
Трудно воспринимать прекраснодушную теорию Саморини, не думая при этом о нашем собственном виде и тех сложных обстоятельствах, в которых мы сегодня находимся. Возможно, Homo sapiens как раз подошел к одному из тех кризисных периодов, которые требуют от него изменения некоторых психических и поведенческих шаблонов. Может быть, поэтому природа и послала нам эти психоделические молекулы именно сейчас?
Такая мысль не показалась бы Полу ни в малейшей степени надуманной. Пока мы стояли у костра, красноватый свет которого мерцал на наших лицах, а в котелке булькал наш ужин, Стеметс рассказывал о том, какие тайны природы раскрыли ему грибы и чему они его научили. Он был экспансивен, красноречив, грандиозен и временами даже подвергал себя серьезной опасности, рискуя вырваться из грубых рамок правдоподобия. У нас было с собой несколько бутылок пива, а поскольку мы сегодня решили не трогать свою крошечную заначку «азуров», то мы просто покурили травки. Стеметс не переставая развивал идею о том, что псилоцибин – это химический вестник, посланный нам самой Землей, и что мы, люди, избраны самой судьбой, в силу наличия у нас сознания и языка, чтобы выслушать ее весть и начать действовать, пока не поздно.
– У растений и грибов есть разум, и они хотят, чтобы мы позаботились о природной среде и сберегли ее. Именно об этом они и говорят нам доступным им способом, способом, который мы можем понять. Почему именно мы? Да потому, что именно мы, люди, густо заполонили эту Землю, потому что мы – те двуногие организмы, которые ходят и населяют мир вокруг них, поэтому растения и грибы особо заинтересованы в том, чтобы заручиться нашей поддержкой. Думаю, у них есть сознание и они постоянно пытаются направлять ход нашей эволюции, обращаясь к нам на языке биохимии. Нам нужно лишь как следует к ним прислушаться.
Знакомые мотивы. Они постоянно звучали в его бесчисленных лекциях и до сих пор звучат в интервью, которые Стеметс дает без счета. «Грибы научили меня тому, что существует тесная взаимосвязь всех форм жизни с молекулярной матрицей, которая у нас с ними является общей, – говорит он в одном из них. – Я больше не чувствую себя некой оболочкой по имени Пол Стеметс, в которую завернута моя человеческая жизнь. Нет, я – часть того бесконечного потока молекул, который пронизывает природу и, подобно реке, течет через нее. Мне, пусть временно, дан голос, дано сознание, но я, тем не менее, чувствую себя частью непрерывного потока звездной пыли, внутри которого я рожден и к которому я вернусь в конце этой жизни». Стеметс сильно напоминает мне участников экспериментов, которых я встречал и с которыми беседовал в медицинском центре Хопкинса: это были люди, прошедшие через полноценные мистические откровения, люди, чье ощущение самих себя как индивидуумов было поглощено или растворилось в чем-то большем, целом – в неком «объединяющем сознании», которое, в случае со Стеметсом, втянуло его в природную паутину как своего далеко не смиренного слугу.
– Думаю, что под влиянием псилоцибе на меня снизошел ряд новых озарений, дающих мне возможность направлять и ускорять эволюцию грибов, в результате чего мы сможем найти решение всех своих проблем.
По мысли Стеметса, именно сейчас, во время экологического кризиса, мы не можем позволить себе ждать, когда эволюция, совершающаяся обычным темпом, в соответствующее время приведет нас к нужным решениям. Пора это делать самим. Пора начать ломать старые шаблоны.
Пока Стеметс развивал свою мысль, я почему-то вспомнил Алекса Грея и его картину упоротой обезьяны, из косматой головы которой вылетали в виде мух мириады мыслей. Ведь многое из того, что намеревался сказать Стеметс, покоится на очень узком и опасном рифе, торчащем в океане здравого смысла между вольными теоретическими полетами автодидакта и поздними ночными разборками обдолбанного чудака, посылающего всех, кто находится в пределах его слышимости, спать, спать, спать… Но когда мне уже порядком надоели его извивы мысли и я начал терять терпение, все больше откликаясь сознанием и душой на зов спального мешка, звавшего меня из юрты, как раз в этот момент он (или это был я?) свернул за угол, и все его микологические пророчества вдруг предстали передо мной в более благожелательном свете.
За день до этого Стемеетс устроил мне экскурсию по лабораториям и помещениям, где выращиваются его грибные сокровища, то есть показал мне свою компанию Fungi Perfecti, которую он основал еще в колледже. Притаившийся в вечнозеленом лесу в нескольких минутах ходьбы от его дома, производственный комплекс Fungi Perfecti состоит из ряда длинных белых металлических зданий, напоминающих теплицы из гофрированного железа или укороченные ангары. Между ними высятся горы древесных опилок, отбракованных грибов и перегноя, используемого для их выращивания. В одних зданиях выращиваются съедобные и лекарственные виды грибов, другие отведены под исследовательский центр: там находятся стерильные комнаты и камеры ламинарного течения, в которых Стеметс воссоздает грибы из тканевой культуры и проводит свои эксперименты. На стенах в офисе висят в рамках полученные им патенты. Среди потока слов, изливаемого на меня неуемным Стеметсом, я узрел в этих стенах то, что сказало мне о Стеметсе больше, чем он сам: хотя он, безусловно, большой любитель поболтать, но он не просто болтун, а прежде всего человек дела, успешный исследователь и предприниматель, своими экспериментами вносящий значительный вклад если не во все, то в очень многие области жизни, начиная с медицины и восстановления окружающей среды и заканчивая сельским хозяйством, лесным хозяйством и даже национальной обороной. В сущности, Стеметс не кто иной, как ученый, хотя ученый особого рода.
Но что это за особый род, я в тот раз так до конца и понял; я понял это лишь несколько недель спустя, когда мне на глаза попалась замечательная биография Александра Гумбольдта, выдающегося немецкого ученого первой половины XIX века (и друга Гете), который революционизировал наше понимание природного мира. Гумбольдт считал, что лишь с помощью чувств, ощущений и воображения, то есть с помощью инструментов человеческой субъективности, мы сможем проникнуть в природу и постичь ее тайны. «Повсюду природа разговаривает с человеком голосом, знакомым его душе», – заявляет он. Природа представляет собой упорядоченную и прекрасно организованную систему (систему, которую Гумбольдт, несколько поразмыслив над словом «Гея», предпочел назвать «Космос»), но она бы никогда не раскрылась перед нами, если бы не человеческое воображение, которое само является продуктом природы, то есть той самой системы, которую оно призвано постигать. Самомнение и тщеславие современных ученых, кичащихся беспристрастной объективностью, с которой они якобы изучают явления природы, наблюдая за ней из удобного ракурса вне ее, Гумбольдт счел бы проклятием для себя и предал бы анафеме. «Я сам неотделим от природы».
Если Стеметс ученый (а я в этом ничуть не сомневаюсь), то он ученый того же замеса, что и Гумбольдт, что с точки зрения современников выглядит как атавизм. Я не хочу этим сказать, что тот вклад в науку, который сделал Стеметс, соизмерим с вкладом Гумбольдта и одного с ним порядка. Стеметс тоже любитель, но любитель в лучшем смысле этого слова, а кроме того, еще и самоучка, не имеющий диплома и беспечно нарушающий междисциплинарные границы. Помимо всего прочего, он настоящий натуралист и изобретатель, открывший несколько новых видов грибов и получивший несколько патентов на свои изобретения. Он тоже слышит голос природы, и благодаря своему воображению (чаще всего необузданному) он видит системность там, где другие ее не видят, например прямо у себя под ногами в лесу. В данном случае мне приходят в голову его романтические эпитеты: «Интернет Земли», «неврологическая сеть природы», «иммунная система леса» и многие другие – метафоры, против которых было бы глупо восставать.
Что больше всего поражает меня в Стеметсе и многих других так называемых ученых-романтиках (вроде Гумбольдта, Гете, Джозефа Бэнкса, Эразма Дарвина, к которым я бы причислил и Дэвида Торо), так это то, что в их руках природа выглядит более свежей и живой, чем в холодных руках профессионалов, где она быстро усыхает. Эти «сугубо специализированные ученые» (термин, изобретенный в 1834 году) постепенно вывели науку на простор, за стены лабораторий, и начали там рассматривать природу через приборы и приспособления, которые делали невидимые прежде миры доступными человеческому глазу. Эти новшества незаметно меняли сам объект исследования, сделав его не просто объектом, а чем-то большим.
Вместо того чтобы рассматривать природу как набор разрозненных объектов, ученые-романтики (а в их число я включаю и Стеметса) видели густо переплетенную паутину явлений, воздействующих одно на другое и неразрывно слившихся в великом танце, который следовало бы назвать коэволюцией. «Всё суть взаимодействие и взаимосвязь», – сказал Гумбольдт. Они видели этот танец субъективностей, поскольку приучили себя взирать на природу глазами растения, глазами животного, глазами микроба и глазами гриба, то есть в перспективе, зависящей как от силы воображения, так и от глубины наблюдения.
Подозреваю, что полет воображения дается нам, современным людям, все труднее и труднее. Наука и техника толкают нас как раз в обратном направлении, к объективизации природы и всех видов, кроме нас самих. Безусловно, нам необходимо признать практическую ценность этой перспективы, которая дает нам очень много, но одновременно мы должны признать и ее стоимость, как материальную, так и духовную. Тем не менее этот более старый, но и более волшебный способ видения еще может принести дивиденды, как это произошло в том случае (всего лишь один маленький пример!), когда Пол Стеметс, стоящий на позиции грибов, наконец понял, почему медоносные пчелы любят прилетать на поленницы. Они это делают для того, чтобы излечиться: втягивают хоботками сапрофитный мицелий, который, как известно, содержит противомикробные соединения, необходимые для выживания всего улья, – дар, который гриб преподносит пчелам за… За что? Вот здесь-то и требуется полет воображения.
Кода
Вам, вероятно, интересно узнать, что же мы сделали с теми «азурами», которые собрали за уикэнд. Много месяцев спустя, в разгар лета, которое мы проводили у себя дома, в Новой Англии, в месте, изобилующем воспоминаниями, мы с Джудит их съели. Я накрошил грибы (по два гриба на стакан) и залил их кипятком, как заваривают чай; «заварить» грибы мне посоветовал Стеметс: мол, кипяток разрушает соединения, от которых может разболеться живот. Мы с Джудит выпили по чашке грибного чая, затем подобрали крошки и тоже их съели. После чего я предложил, пока мы ждем действия псилоцибина, пойти прогуляться, и мы пошли гулять по грязной дороге, идущей мимо нашего дома.
Однако спустя каких-то 20 минут Джудит объявила, что «чувствует нечто такое»… что к ней подступает что-то очень неприятное. Ей не хочется больше гулять, сказала она. В этот момент мы находились примерно в миле от дома. У нее такое ощущение, заявила она, словно ее сознание и тело разъединились, существуют сами по себе и куда-то плывут. Сознание выплеснулось из ее головы и теперь порхает среди веток дерева, как птица или насекомое.
– Мне нужно добраться до дома и почувствовать себя в безопасности, – сказала она, на этот раз довольно настойчиво. Я попытался успокоить ее, но она резко повернулась и пошла назад ускоренным шагом. Я двинулся следом. Мне было жарко, воздух был густой и плотный от влаги. – Я правда не хочу в кого-нибудь врезаться, – сказала Джудит. Я заверил ее, что этого не произойдет. Я все еще был более или менее в себе, но, думаю, я не поддавался воздействию грибов из-за того, что был снедаем тревогой за Джудит и то состояние, в котором она находилась. В конце концов, должен же кто-то оставаться нормальным на тот случай, если мимо вдруг проедет сосед на машине и остановится перемолвиться словом – перспектива, которая выросла до размеров кошмара. В сущности, незадолго до того, как мы подошли к дому (во всяком случае, так показалось нам обоим), мы действительно услышали гул мотора соседского пикапа, несшегося прямо на нас, и мы, как напроказившие дети, тут же нырнули в лес и сидели там, пока он не проехал.
Джудит, войдя в дом, прямиком направилась в гостиную и, спустив жалюзи, улеглась на диван, а я тем временем отправился на кухню, чтобы допить остатки грибного чая, поскольку не чувствовал, что достиг нужной кондиции. Я немного тревожился за Джудит, но в целом был спокоен: как только она улеглась на диван, ее настроение сразу улучшилось и она заявила, что чувствует себя прекрасно.
Мне было непонятно ее желание сидеть в четырех стенах. Я вышел и немного посидел на крытой веранде, прислушиваясь к звукам в саду, которые вдруг сделались очень громкими, как будто кто-то вывернул на полную мощность регулятор громкости. В воздухе ни дуновения, но неотвязное зудение насекомых и механическое жужжание колибри, все усиливаясь, создавали какофонию, какой мне еще не приводилось слышать. Она начинала действовать мне на нервы, но я решил, что будет лучше, если я начну воспринимать эти звуки не как будоражащие, а как гармонично-прекрасные, и они в самом деле мгновенно обратились в таковые. Я поднял вверх руку, затем приподнял ногу и с чувством облегчения заметил, что не парализован и управляю своими мышцами, хотя при этом не чувствовал ни малейшего их напряжения.
Как только я закрывал глаза, передо мной тут же возникали разные, не связанные между собой образы, словно под веками находился встроенный экран. Мои записи пестрят выражениями: дробящиеся узоры; туннели, тянущиеся сквозь листву; клейкие гроздья винограда, образующие решетки… Но когда я почувствовал, что теряю контроль над своим полем зрения, его радиусом и глубиной, и мной начала овладевать паника, я обнаружил, что для восстановления нормального чувства достаточно лишь открыть глаза. Открывать и закрывать глаза – все равно как включать и выключать канал. И я подумал: «Гм, кажется, я учусь управлять своими видениями».
Многое случилось (так мне, во всяком случае, кажется) в течение того августовского вечера, но я не буду рассказывать обо всем, а сосредоточусь лишь на одном элементе своих переживаний, поскольку он в какой-то степени дает ответы на вопросы о назначении природы и нашего места в ней, вопросы, на которые наталкивает псилоцибин, во всяком случае меня. В тот вечер я решил прогуляться до своего писательского домика, в котором я обычно работал над статьями и книгами, – небольшого строения, построенного мной 25 лет тому назад, с которым у меня связано много теплых воспоминаний, но который теперь, когда я пишу эти строки, принадлежит другим людям. Там, в небольшой комнатке, я написал две с половиной книги (одну из них о том, как я его строил), сидя перед большим, широким окном с видом на пруд и на сад, примыкающий к нашему дому.
Однако перед тем, как отправиться на прогулку, я решил проведать Джудит (смутное беспокойство относительно ее меня не оставляло) и зашел в гостиную. Она лежала, вытянувшись, на диване, прикрыв глаза смоченной в холодной воде салфеткой. Вроде бы с ней все было в порядке.
– Знаешь, а у меня очень интересные видения, – сказала она, – как будто пятна от кофе на столике вдруг ожили, начали вращаться, менять форму и вдруг оторвались от поверхности… Очень впечатляюще!
Она дала понять, что хочет побыть одна, чтобы более пристально вглядеться в эти образы и посмотреть, что будет дальше. Собственно, ее можно понять: она ведь художница. Но фраза «параллельная пьеса», произнесенная ею, так вонзилась в мое сознание, что осталась там на весь этот вечер.
Я вышел на улицу, чувствуя слабость в ногах: они были как ватные.
Сад был полон жизни и деятельности: стрекозы вычерчивали в воздухе замысловатые фигуры; семенные головки плюмажных маков трещали, как гремучие змеи, когда я проходил мимо, нечаянно касаясь их; флоксы источали сладкий, немного тяжелый аромат, а воздух был настолько густ и плотен, что, как мне тогда казалось, на него можно было опереться. Во время прогулки по саду меня преследовало слово «острота» (да и сопровождавшая его острота ощущений тоже), и позже оно тоже не раз приходило мне в голову. Трудно сказать почему. Возможно, потому, что мы здесь больше не живем и этот сад, в котором мы провели столько летних дней сначала как влюбленные, а затем как семья и который в данный момент казался живым воплощением настоящего, был при этом частью безвозвратного прошлого. Он был для меня как драгоценное воспоминание, которое не только всплыло в памяти, но и вернулось к жизни, одновременно и прекрасное, и жестокое. Душераздирающей была и быстротечность этого момента во времени, и наливная зрелость самого сада, затерянного в просторах Новой Англии в последних числах августа, как раз на стыке смены времен года. Очень скоро, одной безоблачной ночью, еще до рассвета, гуд, цветенье и благоухание, ныне наполняющие сад, исчезнут сразу, без предупреждения, и на смену им придет убийственный холод. Под впечатлением всего этого я чувствовал себя эмоционально открытым, незащищенным.
Наконец я добрел до писательского домика, вошел в него и вытянулся на кушетке, то есть сделал то, чего не мог позволить себе многие годы, трудясь здесь столь самозабвенно и прилежно. Книжные полки были пусты, в воздухе стоял запах запустенья, навевавший светлую грусть. С кушетки была видна, если смотреть прямо над торчащими пальцами ног, противомоскитная сетка на окне, а дальше, за ней, ажурная резьба беседки, сплошь усеянная цветами и увитая переплетенными меж собой лозами старой доброй гортензии черешковой (Hydrangea petiolaris). Я посадил ее десятки лет назад в надежде, что она создаст именно такую запутанную перспективу. Освещаемые послеполуденным солнцем, пронизывавшим пространства между ними, ее аккуратно скругленные листья заполняли все окно, так что я как бы смотрел на мир сквозь образуемую ими свежую зеленую завесу. Эти листья казались мне самыми красивыми из всех, что я видел. Они как будто источали мягкое зеленое сияние. Для меня было наградой и высшей честью смотреть на мир их глазами, если можно так сказать, потому как они, поглощая последние солнечные лучи, преобразовывали световые фотоны в новую материю. Видеть мир глазами растений – вот он, этот момент! Именно так я его и видел! Но и листья, в свою очередь, тоже смотрели на меня, как бы оценивая и одновременно исцеляя меня своим добрым и благосклонным взглядом. Я чувствовал их любопытство и при этом точно знал: за ним скрывается беспредельная благожелательность ко мне и мне подобным. (Нужно ли говорить, сколь безумно звучит подобная фраза? Увы, но я и сам это знаю!)
Было такое ощущение, что я впервые в жизни напрямую общаюсь с растениями и что конкретные идеи, о которых я так много думал и писал, – иметь возможность встать на субъективную точку зрения других видов и понять, как они воздействуют на нас путями, которые мы не в состоянии оценить в силу собственного эгоизма, – эти идеи вдруг обрели плоть чувств и стали реальностью. Я вглядывался сквозь вычурные пространства, образуемые переплетением листьев гортензии, фиксируя взгляд на болотном клене, стоявшем вдалеке среди пойменного луга, и этот клен мне казался таким живым и подвижным, каким не казалось еще ни одно дерево, потому как он был одушевлен неким духом – кстати, тоже очень благожелательным. Сама мысль о том, что может быть какое-либо несогласие или расхождение между духом и материей, казалась смешной и нелепой, да и все то (что бы это ни было), что обычно отделяет меня от мира и стоит преградой между нами, вдруг, как мне показалось, начало разрушаться и отпадать. Правда, не полностью: крепостные стены эго так и не рухнули и остались стоять; в этом смысле все виденное мной не было, как говорят исследователи, «полноценным мистическим переживанием», поскольку во мне все время жило чувство наблюдающего за всем происходящим «я». Но двери и окна моего восприятия были при этом широко распахнуты, и через них на меня хлынул мир, с мириадами его нечеловеческих обитателей, в таком количестве, о котором я прежде и не подозревал.
Воодушевленный таким развитием событий, я сел на кушетке и бросил взгляд в большое окно (как раз на уровне письменного стола), из которого был виден дом. Когда я проектировал этот дом, я тщательно позаботился о том, чтобы перед глазами был неизменно один и тот же внушительный вид, некая рамка, образуемая двумя очень старыми, почтенными деревьями – флегматичным стройным ясенем справа и изящно изогнутым, с замысловато переплетенными ветвями, белым дубом слева. Ясень когда-то знавал лучшие дни, но бури и ураганы сильно обкорнали его, лишив нескольких важных конечностей, и нарушили его некогда безупречную симметрию, оставив вместо веток несколько культей. Дуб сохранился гораздо лучше, был до макушки покрыт густой листвой, а его вознесшиеся вверх ветви доставали, казалось, до самого неба, словно руки исполинского танцора. Но меня больше всего тревожил его ствол, опасно наклонившийся в одну сторону. Причиной тревоги был не сам наклон ствола (таким он был всегда), а та его часть, которая находилась на уровне земли: она прогнила так, что через нее был виден свет на другой стороне дуба. За счет чего дуб стоял и не падал, я не понимал.
Я смотрел на эти два дерева, как смотрел на них много, много раз до этого, сидя за столом, и вдруг меня озарила мысль, что эти деревья (это же очевидно!) мои родители: флегматичный ясень – мой отец, а изящный дуб – моя мать. Не знаю точно, что я подразумевал под этим; вероятно, ничего, кроме разве того, что сама мысль о деревьях неразрывно слилась с мыслью о моих родителях. Они жили в этих деревьях, жили полностью и бесповоротно. Я просто сидел и думал о том, что дали мне родители, о том, что сделало с ними время, о том, что произойдет с этой панорамой, с этим местом (этим мной!), когда деревья наконец упадут, что рано или поздно непременно случится. То, что родители подвержены смерти, что они умирают, – это пусть и не прозрение, но та перспектива (причем не такая уж далекая и абстрактная), которая в тот момент поразила мое сердце глубже, чем когда-либо, и я вновь оказался безоружным перед лицом того пронизывающего чувства остроты, которое преследовало меня весь этот день. И все же, должно быть, остатки здравого смысла у меня еще сохранились, поскольку я сделал запись в рабочей тетради, что нужно завтра вызвать лесовода; возможно, удастся или подпереть дерево, или что-то сделать для того, чтобы уменьшить вес на наклонную сторону дуба и тем самым предотвратить его падение или замедлить его.
Мое возвращение домой было, я думаю, пиком событий того дня, и когда я вспоминаю о нем, оно предстает передо мной в красках и полутонах, характерных для сновидения. У меня опять возникло чувство, будто я с силой толкаю свое тело через массу плотного воздуха, сладковатого от ароматов флоксов и наполненного почти неистовой деятельностью. Стрекозы, большие как птицы, носились туда и сюда как сумасшедшие, присаживаясь на цветы флокса буквально на одну секунду, ровно настолько, чтобы одарить их поцелуем, после чего снова взмывали вверх и снова принимались с удвоенной силой носиться над дорожками сада. Столько стрекоз в одном месте я еще никогда не встречал; их было так много, что я какое-то время пребывал в неуверенности, действительно ли они реальны и не существуют ли просто в моем воображении. (К счастью, Джудит чуть позже подтвердила реальность этого факта, когда я попросил ее выйти на улицу.) Выполняя свои замысловатые фигуры, они оставляли за собой следы, которые долго еще держались в воздухе – по крайней мере, так казалось. Вечерело; воздушное движение в саду переросло в буйное крещендо: насекомые-опылители совершали свои последнее круги над растениями, а растения по-прежнему все с тем же пылом призывали их своими цветами: ко мне, ко мне, ко мне! С одной стороны, эта сцена была мне хороша знакома – сад на короткое время возвратился к жизни после того, как жара спала, – а с другой стороны, я еще никогда не чувствовал себя столь сроднившимся с ним. Я больше не был чужим и посторонним наблюдателем, взиравшим на сад издалека (в буквальном или метафорическом смысле), а чувствовал себя неотъемлемой частью всего происходящего здесь. Поэтому цветы и меня призывали так же, как они призывали насекомых-опылителей, и, вероятно, потому, что сам воздух тем вечером ощущался столь же реально плотным, как присутствие любого плотного предмета, присущее мне, как человеку чувство своего «я», то есть чувство субъекта, наблюдающего за пространственными объектами – объектами, казавшимися выпуклыми, рельефными, а затем вдруг ставшими абстрактными, отвлеченными благодаря кажущейся пустоте, которая их окружает, – это чувство уступило дорогу другому чувству, чувству глубокого погружения в себя и полной причастности к этой сцене, чувству неразрывной связи с мириадами других живых существ и с миром в целом.
«Все суть взаимодействие и взаимосвязь», – писал Гумбольдт, и мне казалось, что так оно и есть; во всяком случае, впервые в своей жизни, насколько помню, я имел полное право сказать: «Я сам неотделим от природы».
Если честно, то я до сих пор не знаю, что мне делать со всеми этими видениями. В некоторые моменты (и в свете некоторых фактов) у меня возникает чувство, что мне был дан определенный духовный опыт, потому как я чувствовал индивидуальность других существ так, как не чувствовал ее раньше. Если и существует нечто такое, что удерживает нас от ощущения полной причастности к природе, оно в тот раз временно пребывало в бездействии. В моем сердце словно открылась некая дверца, открылась для того, чтобы впустить моих родителей, Джудит, и не только их, но и растения, деревья, птиц и даже чертовых клопов, время от времени посягавших на нашу собственную плоть. Это была некая открытость по отношению к миру, и часть ее сохранилась. И сейчас, думая об этом, я нахожу данный мне опыт чудесным и неотъемлемым от самой природы.
Тот факт, что трансформация знакомого мне мира, преобразившегося в нечто такое, что я не могу определить иначе, как сверхъестественное и мистическое, произошла под действием маленьких коричневых грибов, собранных мной и Стеметсом в национальном парке на тихоокеанском побережье, – сам этот факт можно интерпретировать двояко: или как дополнительное свидетельство чуда, или как довод в поддержку более прозаического и материалистического истолкования того, что случилось со мной в тот августовский день. Согласно первой интерпретации, все очень просто: у меня были «наркотические глюки», что-то вроде грез среди бела дня, грез интересных, приятных, но ничего не значащих. Псилоцибин в грибах «откупорил» в моем мозгу рецепторы 5-гидрокитриптофана 2-A, которые возбудились настолько, что наводнили мой мозг целым каскадом бессвязных психических явлений, смешавшихся, среди всего прочего, с некоторыми мыслями и чувствами (очевидно, взятыми из подсознания, а также из прочитанных мною книг), позволив им пересечься со зрительной корой моего мозга, поставлявшей образы деревьев, растений и насекомых в поле моего зрения.
Это не совсем галлюцинация; вероятно, «проекция» более подходящий термин для этого психологического явления, ведь мы просто смешиваем эмоции с определенными объектами, которые отражают и возвращают нам наши же чувства, в которых, как нам кажется, проблескивает некий смысл. Томас Элиот называл эти явления и ситуации «олицетворением» человеческих эмоций. То же самое имел в виду и Ральф Уолдо Эмерсон, сказавший, что «природа всегда расцвечена красками духа», подразумевая, что именно наш ум одевает ее, природу, в соответствующие наряды и придает ей нужный смысл.
Меня поразил тот факт, что в моем обостренном восприятии в тот вечер не было ничего сверхъестественного, ничего такого, к чему я мог бы прибегнуть для объяснения мысли о магии или божественности. Нет, все, что мне потребовалось, – это еще один перцепционный уклон в ту же знакомую реальность, еще одна линза или еще одно состояние сознания, которое ничего не изобрело и не придумало, а просто (просто!) выделило курсивом прозу обычной повседневности, вычленив из нее то чудо, которое, скрытое от простого глаза, неизменно присутствует в саду или в лесу, – еще одна форма сознания, которая, по словам Уильяма Джеймса, «отделена от [нас] тончайшим из экранов». Собственно говоря, природа прямо-таки изобилует субъективностями – назовите их духами, если хотите, – отличными от нашей; и только человеческое эго, с его воображаемой монополией на субъективность, не позволяет распознать их все и признать наше родство с ними. В этом смысле, полагаю, Пол Стеметс прав, считая, что грибы несут нам послания природы или по меньшей мере помогают нам принять и прочесть их.
До того знаменательного дня я всегда полагал, что только признание Сверхъестественного, будь то Бог или нечто Высшее, открывает доступ к духовным измерениям, но сейчас я в этом не уверен. Это Высшее, что бы оно собой ни представляло, вероятно, не так уж далеко и недоступно, как мы полагаем. Хьюстон Смит, ученый-религиовед, однажды дал определение духовно «реализовавшегося существа»; по его мнению, это просто человек с «обостренным чувством постижения удивительной тайны во всем сущем». Вера не нуждается в размышлении. Может быть, трепет или ощущение чуда перед лицом удивительной тайны, которые испытываешь в саду, есть не что иное, как восстановление утраченной перспективы, незамутненного взгляда ребенка; может быть, мы снова обретаем его под действием нейрохимических процессов, устраняющих фильтры (фильтры условностей, обычаев, эго), мешающих нам в будничной жизни видеть то, что, подобно этим милым листьям, смотрит нам прямо в глаза. Может быть, но так ли это, не знаю. Но если эти высохшие ошметки грибов чему-то и научили меня, так это тому, что существуют другие доступные нам и еще более странные формы сознания, что бы они ни значили, и само их существование, если цитировать Уильяма Джеймса, «не дает нам преждевременно расквитаться с реальностью и свести с ней счеты»
Непредвзятый, непредубежденный, отдавший душу грибам, готовый вновь открыть счета с реальностью – именно таким был я на тот момент.
Глава третья
История: первая волна
Когда федеральные власти всей своей мощью обрушились на Тимоти Лири, осудив его в 1966 году[19] на 30 лет тюрьмы за попытку провезти через границу в Ларедо, Техас, небольшое количество марихуаны, попавший в немилость бывший профессор психологии обратился за советом к Маршаллу Маклуану. Страна пребывала в конвульсиях моральной паники по поводу ЛСД, в немалой степени вызванной самим Лири, провозгласившим психоделические препараты средством личной и культурной трансформации и призывавшим молодежь Америки: «Включись, настройся, выпадай!» Какими бы обветшалыми и глупыми ни казались эти слова нам сегодня, но был момент, когда они воспринимались как вероятная угроза социальному порядку, как призыв к детям Америки не только подсесть на наркотики, изменяющие сознание, но и отвергнуть истинный путь, проторенный родителями и правительством, включая и тот, который вел молодых людей прямо во Вьетнам. В том же 1966 году Лири был вызван в Вашингтон и предстал перед постоянным комитетом сената США для защиты своего пресловутого лозунга, который он смело, хотя и не очень настойчиво, пытался осуществлять на деле. Посреди всей этой национальной бури, бушевавшей вокруг него (бури, которой он, надо сказать, явно наслаждался), Лири, гуру ЛСД, во время обеда в нью-йоркском отеле Plaza познакомился с Маршаллом Маклуаном, гуру СМИ, и последний пообещал первому дать кое-какие советы относительно того, как обрабатывать публику и прессу.
– Унылые сенатские слушания и залы судебных заседаний – это не та платформа, с которой вы должны возвещать свое послание, Тим, – сказал ему Маклуан в частном разговоре, который Лири воспроизводит в книге «Воспоминания» (Flashbacks), одной из многих своих автобиографий. (Лири писал автобиографию каждый раз, когда судебные издержки и алименты грозили опустошить его банковский счет.) – Чтобы развеять страх, нужно использовать свой публичный имидж. Ведь именно вы индоссант основного продукта. – (Основным продуктом на тот момент был, разумеется, ЛСД.) – Когда вас снимают, улыбайтесь. Ободряюще машите рукой. Излучайте уверенность и мужество. Никогда не жалуйтесь и не обнаруживайте гнев. Это же вполне нормально, если вы будете вести себя ярко и эксцентрично. В конце концов, вы же профессор. Уверенность в себе – лучшая реклама. Ваша улыбка должна сделать вас знаменитым.
Лири принял совет Маклуана близко к сердцу. На тысячах снимков, сделанных после того памятного обеда в Plaza, Лири уверенно демонстрирует на камеру свою самую обаятельную улыбку. Что бы он ни делал: входил в здание суда или выходил из него, обращался к толпе своих юных поклонников с любимыми бусами на шее и в белой одежде, шествовал среди полицейских к патрульной машине в только что надетых наручниках или сидел на краю кровати Джона и Йоко в номере монреальского отеля, – Тимоти Лири всегда удавалось вызывать на лице яркую улыбку, с которой он приветственно махал рукой в камеру.
Таким образом, именно харизматичная фигура вечно улыбающегося Тимоти Лири веско маячит на переднем плане истории психоделиков в Америке. Тем не менее вряд ли кому-то понадобится проводить в библиотеке много часов, чтобы задаться вопросом: а не слишком ли преувеличена фигура Тимоти Лири в этой истории или, по крайней мере, в том ее популярном изложении, которого придерживаемся мы? Я был далеко не единственный, кто считал, что псилоцибиновый проект, начатый Лири в Гарварде весной 1960 года сразу после первой пробы псилоцибина в Мексике, радикально изменившей всю его жизнь, знаменовал начало серьезных академических исследований этих субстанций и что увольнение Лири из Гарвардского университета, наоборот, знаменовало конец этих исследований. Но на самом деле ни одно из этих утверждений даже отдаленно не верно.
Лири сыграл очень важную роль в современной истории психоделиков, но роль явно не новаторскую, хотя он и приписывает себе таковую. Успех, которого он добился в популяризации психоделиков в 1960-е годы, скрывает столько же тайн, сколько их раскрывает, создавая некое искаженное поле реальности, из-за которого трудно увидеть все то, что делалось до или после великого момента его выхода на сцену.
Если придерживаться более правдивого изложения истории, то получится, что Гарвардский псилоцибиновый проект – это скорее начало конца того замечательно плодотворного периода исследований, который расцветал пышным цветом в течение целого десятилетия вдалеке от Кеймбриджа, в местах столь отдаленных, как Саскачеван, Ванкувер, Калифорния, Англия, да и повсюду, но с гораздо меньшими шумом и яростью или с гораздо более скудным багажом контркультуры. Непомерно раздутая фигура Лири затмила собой и ту преданную науке, но мало известную группу ученых, психотерапевтов и увлеченных любителей, которые задолго до того, как Лири приобщился к псилоцибину или ЛСД, разработали как теоретическую базу, используемую для разумного обоснования этих необычных химикатов, так и терапевтические протоколы, используемые для лечения людей. Многие из этих исследователей с ужасом взирали на то, как Лири с его эксцентрическими «выкрутасами» (так они называли его трюки и высказывания) разжег из всего их знания и опыта, с трудом добытого за десятилетия упорного труда, огромный публичный костер.
Приступая к рассказу о современной истории психоделиков, я подумывал о том, чтобы отложить сагу о Лири до лучших времен, по крайней мере до тех пор, пока водораздел не обозначится именно там, где он и должен быть, в надежде понять, не сможем ли мы восстановить хотя бы часть этого знания и того опыта, который привел к этому знанию, не пропуская его через искривляющую свет призму «психоделических шестидесятых». Во исполнение этой цели я решил следовать по стопам нынешнего поколения психоделических исследователей, которые, начиная с конца 1990-х годов, были заняты раскопками интеллектуальных руин самого первого и весьма плодотворного этапа исследований ЛСД и псилоцибина, которые поразили их своими находками.
Стивен Росс – один из таких исследователей. Психиатр, специализировавшийся на наркомании в Белвью, пятом по величине городе в штате Вашингтон, он руководил в Нью-йоркском университете опытами с псилоцибином, который он использовал для выведения онкологических больных из предсмертной депрессии (к этому вопросу я вернусь немного позже); после этого он перешел с одной стези на другую, занявшись – с помощью все тех же психоделиков – лечением алкогольной зависимости, наиболее обещающей области клинических исследований в 1950-е годы. Когда несколько лет тому назад коллега Росса по университету упомянул о том, что с помощью ЛСД в Канаде и Соединенных Штатах удалось вылечить тысячи алкоголиков (и что Билл Уилсон, основатель Общества анонимных алкоголиков, пытался внедрить там ЛСД-терапию еще в 1950-х годах), Росс, которому в тот момент было чуть больше тридцати лет, тут же пустился в изыскания и был просто сражен теми находками, о которых он, специалист по проблемам алкоголя и методам их лечения, даже не подозревал и о которых ему не говорили. Оказывается, его область науки тоже имеет свою тайную летопись.
– Я чувствовал себя так, как чувствовал бы себя археолог, внезапно раскопавший зарытое в земле тело древнего человека. Только я раскопал не тело, а целый свод знаний. Подумать только! Уже с начала пятидесятых годов психоделики использовали для лечения целого ряда недугов [включая зависимость, депрессию, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрению, аутизм и состояние тревоги, вызванное близкой смертью]. За эти годы было проведено сорок тысяч исследований, в которых участвовало несколько тысяч человек, и было написано более тысячи работ с результатами клинических испытаний. Даже Американская психиатрическая ассоциация, как оказалось, провела множество заседаний, посвященных ЛСД, этому новому чудо-препарату. [Если быть точным, таких «заседаний», то есть международных научных встреч, посвященных психоделикам, в период с 1950 по 1965 год было ровно шесть.] Лучшие умы в области психиатрии, при финансировании со стороны правительства, серьезно изучали поведение этих соединений в составе терапевтических моделей. [Не будем забывать, что после того, как культурный и психиатрический истеблишмент в середине 1960-х годов восстал против психоделиков, весь свод знаний был успешно скрыт от общественности, словно никаких исследований и клинических испытаний не проводилось вовсе.] К тому времени, когда я поступил в медицинскую школу [это было в 1990-х годах], об этом уже никто не упоминал и на эту тему даже никто не заговаривал.
Когда в 1950 году на психиатрической сцене впервые появился ЛСД, действие этого препарата на пациентов (и на исследователей, которые скрупулезно испробовали его сначала на себе) было таким необычным и новым, что практически все это благодатное десятилетие ученые потратили на то, чтобы понять, что же представляют собой эти необычайные явления и как к ним относиться. Каким образом этот новый, меняющий сознание препарат вписывается в существующие парадигмы, объясняющие свойства сознания (и вписывается ли вообще), и как он увязывается с преобладающими в науке методами психиатрии и психотерапии? Оживленные дебаты по этим вопросам велись более десятилетия. Чего не знали в то время, так это того, что начиная с 1953 года ЦРУ проводило свои собственные (секретные) исследования психоделиков и столкнулось с абсолютно теми же проблемами, касающимися их назначения и применения: стоит ли рассматривать ЛСД как потенциальную «сыворотку правды», или как средство управления сознанием, или как химическое оружие.
Как известно, первый в мире психоделический (под влиянием ЛСД) трип, не связанный ни с какими предварительными ожиданиями, совершил в 1943 году Альберт Хофман. Хотя он остался в недоумении относительно того, что же именно с ним приключилось – приступ безумия или выход в иную реальность, – он сразу же понял, сколь важным может оказаться это соединение для неврологии и психиатрии. Поэтому фармацевтическая компания Sandoz, в которой на момент открытия ЛСД работал Хофман, сделала нечто незаурядное и необычное: она решила осуществить коллективное усилие, направленное на то, чтобы исследовать «Делизид» (маркетинговое название ЛСД-25) и выяснить, на что он годен, а на что нет. В надежде на то, что кто-нибудь где-нибудь непременно найдет коммерческое применение этому пугающе мощному новому соединению, компания предложила поставлять (причем совершенно бесплатно) любому исследователю, взявшемуся за эту задачу, такое количество ЛСД, какое он сам запросит. В данном случае понятие «исследователь» трактовалось довольно свободно: под ним понимался любой психотерапевт, который пообещал бы вести записи своих клинических наблюдений. Этой политики компания придерживалась практически без изменений с 1949 по 1966 год; именно она, эта политика, и вызвала первую волну психоделических исследований – волну, которая сошла на нет в 1966 году, когда компания Sandoz, встревоженная той бурной полемикой, которая развернулась вокруг ее экспериментального препарата, быстро изъяла делизид из товарооборота.
Чему же нас научил этот плодотворный и не скованный никакими законами исследовательский период? Вопрос вроде бы простой, а вот ответ на него вряд ли может быть столь же простым, потому как его делает сложным сама природа этого препарата. Как сказали бы теоретики литературы, психоделические видения относятся к разряду того опыта, который «основательно сконструирован». Если вам скажут, например, что вас ждет духовное озарение, все шансы за то, что именно такое озарение вы и получите; с психоделическими препаратами примерно то же самое: если вам скажут, что они на какое-то время сделают вас безумным, или высвободят внутри вас коллективное бессознательное, или пробудят у вас «космическое сознание» либо воспоминание о родовой травме, у вас появится прекрасный шанс испытать одно из указанных состояний.
Психологи называют эти самоисполняющиеся пророчества «эффектом ожидания», и в случае с психоделиками такой эффект может оказаться особенно сильным. Поэтому если вам, например, уже довелось прочитать «Двери восприятия» Олдоса Хаксли, опубликованные в 1954 году, то на ваши психоделические переживания может, вероятно, оказать влияние и мистицизм самого автора, и в особенной мере мистицизм Востока, к которому был склонен Хаксли. Но даже если бы вы вообще не читали Хаксли, его «конструирование» подобного опыта, несомненно, оказало бы влияние на ваш собственный, потому как начиная с 1954 года «аромат и привкус Востока» (вспомните песню «Биттлз» Tomorrow Never Knows) был характерен для всех видений и переживаний на почве ЛСД. (Лири воспринял этот психоделический ориентализм от Хаксли и безмерно его усилил в написанном им совместно с гарвардскими коллегами руководстве по психоделическому опыту, основанному на «Тибетской книге мертвых».) Еще более усложняет историю, добавляя к ней еще одну петлю обратной связи, тот факт, что Хаксли решился попробовать психоделики и описать пережитое не сам по себе, а под влиянием своего друга-ученого, давшего ему мескалин в явной надежде, что описания и метафоры, рожденные умом большого писателя, помогут ему и его коллегам увидеть смысл и разумную основу в их видениях, которые они тщетно старались истолковать. Поэтому не кто иной, а именно Олдос Хаксли «придал смысл» современным психоделическим откровениям… или же он этот смысл придумал?
Этот зал эпистемологических зеркал был лишь одним из многочисленных препон, с которыми столкнулись исследователи, желавшие сделать ЛСД достоянием психиатрии и психотерапии, ведь психоделическая терапия в то время была чем-то под стать шаманизму или исцелению верой, но только не медицине. Еще одна препона – это иррациональная восторженность, охватившая поголовно всех исследователей, связанных с ЛСД, тот энтузиазм, который, с одной стороны, благоприятно воздействовал на результаты экспериментов, способствуя их улучшению, а с другой – разжигал скептицизм у их коллег, остававшихся в отношении психоделиков невинными девственниками. Но была и третья препона: как увязать психоделики, если такое вообще возможно, с существующими в науке и психиатрии структурами? Как проводить контролируемый эксперимент с психоделиками? Как эффективно ослепить пациентов и врачей или контролировать силу эффекта ожидания? Когда «установка» и «обстановка» играют столь важную роль, воздействуя на опыт и переживания пациента, как можно надеяться на то, что удастся изолировать одну из переменных или разработать действенное терапевтическое руководство по их применению?
Часть I
Обещание
Вначале эти препараты не назывались психоделиками; этот термин появился лишь в 1957 году. Как компания Sandoz не могла понять, что же именно оказалось у нее в руках в виде ЛСД, точно так же и исследователи, экспериментировавшие с этим препаратом, не могли понять, как все это назвать. На протяжении 1950-х годов, по мере того как наше понимание этих химических соединений и их действия росло, этот класс препаратов сменил множество названий, причем каждое новое отражало очередной сдвиг в попытке истолкования – или то было конструирование? – этих необычных и сильнодействующих молекул, их значения и воздействия.
Первое название было, пожалуй, самым неудачным: начиная с 1950 года, вскоре после того, как ЛСД стал доступен для исследователей, это соединение называли психомиметиком, то есть психотропным препаратом, имитирующим психозы. Название хотя и прозрачное, но довольно однолинейно трактующее воздействие психоделиков. Действительно, чисто внешне люди, принявшие дозу ЛСД, а позднее и псилоцибина, выказывали множественные признаки временного психоза. Исследователи отмечали у своих подопечных целый ряд тревожных симптомов, в том числе такие, как обезличивание, расстройство границ «я», искаженное представление о теле, синестезия (визуализация звуков или звучание зрительных объектов), эмоциональная лабильность, смех и плач, искаженное восприятие времени, бред, галлюцинации, параноидный бред и, по словам одного писателя, «мучительное чувство чего-то неведомого». Когда исследователи провели с участниками, принимавшими ЛСД, стандартные психиатрические тесты – тест Роршаха с чернильными пятнами или психометрический тест, известный как Миннесотский многофазный личностный опросник, – их результаты оказались зеркальным отражением тех, что были получены при тестировании психических больных и особенно шизофреников. Похоже, что испытуемые просто теряли рассудок.
Это навело некоторых исследователей на мысль, что ЛСД – действительно «многообещающее средство, которое вполне можно использовать для понимания природы психоза», – именно такую маркетинговую характеристику дали делизиду в компании Sandoz. Хотя препарат и не являлся панацеей от всех болезней и недугов, однако сходство оказываемых им воздействий с симптомами шизофрении позволило предполагать, что причиной психических расстройств могут быть нарушения химических взаимосвязей, которые ЛСД каким-то образом высвечивает. Что касается врачей, то этот препарат, по их мнению, мог помочь им лучше понять природу поведения больных шизофренией, позволяя более адекватно сопереживать их недугу. Это следовало понимать таким образом, что они были готовы опробовать этот препарат на себе, и эта ситуация нам сегодня показалась бы весьма странной, если не скандальной. Но в те годы (вплоть до 1962-го), когда конгресс принял закон, дававший Управлению по санитарному надзору полномочия регулировать новые «следственные препараты», это было обычной практикой. Более того, такой поступок считался этичным, потому как если вы даете препарат своим пациентам, но при этом отказываетесь принимать его сами, то это все равно что обращаться с ними как с «подопытными кроликами». Как писал Хамфри Озмонд, необычность ЛСД состояла в том, что принимавшему его терапевту он давал возможность «окунуться в болезнь и смотреть на мир глазами безумца, слышать его ушами и чувствовать его кожей».
Родившийся в графстве Суррей, Англия, в 1917 году, Озмонд как врач мало кому известен, но при этом является ключевой фигурой психоделических исследований[20], внеся куда более значительный вклад в понимание этих соединений и их терапевтических свойств, нежели любой другой исследователь. В годы после Второй мировой войны Озмонд, высокий и прямой, как тростник, мужчина с крупными зубами, работал психиатром в лондонской больнице Святого Георгия, когда его коллега, врач по имени Джо Смитиз, познакомил его с малоизвестной медицинской литературой, посвященной мескалину. Узнав, что мескалин вызывает галлюцинации, во многом напоминающие те, что испытывают шизофреники, эти два исследователя задались вопросом, не является ли причиной болезни дисбаланс химических веществ в мозге, и решили как следует изучить эту гипотезу. В то время еще не было установлено, какую именно роль играет химия мозга в психических заболеваниях, поэтому эта гипотеза многим казалась радикальной. Психиатры были поражены тем, что молекулярная структура мескалина очень напоминает такую же структуру адреналина. Не может ли шизофрения возникнуть из-за дисфункции при метаболизме адреналина, в результате чего тот преобразуется в соединение, вызывающее шизофренический разрыв с реальностью?
Как выяснилось, нет. Но сама по себе гипотеза оказалась очень продуктивной, поэтому исследования Озмонда, касающиеся биохимической основы психических заболеваний, содействовали значительному подъему нейрохирургии в 1950-х годах. В конечном счете именно исследования ЛСД дали мощный импульс становлению этой нарождающейся области медицины. Тот факт, что столь неимоверно малое количество молекул ЛСД производит столь глубокое воздействие на ум и сознание человека, по всей видимости, указывает на то, что система нейромедиаторов с соответствующими рецепторами играет важную роль в оформлении психических видений. Именно это понимание и привело в конце концов к открытию серотонина и того класса антидепрессантов, которые называются СИОЗ (селективные ингибиторы обратного захвата).
Но мощностей, имевшихся в то время в больнице Святого Георгия, явно не хватало на поддержку исследований мескалина, проводившихся под руководством Озмонда. В отчаянии и в поисках выхода молодой врач начал искать более подходящее ведомство, которое могло бы обеспечить их поддержку. Такое ведомство он нашел на западе Канады, в провинции Саскачеван. Начиная с середины 1940-х годов левое правительство, находившееся у власти в этой провинции, провело ряд радикальных реформ в сфере государственной политики, включая и первую систему здравоохранения, субсидируемую государством. (Впоследствии она стала образцом для системы здравоохранения во всей Канаде, вступив с силу в 1966 году.) В надежде сделать провинцию Саскачеван передовым центром в области новейших медицинских исследований правительство щедро финансировало эту область, предоставляя исследователям небывалую свободу действий в ее рамках и тем самым привлекая их в мерзлые просторы канадских прерий. Откликнувшись на объявление, опубликованное в медицинском журнале Lancet, Озмонд получил от администрации провинции приглашение переехать вместе с семьей в отдаленный аграрный округ Вейберн (он расположен в 45 милях к северу от границы штата Северная Дакота), чтобы возглавить новый исследовательский проект. Расположенная там муниципальная психиатрическая больница вскоре стала едва ли не самым известным в мире центром исследования психоделиков, точнее – того класса соединений, которые до сих пор называют психомиметиками.
Парадигма сознания, роднившая Озмонда с его единомышленником и коллегой, канадским психиатром и директором исследовательского центра Абрамом Хоффером, привела к тому, что, объединив свои усилия, они приступили к серии экспериментов, используя тот запас ЛСД-25, который был предоставлен в их распоряжение компанией Sandoz. Первые образцы психомиметиков были представлены вниманию общественности в 1953 году: именно в этом году популярный канадский журнал Maclean's опубликовал душераздирающую статью «12 часов безумия», в которой ее автор поделился своим опытом приобщения к ЛСД.
Автором статьи и первым «мирянином», принявшим участие в экспериментах Озмонда и Хоффера в Вейбернской больнице, был Сидней Кац, которого заранее подготовили к тому, что его ждет «безумие», поэтому именно безумие он и пережил: «Я видел, как лица знакомых и друзей превращаются в голые, лишенные кожи черепа и в злобные морды ведьм, свиней, ласок и прочих зверюг. Ковер с цветными узорами под моими ногами превратился в какую-то фантастическую колышущуюся массу живой материи, частью растительного, а частью животного происхождения». Статья Каца, проиллюстрированная рисунками штатного художника, на которых «взбесившиеся» стулья летали по комнате, постепенно терявшей свои строгие очертания, чем-то напоминает шарж, который мог бы выполнить завзятый противник ЛСД образца 1965 года: «На меня то и дело накатывали волны жутких галлюцинаций, находясь среди которых я прямо-таки ощущал и видел, как мое тело содрогается в конвульсиях, сжимаясь до тех пор, пока от него не остался какой-то тошнотворный камень». Любопытно, однако, то, что далеко не все из этих 12 часов безумия «были заполнены неизбывным кошмаром». «Время от времени, – сообщает автор, – меня посещали видения ослепительной красоты, видения столь пленительные, столь неземные, что ни один художник был бы не в состоянии их изобразить».
В этот период Озмонд и Хоффер «скормили» ЛСД десятку людей, среди которых были их коллеги по работе, друзья, члены семей, добровольцы и, разумеется, они сами. Их взгляд на ЛСД как окно, позволяющее заглянуть в святая святых и увидеть биохимию психических заболеваний, постепенно уступил место все более возрастающему любопытству, касающемуся как силы и живости переживаемых видений, так и тому, в какой степени препарат вызывает нарушения зрительного восприятия и можно ли эти нарушения использовать в терапевтических целях. Во время одного из таких сеансов (он состоялся в 1953 году поздно ночью в номере отеля в Оттаве) Озмонд и Хоффер заметили, что в описаниях переживаний, вызванных ЛСД, много общего с характеристиками белой горячки, как они описаны алкоголиками, точнее – с теми адскими многодневными приступами безумия, которыми страдают алкоголики, когда их трясет и ломает с похмелья. Для многих выздоравливающих алкоголиков, по их собственным словам, белая горячка со всеми ее ужасами и галлюцинациями стала своего рода «ступенью обращения», то есть той основой духовного пробуждения, благодаря которой они не спились и сохранили здравый смысл.
Сама мысль о том, что переживания, вызванные ЛСД, напоминают белую горячку и способны имитировать ее, «показалась нам настолько странной и нелепой, что мы громко расхохотались, – вспоминал многие годы спустя Хоффер. – Но когда мы отсмеялись, этот вопрос показался нам не таким уж и комичным, и мы в конце концов сформулировали свою гипотезу: нельзя ли вызванную ЛСД контролируемую горячку задействовать на то, чтобы не дать алкоголикам спиться?»
Нельзя не отметить это весьма примечательное, если не забавное использование психотомиметической парадигмы: с помощью большой дозы ЛСД пробудить в алкоголике ту степень безумия, которая бы напоминала белую горячку, чтобы заставить пациента содрогнуться и тем самым вернуть его на стезю трезвости. На протяжении следующего десятилетия Озмонд с Хоффером опробовали свою гипотезу более чем на 700 алкоголиках, и примерно в половине случаев, по их словам, «этот курс лечения оказался эффективным»: участники опытов становились трезвенниками и оставались таковыми по меньшей мере несколько месяцев. Новый метод не только был более эффективным, чем другие виды терапии, но и выводил психофармакологию на совершенно новый уровень – и уровень мышления, и уровень практики. «С самого начала, – пишет Хоффер, – мы считали само переживание, а отнюдь не химическое соединение, ключевым фактором терапии». Этот новый подход стал новым принципом психоделической терапии.
Действительно, упор на чувства субъекта, на то, что он чувствует, стал главным камнем преткновения и причиной отхода от превалирующих в психологии идей бихевиоризма, согласно которым учитывались лишь результаты наблюдений и измерений, а опыт субъективных переживаний не принимался в расчет. Разумеется, этот анализ субъективных переживаний, называемый иногда феноменологией и ставший основой психоанализа Фрейда, бихевиоризм категорически отрицал как недостаточно строгий или ненаучный. Бессмысленно пытаться забраться в ум человека, представляющий собой, согласно известному изречению Б.Ф. Скиннера, «черный ящик». Лучше уж измерять то, что поддается измерению, и наблюдать за тем, что поддается наблюдению, а именно: поведение человека. В конце концов работа с психоделиками высекла нужную искру, пробудив интерес и к субъективным измерениям ума – сознанию. Как бы иронично это ни звучало, но из всех химикатов и соединений именно ЛСД-25 вернул в психологию его внутреннюю сущность – психологическое содержание.
Тем не менее, несмотря на кажущийся успех новой терапевтической методики, оставалась маленькая, но зудящая проблема относительно теоретической модели, на которой эта методика основывалась. Когда психотерапевты начали анализировать сведения, полученные от добровольцев, принимавших ЛСД, оказалось, что субъективные переживания последних мало напоминают (если вообще напоминают) ужасы белой горячки или любые другие виды безумия. Наоборот, эти переживания по большей части были невероятно и даже чрезвычайно положительными. Когда Озмонд с Хоффером начали систематизировать отчеты добровольцев, выяснилось, что среди изредка наблюдавшихся «психотических изменений» (галлюцинаций, параноидных и тревожных состояний) часто встречались и описания «трансцендентального чувства нерасторжимой связи с миром», одного из немногих чувств, чаще всего встречающихся в описаниях. В самом деле, чаще всего участники описывают не безумие, а именно новые сильные чувства, внезапно пробудившиеся у них, такие, например, как способность «видеть себя в объективном свете», «расширение чувственного поля», «новое глубокое понимание области философии и религии» и «повышенная восприимчивость к чувствам других людей»[21]. Несмотря на сильное действие эффекта ожидания, признаки здравого смысла, не имеющие ничего общего с признаками безумия, все активнее прокладывали себе путь к свету, пробиваясь через предубеждения исследователей.
Многие алкоголики, находившиеся на излечении в Вейбернской больнице, считали, что переживания, вызываемые ЛСД, по своей сути стоят ближе к трансцендентальному или духовному откровению, чем к временному психозу. Это заставило Озмонда и Хоффера взять под сомнение свою модель белой горячки и задаться вопросом, не нужно ли радикально пересмотреть саму психотомиметическую парадигму, а заодно и название самих препаратов. Сильный импульс в этом направлении им задал Олдос Хаксли, заявивший, что пережитое им под действием мескалина только очень отдаленно походило на психоз. То, что психиатры диагностировали как обезличивание, галлюцинации или манию, гораздо больше укладывалось в категорию мистической унии визионерского опыта и экстаза. Не могло ли случиться так, что врачи ошибочно принимали трансцендентальное состояние за безумие?
В то же самое время на примере и опыте своих подопечных Озмонд с Хоффером тоже многому научились, например тому, что окружение, среди которого происходили сеансы с ЛСД, оказывало мощное воздействие на переживания и видения участников и что один из наиболее действенных способов избежать кошмаров – это присутствие на сеансе понимающего и доброжелательного терапевта, лучше всего такого, который сам имел опыт общения с ЛСД. В них закралось подозрение, что те немногие психотические реакции, которые им приходится наблюдать, в действительности могут быть метафорическим артефактом белой комнаты (палаты) и одетого в белый халат врача. Хотя понятия «установка» и «обстановка» в их современном контексте тогда еще не употреблялись (они приобретут этот контекст лишь спустя несколько лет исключительно благодаря работе Тимоти Лири в Гарвардском университете, которую он начнет в следующем десятилетии), Озмонд с Хоффером уже тогда стали отмечать неизмеримую важность этих факторов в деле успешного лечения больных.
Как бы то ни было, но препарат работал, и работал эффективно (по крайней мере, так казалось), так что уже к концу десятилетия ЛСД широко тиражировался по всей Северной Америке, где его рассматривали как чудесную панацею для избавления от алкогольной зависимости. Вдохновляемая этим успехом, администрация провинции Саскачеван помогла разработать соответствующую политику, сделав ЛСД-терапию стандартным средством для лечения алкоголиков. Однако далеко не все представители канадского медицинского истеблишмента считали результаты, достигнутые в Саскачеване, достойными доверия: уж слишком они хороши, чтобы им можно было верить. В начале 1960-х годов Фонд исследовательских работ по борьбе с наркоманией в Торонто, ведущее учреждение такого рода в Канаде, вознамерился повторить саскачеванские опыты с использованием более лучших и более надежных средств контроля. В надежде изолировать воздействие препарата от всех других переменных составляющих врачи давали алкоголикам ЛСД в нейтральных помещениях, строго наказав, что находиться там разрешено лишь при заполнении опросника, но только не во время психоделических трипов, после чего добровольцам завязывали глаза или каким-то другим способом ограничивали их двигательную способность. Не удивительно, что результаты оказались совершенно другими, нежели те, что получили Озмонд и Хоффер. Но что еще хуже, многие добровольцы пережили нечто ужасное – кошмарные видения (bad trips, как их впоследствии назовут психотерапевты). Критики практики лечения алкоголизма с помощью ЛСД пришли к выводу, что при более жестком режиме контроля лечение, должно быть, проходит не так успешно, как это ожидалось, и подобный вывод был вполне справедливым, тогда как сторонники этой практики пришли к заключению, что для успешного завершения ЛСД-терапии необходимо уделять особое внимание установке и обстановке, и этот вывод тоже был вполне справедливым.
В середине 1950-х годов с работой Озмонда и Хоффера познакомился Билл Уилсон, основатель Общества анонимных алкоголиков. Мысль о том, что тот или иной наркотический препарат может вызывать духовные откровения, радикально меняющие саму жизнь человека, не была для него чем-то новым, ведь к собственному трезвому образу жизни он пришел именно под влиянием мистических видений, вызванных белладонной, растительным алкалоидом с галлюциногенными свойствами, которым его пичкали в 1934 году в городской больнице Манхэттена. Только немногие из членов общества поняли тогда, что идею духовного пробуждения, заставляющего человека подчиниться или отдать себя под покровительство «высшей силы», – идею, являющуюся краеугольным камнем общества, – можно проследить вплоть до наркотических трипов, обусловленных психоделиками.
Двадцать лет спустя Билли У., как его обычно называют друзья-товарищи, вознамерился узнать, не может ли ЛСД, этот новый чудо-препарат, быть полезным в деле приобщения к духовному пробуждению выздоравливающих алкоголиков. Через Хамфри Озмонда он связался с Сидни Коэном, врачом-терапевтом в больнице Брентвуда, штат Виргиния (позднее он перешел в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе), который экспериментировал с ЛСД начиная с 1955 года. В 1956 году Билл У. вместе с Сидни Коэном и Бетти Эйснер, молодым психологом, недавно получившим докторскую степень в названном университете, провел в Лос-Анджелесе несколько сеансов с ЛСД. Коэн, Эйснер и присоединившийся к ним психиатр Оскар Джанигер вскоре стали ведущими фигурами нового центра исследований ЛСД, разместившегося в стенах Калифорнийского университета. В середине 1950-х годов таких центров в Северной Америке и Европе насчитывалась, вероятно, целая дюжина; большинство из них поддерживали друг с другом тесные контакты, делясь техническими разработками, открытиями, а иногда и препаратами скорее в духе сотрудничества, нежели конкуренции.
Совместно проведенные с Коэном и Эйснер сеансы убедили Билла У., что на ЛСД вполне можно положиться: он действительно может вызвать у человека то духовное пробуждение, которое необходимо, чтобы привести его на путь трезвости. (При этом, однако, он не разделял мнение многих, что видения, вызванные ЛСД, подобны белой горячке, вбив тем самым еще один гвоздь в гроб самой этой идеи.) Билл У. считал, что для ЛСД-терапии тоже должно найтись место в Обществе анонимных алкоголиков, но его коллеги по совету, управлявшему делами общества, рьяно воспротивились этому, потому как считали, что потворствовать употреблению психоактивных веществ, изменяющих сознание, значит не только рисковать безупречной репутацией организации, но и запятнать самое ее суть и чистоту.
Сидни Коэн с коллегами в Лос-Анджелесе, как и канадская группа, тоже начали с того, что причислили ЛСД к психомиметикам, однако уже в середине 1950-х годов Коэн стал сомневаться в правильности этой модели. Родившийся в 1910 году в Нью-Йорке, в семье литовско-еврейских эмигрантов, Коэн (с густыми, зачесанными назад волосами он выглядит на фотографиях этаким изысканным белокурым красавцем) изучал фармакологию в Колумбийском университете, а во время Второй мировой войны служил на Тихом океане в корпусе медицинских специалистов сухопутных войск США. Только в 1953 году, работая над обзорной статьей о психозах, вызываемых химическими веществами, – теме, давно его интересовавшей, – он впервые прочитал о новом препарате, носившем название ЛСД.
Тем не менее, когда Коэн в октябре 1955 года опробовал ЛСД на самом себе, он «был застигнут врасплох». Ожидая, что будет охвачен безумием и окажется в ловушке этого состояния, он вместо этого, к своему удивлению, испытал глубокое трансцендентное чувство полного спокойствия, как будто «все проблемы и устремления, все тревоги и смятения повседневной жизни исчезли, а на их место заступило величественное, солнечно-небесное внутреннее спокойствие… Казалось, что мне наконец дана божественная возможность созерцать вечную истину». Что бы это ни было и что бы он ни чувствовал, это было все что угодно, но только не временный психоз. Бетти Эйснер писала, что Коэн в конечном счете пришел к тому, что стал называть это состояние «ненормальностью» – «состоянием, не подлежащим контролю эго».
Как это часто случается в науке, когда некая теоретическая парадигма попадает под пресс и перекрестный огонь противоположных доказательств, она на какое-то время затихает, пока исследователи пытаются поддержать и подкрепить ее с помощью различных поправок и корректировок, а затем, совершенно неожиданно и быстро, взрывается, порождая новую парадигму, заступающую на ее место. Именно такой была в середине 1950-х годов и судьба психотомиметической парадигмы. И хотя от многочисленных добровольцев продолжали, конечно же, поступать сообщения о сложных, фантасмагорических, а подчас и мучительно-устрашающих «прогулках в неведомое», удивительным было то, что лишь очень немногие из них испытывали тот полновесный психоз, на котором настаивала парадигма. Даже двенадцать часов безумия мистера Катца содержали в себе сцены неописуемой красоты, радости и озарения, которые нельзя было не заметить.
Так уж получилось, но на замену психотомиметической парадигме пришла не одна, а сразу две совершенно новые теоретические модели: психолитическая, а затем и психоделическая модель. Каждая из них основывалась на различных концепциях того, как эти соединения воздействуют на сознание человека и каков, следовательно, наилучший способ их применения при лечении психических заболеваний. Эти модели ничуть не противоречили одна другой (поэтому-то некоторые исследователи в различное время уделили должное внимание и той, и другой), а просто представляли собой разный, и при этом глубокий, подход к пониманию психики человека, а стало быть, в конечном счете, к пониманию психотерапии, да и науки в целом.
Так называемая психолитическая парадигма впервые была разработана в Европе, где она стала особенно популярной, а затем была взята на вооружение и лос-анджелесской группой в лице Сидни Коэна, Бетти Эйснер и Оскара Джанигера. «Психолитический» (этот термин впервые предложил английский психиатр Рональд Сандисон) означает «освобождающий разум», а это именно то, что и делают ЛСД и псилоцибин – по крайней мере, в малых дозах. По словам терапевтов, которые давали своим пациентам ЛСД в малых дозах (обычно 25 микрограммов и только в редких случаях выше 150 мг), у последних наблюдалось значительное ослабление защитной хватки эго, что позволяло им вытаскивать из-под спуда и поднимать подавленный материал, вынося на обсуждение очень сложные, а подчас и вытесненные в подсознание темы, которыми они манипулировали достаточно свободно. Это означало, что эти препараты можно с успехом использовать в разговорной терапии, поскольку при названных малых дозах эго пациента ничуть не искажается и продолжает эффективно действовать, позволяя ему не только общаться с терапевтом во время сеанса, но и вспоминать впоследствии сами обсуждаемые темы.
Главное достоинство психолитического метода в том, что он очень хорошо сочетается с уже имеющимися господствующими методами психоанализа – практика, которую эти препараты обещали ускорить и упорядочить, а не революционизировать или сделать устаревшей. Существенная проблема, связанная с психоанализом, заключается в том, что доступ к подсознательному уму (а именно на этом доступе и строится данный метод) крайне затруднителен и ограничен двумя далекими от оптимальности маршрутами, один из которых суть свободные ассоциации, а второй – сны пациента. Фрейд называл сновидения «королевской дорогой», ведущей к подсознательному, потому как она позволяла подобраться к нему окольными путями, минуя врата эго и суперэго, хотя сама дорога была полна выбоин и ухабов: пациенты далеко не всегда помнили свои сны, а если даже помнили, то чаще всего очень расплывчато и в самых общих чертах. Такие же препараты, как ЛСД и псилоцибин, обещали более удобный маршрут к подсознательному.
Станислав Гроф, в свое время изучавший психоаналитику, установил в ходе экспериментов, что при умеренных дозах ЛСД его пациенты быстро налаживают контакт с психотерапевтом, столь же быстро восстанавливают полученные в детстве психологические травмы, озвучивают или облекают в слова глубоко скрытые эмоции, а в некоторых случаях даже вспоминают момент своего рождения – нашу первую травму и, по убеждению Грофа (который в этом вопросе солидарен с Отто Ранком), ключевую детерминанту личности. (Гроф провел обширные исследования, пытаясь соотнести воспоминания пациентов – находившихся под действием ЛСД – о моменте рождения с рассказами их родителей и отчетами медицинского персонала. Он пришел к заключению, что под действием ЛСД многие действительно способны вспомнить обстоятельства своего рождения, особенно если роды были очень трудными.)
В Лос-Анджелесе Коэн, Эйснер и Джанигер начали понемногу вводить ЛСД в постоянный обиход, применяя его в своих еженедельных терапевтических сеансах и постепенно, раз за разом увеличивая дозу до тех пор, пока их пациенты не получили доступ к подсознательному материалу – подавленным эмоциям и воспоминаниям о полученных в детстве психологических травмах. В основном они использовали этот препарат при лечении невротиков, алкоголиков и людей с незначительными расстройствами личности (то есть обычной категории пациентов, находящихся под присмотром и наблюдением психотерапевтов), людей вполне дееспособных и вразумительных, обладающих неповрежденным эго и движимых желанием стать лучше. Но лос-анджелесская группа опробовала его и на сотнях художников, композиторов и писателей, исходя из того, что если источником творчества является подсознание, то ЛСД непременно расширит доступ к нему.
Психотерапевтов и их пациентов питала надежда на то, что этот препарат продемонстрирует свои терапевтические свойства, и – о чудо! – так оно чаще всего и случалось: по словам Коэна и Эйснер, 16 из первых 22 пациентов выказали существенные признаки улучшения. В вышедшей в 1967 году научной статье, дававшей суммарный обзор всех работ о психолитической технике, опубликованных в период с 1953 по 1965 год, коэффициент успешного применения этой техники составлял 70 % в случаях тревожного невроза, 62 % в случаях депрессии и 42 % в случаях обсессивно-компульсивного расстройства. Что и говорить, впечатляющие результаты! Однако указанный процент значительно снижался при попытках воспроизвести эти опыты под более тщательным контролем.
К концу десятилетия психолитическая ЛСД-терапия, чаще всего применявшаяся в более респектабельных пригородах Лос-Анджелеса, таких, например, как Беверли-Хиллз, стала обычной практикой. Разумеется, бизнес вторгался и в эту область (его вообще трудно искоренить): некоторые психотерапевты просили за сеанс с использованием ЛСД (который они, кстати, бесплатно получали от компании Sandoz) до пятисот долларов. Кроме того, ЛСД-терапия сделалась объектом внимания прессы, дававшей о ней крайне положительные отзывы. Статьи вроде уже упоминавшейся «12 часов безумия» открыли шлюзы для потока восторженных признаний со стороны многочисленных голливудских звезд, делившихся своими «трансформирующими откровениями», приобретенными в офисах Оскара Джанигера, Бетти Эйснер, Сидни Коэна и других психотерапевтов, количество которых день ото дня все росло и увеличивалось. Анаис Нин, Джек Николсон, Стэнли Кубрик, Андре Превен, Джеймс Кобурн и бит-комик Лорд Бакли – все они опробовали на себе ЛСД-терапию, причем многие на кушетке в кабинете Оскара Джанигера. Но самым известным из его пациентов был Кэри Грант, давший в 1959 году интервью известному журналисту и ведущему отдела светской хроники Джо Хайамсу, в котором он превознес до небес чудеса ЛСД-терапии. Грант, на счету которого было более 60 сеансов с использованием этого психоделика, объявил себя «заново родившимся».
«Всякая печаль и суета были искоренены напрочь, – поделился своим впечатлением с Хайамсом пятидесятипятилетний актер, чье интервью для многих оказалось полной неожиданностью, особенно в свете имиджа замкнутого и безупречного англичанина, который закрепился за Кэри Грантом. – С меня сорвали мое эго. А мужчина без эго гораздо лучший актер, чем с ним, поскольку он остается наедине с истиной. Теперь я не могу поступать неправдиво по отношению к кому бы то ни было, а тем более к самому себе». Судя по фразам, обильно выдаваемым Кэри Грантом, ЛСД превратил его в американца.
«Я больше не одинок, и я счастливый человек», – заявил Грант. Он сказал, что пережитое и увиденное под действием ЛСД позволило ему преодолеть нарциссизм, существенно улучшив не только его актерскую игру, но и отношения с женщинами: «Никогда еще молодые женщины так меня не привлекали».
Не удивительно, что интервью Гранта, разрекламированное в национальном масштабе и получившее множество хвалебных отзывов, породило небывалый спрос на ЛСД-терапию. Хайамс, получивший более восьмисот писем от читателей, желавших знать, как им попасть на эту терапию, вспоминал о том времени: «Мне то и дело звонили психиатры, жалуясь на то, что пациенты буквально выпрашивают у них ЛСД».
Если период, который мы именуем «шестидесятыми годами», на самом деле начался где-то в 1950-е годы, то бум ЛСД-терапии, начавшийся с легкой руки Кэри Гранта в 1959-м, свидетельствует о перемене в веяниях культурного ветра. Еще до того, как Тимоти Лири прославился рекламой и насаждением ЛСД вне его терапевтического или исследовательского контекста, этот препарат уже несколько лет совершал свое «бегство из лабораторий» в Лос-Анджелесе, привлекая к себе пристальнее внимание национальной прессы. К 1959 году существовал уже ряд мест, где ЛСД можно было приобретать прямо на улице. Несколько психотерапевтов и исследователей из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка начали проводить у себя дома для друзей и коллег «сеансы» с ЛСД, хотя теперь трудно было сказать, чем эти сеансы отличались от таких же тусовок. Предпосылка о «проведении исследований», до того времени действовавшая безотказно, теперь в лучшем случае стала довольно шаткой, по крайней мере в Лос-Анджелесе. Как позже напишет один из этих мнимых исследователей, «ЛСД стал для нас наркотиком интеллектуальных развлечений».
Сидни Коэн, ставший к тому времени признанным главой исследователей ЛСД в Лос-Анджелесе и потому тщательно избегавший этих закулисных сцен, мало-помалу начал придерживаться иного мнения относительно этого препарата или, по крайней мере, относительно того, как его представлять и как использовать. Если верить его биографу, историку Стивену Новаку, Коэн был сильно встревожен атмосферой нарождавшегося культа и аурой религиозности и магии, начавшей создаваться вокруг ЛСД. Здраво подходя к этой теме, неоднократно возникавшей в истории психоделических исследований, Коэн стремился снять напряжение между духовным смыслом того опыта, который давал ЛСД (и мистическими наклонностями, которые он выявлял у врачей-клиницистов), и той совокупностью научных явлений (этосом), с которыми он был связан. В этом смысле Коэн до конца своих дней оставался глубоко противоречивым человеком: ЛСД, писал он в 1959 году в письме к одному из своих коллег, «открыл дверь, от которой мы не должны отступаться только потому, что на ее пороге мы чувствуем себя неловко по причине своего научного невежества». И однако именно такое чувство часто вызывало в нем действие ЛСД: неловкости и научного невежества.
Кроме того, Коэн начал задаваться вопросом о статусе тех озарений, которые являлись пациентам во время их психоделических трипов. Он пришел к убеждению, что «под влиянием ЛСД пациент просто подтверждает излюбленные теории самого психотерапевта». Эффект ожидания приводил к тому, что пациенты, работавшие с терапевтами-фрейдистами, возвращались из своих внутренних странствий с фрейдистскими озарениями (вставленными во фрейдистские рамки и изложенными с позиций чисто фрейдистских понятий, таких как детская травма, либидо и Эдиповы эмоции), тогда как пациенты, работавшие с юнгианцами, возвращались с яркими архетипами, взятыми на чердаке коллективного бессознательного, а работавшие с ранкианцами – с ожившими воспоминаниями о травмах, полученных в момент рождения.
Несомненно, что эта радикальная внушаемость повлекла за собой научную дилемму, но вопрос в том, была ли эта научная дилемма также и терапевтической. Вероятно, нет. Коэн писал, что «любое объяснение проблемы, которое терапевт дает пациенту (при условии, что оба твердо убеждены в правильности этого объяснения), или порождает озарение, или является благодатной почвой для такого озарения». Однако он несколько смягчил эту перспективу, признав, что она «нигилистична», каковой (если подходить к этому делу чисто научно) она в самом деле и является, потому как это подводит психотерапию опасно близко к миру шаманизма и исцелению верой, миру, который крайне неприятен для настоящего ученого. И тем не менее, пока эта терапия действует, пока она исцеляет людей, почему кто-то должен беспокоиться? (То же самое дискомфортное чувство испытывают ученые и по отношению к плацебо, и это наводит на интересные сравнения, ведь психоделики в этом случае вполне можно считать своего рода «активным плацебо», если воспользоваться термином, заимствованным из книги Эндрю Вайля «Естественный ум» (1972). Несомненно, они оказывают какое-то действие, но дело в том, что большая часть оказываемого ими действия, возможно, вызывается самим человеком. Или, как выразил это Станислав Гроф, психоделики – это «неспецифические усилители» психических процессов.)
Противоречивое отношение к ЛСД, которое Коэн сохранял до конца своей научной практики, характеризует его как довольно редкую фигуру в мире, плотно населенном психоделическими евангелистами, а именно: как скептика с широким кругозором, как человека, чье сознание способно вмещать противоречивые идеи. Коэн продолжал верить в терапевтическую силу ЛСД, особенно при лечении чувства тревоги у онкологических больных, и эту свою веру он выразил в восторженной статье, написанной в 1965 году для журнала Harper's. Там он называет это явление «терапией путем преодоления себя», намекая на то, что вполне допускает тот факт, что со временем она будет играть в западной медицине роль, к которой вполне может быть применимо название прикладного мистицизма. И при этом Коэн не уставая привлекал внимание общественности к опасности и пагубности злоупотребления ЛСД или призывал к осмотрительности своих более ретивых коллег, когда они сходили с проторенного научного пути – пути, с которого пение сирен, певших о психоделиках, совлекло очень многих.
Но вернемся в Саскачеван. После краха психотомиметической парадигмы Хамфри Озмонд и Абрам Хоффер избрали совершенно иной путь, хотя и этот путь тоже обошелся им недешево, осложнив их и без того трудные отношения с наукой. Стремясь сформулировать новую терапевтическую модель для ЛСД, они обратились к двум блестящим любителям этого «жанра»; одним из них был известный английский писатель Олдос Хаксли, а другим – довольно пресловутая личность, бывший бутлегер и продавец оружия, шпион, изобретатель, капитан корабля, бывший зэк и католический мистик по имени Эл Хаббард. Эти люди, явно не ученые, помогли канадским психиатрам переосмыслить явления, вызываемые ЛСД, и разработать терапевтический протокол, используемый в медицине и по сей день.
Название нового метода, как и название (наконец устоявшееся) этого класса препаратов – психоделики, – возникло в 1956 году в ходе переписки между Озмондом и Хаксли. Они впервые встретились в 1953 году, когда Хаксли написал Озмонду, что его очень интересует мескалин, который он хотел бы опробовать на себе; этот интерес возник после того, как он прочел в журнале статью Озмонда о том воздействии, которое оказывает этот препарат на сознание человека. Хаксли давно уже проявлял живейший интерес ко всякого рода психоактивным веществам и их воздействию на сознание (вспомним хотя бы, что сюжет его знаменитого романа «О дивный новый мир» 1932 года вращается вокруг так называемой сомы, наркотика, воздействующего на сознание людей), а также к мистицизму, сверхчувственному восприятию, проблемам реинкарнации, НЛО и многому другому.
Итак, весной 1953 года Хамфри Озмонд приехал в Лос-Анджелес в расчете попотчевать Олдоса Хаксли порцией мескалина, хотя и не безвозмездно. Перед сеансом он доверительно поведал одному из коллег, что не хотел бы «снискать себе честь, пусть и весьма отдаленную, занять в истории мировой литературы маленькую, но позорную нишу человека, который довел до безумия самого Олдоса Хаксли».
Но ему не стоило беспокоиться. Психоделический трип Хаксли прошел блестяще, навсегда изменив само отношение к этим препаратам и пониманию их культуры; произошло это на следующий год, после того как из печати вышла книга писателя с рассказом о пережитом, озаглавленная «Двери восприятия».
«Бесспорно, это было самое невероятное и самое значительное переживание из выпавших мне по эту сторону Блаженных Видений», – писал Хаксли в письме к своему издателю вскоре после случившегося. Для Хаксли это переживание действительно было «бесспорно невероятным», потому как с помощью мескалина он получил доступ не к сознанию безумца, а в духовный мир неописуемой красоты. Самые обыденные, приземленные предметы излучали ослепительное сияние, исходившее от некоего божественного источника, который он называет «Разум в целом». Даже «складки моих серых фланелевых брюк были заряжены „-измом “», – сообщает он, прежде чем остановиться на красоте драпировок на полотнах Боттичелли и «величественности и беспредельности складчатых тканей». Когда же его взгляд упал на маленькую вазу с цветами, он увидел то, «что узрел Адам на заре творения – чудо, миг за мигом, обнаженного существования… Все цветы светились внутренним светом и мелко дрожали под давлением своей значимости, которой они были наполнены».
«Мне на ум пришли слова „милость“ и „преображение“», – пишет он. Еще бы! Ведь с помощью мескалина Хаксли получил непосредственный доступ в царства существования, известные только мистикам и великим визионерам, которых в мировой истории было не так уж и много. Эти миры всегда рядом с нами, но в моменты будничной жизни их отделяет от нашего сознания «редукционный клапан» будничного бодрствующего сознания, своего рода фильтр, пропускающий через себя «скудный ручеек сознания», необходимый нам для выживания. Все прочее – роскошь и излишество, вроде поэзии, но мужчины, тем не менее, умирают из-за них каждый день, вернее – не из-за них, а из-за их отсутствия. Мескалин приоткрыл перед ним то, что Уильям Блейк называл «дверями восприятия», впустив в наше сознание проблеск бесконечного, которое постоянно нас окружает и всегда с нами – даже в складках наших брюк! – в чем мы непременно убедились бы, если бы только могли это видеть.
То, что пережил Хаксли (и это касается любых психоделических откровений, изведанных как до него, так и после), не проявилось на tabula rasa[22] его сознания как некий чистый продукт, получаемый при соединении химических веществ, но было сформировано главным образом всем тем, что он прочел, всеми его философскими и духовными наклонностями, которые он имел при себе в момент перехода за черту обыденного сознания. (Лишь когда я написал строку о цветах, которые «светились внутренним светом и мелко дрожали под давлением своей значимости», я вдруг осознал, как сильно Хаксли повлиял на мое собственное восприятие цветов и растений, когда я сам находился под действием псилоцибина.) Мысль о психическом «редукционном клапане», фильтрующем наше восприятие, я заимствовал у французского философа Анри Бергсона, считавшего, что не человеческий мозг порождает или генерирует сознание, но что оно существует во внешнем поле в виде чего-то, напоминающего электромагнитные волны; что же касается мозга, который он сравнивает с радиоприемником, то он может настраиваться на различные частоты сознания. Хаксли тоже считал, что в основе всех мировых религий лежит некий общий мистический опыт познания, который он называет «Вечной Философией». Понятное дело, что проведенное Хаксли «утро в объятиях мескалина» подтвердило все эти идеи; как едко выразился один из рецензентов «Дверей восприятия», книга содержит «99 процентов Олдоса Хаксли и только полграмма мескалина». Но это не важно; важно то, что великие писатели проставляют на материи мира печать своего ума и что совокупный психоделический опыт человечества будет отныне вечно нести на себе неизгладимый отпечаток Хаксли.
Как бы это ни сказалось на культуре, но пережитое Хаксли, несомненно, заронило в его сознание, как и в сознание Озмонда, ту мысль, что «модель психоза» совершенно не отражает состояние сознания под влиянием мескалина или ЛСД, который Хаксли тоже опробовал, но два года спустя. Чувство «обезличивания», испытанное одним человеком, могло бы обернуться у другого чувством «единения со всеми»; здесь все решают перспектива, ракурс и словарный запас самого человека.
«Я назову этот эликсир очень нехорошим словом, если в сознании общественности он будет продолжать ассоциироваться с симптомами шизофрении, – писал Хаксли Озмонду в 1955 году. – Люди подумают, что они сходят с ума, тогда как на самом деле они начнут сходить с ума, только когда примут его внутрь».
Понятно, что новое название этого класса препаратов напрашивалось само собой, и в письмах, которыми обменялись между собой психиатр и писатель в 1956 году, всплыла пара таких «кандидатов». Однако, как это ни удивительно, победа осталась за предложением психиатра, а не писателя. Хаксли выдвинул свое предложение в виде двустишия:
- Коль хочешь бренный мир без грима,
- Прими полграмма фанеротима.
Выдуманное им слово («фанеротим») было составлено из двух греческих, означающих «ум» () и «явный» ().
Вероятно, ученому показался неблагозвучным этот слишком уж «духовный» термин, и он тоже ответил двустишием:
- Чтоб в Ад попасть, – не приведи Господь! —
- Нужна лишь психоделика щепоть.
В своем неологизме Озмонд тоже соединил два греческих слова: (что означает «душа», «разум») и ???? (что означает «зримый»), получив тем самым слово со значением «обнажающий душу, разум». Хотя к настоящему времени это слово уже приобрело яркую окраску, типичную для 1960-х годов, на тот момент ему показалась привлекательной сама нейтральность слова «психоделик»: оно «не несло в себе какого-то оттенка безумия, сумасшествия или экстаза, но прямо намекало на увеличение и расширение сознания». Обладало оно и еще одним достоинством – «свободой от других ассоциаций», хотя свободным от них оно оставалось совсем недолго.
«Психоделическая терапия», как Озмонд с коллегами примерно с середины 1950-х годов стал называть свои терапевтические сеансы, обычно включала в себя прием единичной дозы ЛСД (достаточно большой), при этом участник находился в комфортной обстановке, лежал на кушетке, а подле него находился психотерапевт (иногда двое), который во время сеанса практически ничего не говорил, за исключением, может быть, двух-трех слов, давая подопечному возможность «путешествовать» сообразно его настроению и наклонностям. Чтобы устранить отвлекающие факторы и побудить подопечного к внутренней концентрации, обычно ставилась приятная фоновая музыка, а ему на глаза накладывалась темная повязка. Цель всего этого антуража – создать условия для духовного озарения, того самого состояния, которое обычно приводит человека к обращению в религиозность.
Но хотя этот терапевтический метод ассоциируется почти исключительно с именами Озмонда и Хоффера, сами они для разработки наиболее существенных его элементов привлекли человека поистине загадочного, человека, не имевшего какого-либо официального образования, а потому не являвшегося ни ученым, ни психотерапевтом. Звали этого человека Эл Хаббард. Врачебная палата, обставленная так, что она скорее напоминала домашнюю гостиную, а не больничную комнату, вскоре стала называться «палатой Хаббарда», а один из исследователей, работавших с психоделиками на раннем этапе их изучения, доверительно сообщил мне, что и всю терапевтическую процедуру, ныне считающуюся нормативной, следовало бы с полным правом назвать методом Хаббарда. И все же Эл Хаббард, также известный как Капитан Трипс, или Джонни ЛСД – Яблочное Семечко, не из тех интеллектуальных отцов-основателей, которых каждый современный исследователь, серьезно занимающийся психоделической наукой, считает обязанным возвеличивать, а тем более чествовать.
Несомненно, что Эл Хаббард – самая невероятная, интригующая и непостижимая фигура из всех, коими отмечена история психоделиков, а это говорит о многом. Мы знаем о нем не очень много, а те ключевые факты из его жизни, которые нам известны, у нас нет возможности ни подтвердить, ни перепроверить, настолько они противоречивы или попросту сомнительны. Вот лишь один маленький пример: в архивных данных ФБР он значится как довольно высокий человек, чей рост составляет 5 футов 11 дюймов (примерно 180 см по европейским меркам), но на фотоснимках и видеофильмах Хаббард выглядит невысоким и коренастым, с большой круглой головой, увенчанной короткой стрижкой; по причинам, которые известны только ему, он часто ходит в полувоенной форме и носит на боку кольт сорок пятого калибра, всем своим видом напоминая шерифа из провинциального городка. Но если взять за основу ту обильную корреспонденцию, которой он обменивался со своими коллегами, а также многочисленные отчеты в канадской прессе и книги, посвященные тому периоду истории[23], включая сюда и интервью с людьми, близко его знавшими, то по этим данным вполне можно составить довольно обстоятельный портрет этого человека, пусть даже некоторые важные черты в нем останутся расплывчатыми или чуть размазанными.
Хаббард родился в 1901 или в 1902 году (в файлах ФБР указаны обе даты) в бедной семье, жившей в одном из поселков, расположенных на склонах Кентуккийских гор; он любил рассказывать, что обзавелся первой парой обуви, только когда ему исполнилось 12 лет. Третий класс он так и не закончил, но у парня, несомненно, был талант к электронике, ибо, еще будучи подростком, он изобрел прибор, который назвал электрическим трансформатором Хаббарда; собственно говоря, это была новая разновидность энергетической батарейки, работавшей якобы на радиоактивном излучении (на чем-то таком, что, по словам самого Хаббарда, «невозможно было объяснить с помощью технологии того времени»), – если верить сведениям о его жизни, изложенным Тоддом Бренаданом Фэхи в большой статье, напечатанной в 1991 году в журнале High Times. Хаббард (опять же, по его собственным словам) продал половину доли в своем патенте за 75 тысяч долларов, хотя ничего путного из его изобретения так и не вышло, в результате чего журнал Popular Science включил его (изобретение) в свой знаменитый список технологических неудач. Во время сухого закона Хаббард работал в Сиэтле водителем такси, но это было лишь прикрытием: в кузове своей машины он возил сложную навигационную систему связи, с помощью которой он оповещал бутлегеров о нахождении береговой охраны, давая им возможность ускользнуть от ее бдительного ока. В конце концов ФБр удалось задержать наводчика, и Хаббард отсидел полтора года в тюрьме по обвинению в контрабанде.
После освобождения жизненные пути Хаббарда настолько переплелись и перепутались, что проследить их теперь довольно сложно, тем более что сведения о них носят крайне расплывчатый и противоречивый характер. Согласно одному из отчетов, Хаббард в годы, предшествующие вступлению США во Вторую мировую войну, участвовал в тайной операции по доставке тяжелого вооружения из Сан-Диего в Канаду, а оттуда в Британию, хотя в те годы, если верить официальным источникам, страна придерживалась нейтралитета. (Его для выполнения этой миссии завербовали разведчики Алена Далласа, впоследствии основавшего и возглавившего Управление стратегических служб.) Но когда конгресс США начал расследование этой операции, Хаббард сбежал от неминуемого наказания в Ванкувер. Вскоре он стал канадским гражданином, основал в Канаде чартерный морской бизнес (именно отсюда его прозвище Капитан) и стал научным директором компании по добыче урана. (Согласно другому отчету, Хаббард был тесно связан с Манхэттенским проектом и поставлял для нужд этого проекта уран.) В возрасте пятидесяти лет «босоногий мальчонка из Кентукки» стал миллионером, владельцем флотилии самолетов, тридцатиметровой яхты, «роллс-ройса» и собственного острова неподалеку от Ванкувера. Однако во время войны он неожиданно возвращается в Соединенные Штаты и становится агентом Управления стратегических служб (УСС) незадолго до того, как его переименовали в Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
А вот еще несколько любопытных фактов из жизни Эла Хаббарда в период, предшествовавший его знакомству с психоделиками. Во-первых, он был рьяным католиком с ярко выраженным влечением ко всему необычному и мистическому. А во-вторых, в своей профессиональной приверженности делу он был невероятно гибок и изворотлив, работая в разное время то как контрабандист, занимавшийся ввозом спиртных напитков и оружия, то как агент Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Не являлся ли он двойным агентом? Вполне возможно. Известно также, что некоторое время он работал в канадских спецслужбах в министерстве юстиции США и даже в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Согласно архивным данным ФБР, в течение 1950-х годов он поддерживал связи с ЦРУ, но эти сведения столь противоречивы и малочисленны, что раскрыть его истинную роль в этом деле (если только эта роль была) представляется невозможным. Мы знаем, что на протяжении 1950-х, 1960-х и 1970-х годов правительство вело пристальную слежку за исследователями психоделиков (в некоторых случаях даже финансируя лабораторные исследования ЛСД и научные конференции), поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в обмен на информацию оно предоставило Хаббарду полную свободу действий, чем он и воспользовался. Правда, это всего лишь домыслы.
Жизнь Элла Хаббарда потекла по перпендикулярному руслу в 1951 году. В это время он, по словам Уиллиса Хармана, одного из группы инженеров, работавших в Кремниевой долине, которому Хаббард несколько позже помог свести знакомство с ЛСД, «был очень удачлив, но несчастен», отчаянно ища смысл жизни. Как рассказал Хаббард Харману (а тот впоследствии Тодду Брендану Фэхи), он путешествовал пешком по штату Вашингтон, когда на лесной поляне ему вдруг явился ангел и «сказал Элу, что человечество в ближайшем будущем ждет некое знаменательное событие и что он, Эл, если захочет, сможет сыграть в нем известную роль. Но не дал при этом ни малейшего намека на то, что это за событие и когда его ожидать».
Намек, причем слишком явный, появился год спустя в виде статьи в научном журнале, где описывалось поведение крыс, которым скармливали крошечные дозы только что открытого соединения, названного ЛСД. Хаббард тут же связался с упомянутым в статье ученым, раздобыл у него немного ЛСД и – пережил нечто, в корне изменившее всю его жизнь: он стал свидетелем зарождения жизни на Земле и собственного зачатия. «Это было нечто глубоко мистическое, с чем мне еще никогда не приходилось сталкиваться, – рассказал он позже своим друзьям. – Я увидел себя крошечной клеткой, наделенной искрой разума и обитавшей в большой трясине. Я видел, как совокуплялись мои отец и мать». Несомненно, что именно это и предсказал ему ангел – «некое знаменательное событие, которое ждет человечество в ближайшем будущем». Хаббард понял, что ему выпала честь принести человечеству новое евангелие – евангелие от ЛСД, так же как и само химическое соединение. Ему, по его собственным словам, досталась «особая роль – роль избранного».
Так началась карьера Эла Хаббарда в роли Джонни ЛСД – Яблочного Семечка. Благодаря своим обширным связям в правительственных и деловых кругах и при их поддержке он направил в лабораторию компании Sandoz заявку с просьбой выделить ему умопомрачительное количество ЛСД: литровую бутыль, согласно одному донесению; сорок три ящика, согласно второму; и шесть тысяч ампул, согласно третьему. (Альберту Хофману он постоянно заявлял, что планирует использовать препарат в деле «освобождения человеческого сознания».) Не знаю, кому верить, но, по одним данным, он хранил запасы ЛСД в своем депозитном сейфе в Цюрихе, а по другим, закопал его в Долине Смерти, хотя значительную его часть постоянно носил с собой в кожаном кисете. В конце концов Хаббард сначала стал эксклюзивным поставщиком ЛСД в Канаде, а затем каким-то образом раздобыл в Управлении по санитарному надзору лицензию, дававшую ему право проводить клинические испытания ЛСД в Соединенных Штатах, – и это несмотря на его три класса образования, криминальное прошлое и единственное, вероятно поддельное, научное удостоверение. (Диплом доктора философии он по случаю купил у мошенников, торгующих поддельными документами.) Считая себя своего рода «катализатором» и выполняя некогда данное обещание изменить курс человеческой истории, Хаббард в период с 1951 по 1966 год «подсадил» на ЛСД порядка шести тысяч человек.
Любопытно, но босоногий мальчонка из Кентукки оказался чем-то вроде мандарина, выбиравшего себе в качестве подданных ведущих деятелей в бизнесе, правительстве, искусстве, религии и технике. Он считал, что работа должна осуществляться по принципу сверху вниз, и презирал других психоделических евангелистов вроде Тимоти Лири, который придерживался более демократического подхода. Члены парламента, иерархи Романо-католической церкви[24], голливудские актеры, правительственные чиновники, известные писатели и философы, университетские должностные лица, инженеры-электронщики, выдающиеся бизнесмены – всех этих людей Хаббард снабжал дозами ЛСД, сверху выполняя свою миссию по изменению курса мировой истории. (Правда, не все, с кем был близок Хаббард, согласились участвовать в разыгрываемой пьесе: например, Эдгар Гувер, которого Хаббард называл лучшим другом, отказался.) Хаббард верил, вспоминал Абрам Хоффер, что «если бы ему удалось осчастливить психоделическими откровениями ведущих директоров и руководящих сотрудников 500 ведущих компаний, он бы реформировал все общество». Одного из таких сотрудников ему все же удалось завлечь в свои сети в конце 1950-х годов: Майрон Столярофф, помощник президента по долгосрочному планированию в компании Ampex, являвшейся в то время ведущей фирмой в области электроники в Кремниевой долине, «проникся убеждением, что он [Эл Хаббард] именно тот человек, который осчастливит планету Земля, подарив ей ЛСД».
В 1953 году, незадолго до своего психоделического прозрения, Хаббард пригласил Хамфри Озмонда отобедать с ним в Ванкуверском яхт-клубе. Как и многих других, Озмонда глубоко впечатлили присущие Хаббарду качества: поглощенность земными заботами, богатство, обширные связи и доступ к неиссякаемым запасам ЛСД. Обед, прошедший в благожелательной атмосфере, завершился заверениями в дружбе и привел к сотрудничеству, которое изменило ход психоделических исследований и, что особенно важно, заложило основу для исследований, проводимых сегодня.
Под влиянием Хаббарда и Хаксли, которого в первую очередь интересовали раскрепощающие свойства психоделиков, Озмонд отказался от психотомиметической модели. Но из них двоих именно Хаббард первым высказал мысль, что коль скоро даже единичная доза мескалина или ЛСД способна вызвать мистические видения, что уже испытали на себе многие люди, то почему бы не использовать это свойство психоделиков в качестве терапевтического метода – потому как видения и даваемый ими опыт более важны, чем само химическое соединение. Путешествие в незнаемое, совершаемое под действием психоделиков, подобно озарению, которое обращает человека к религиозности: оно может показать людям, пусть даже без их ведома, новую, более всеобъемлющую перспективу в их жизни, перспективу, которая поможет им кардинально измениться. Но, вероятно, самым весомым вкладом Хаббарда в психоделическую терапию является врачебная палата, названная его именем.
Гораздо легче собирать и накапливать факты из жизни Эла Хаббарда, чем составить устойчивое представление о характере этого человека, полного тайн и противоречий. Крутой парень с кольтом на бедре был при этом завзятым мистиком, любившем поговорить о любви и небесных красотах, а также бизнесменом с хорошими связями и правительственным агентом, оказавшимся на деле невероятно восприимчивым и одаренным психотерапевтом. Хотя сам он никогда не употреблял этих терминов, Хаббард, что поразительно, первым из исследователей понял особую важность установки и обстановки в деле успешного проведения психоделических сеансов. Он инстинктивно понимал, что белые стены и флуоресцентное освещение идеально чистой больничной палаты не способствуют успешному проведению сеансов, что они не будят воображение, поэтому он привнес туда картины и музыку, цветы и драгоценные камни, используя их для подготовки подопечных к мистическим откровениям или для отвлечения их внимания от психических реалий, если они начинают принимать устрашающий вид. Ему нравилось показывать людям картины Сальвадора Дали и изображения Иисуса Христа, и также нередко перед началом сеанса он просил их внимательно рассмотреть грани алмаза, специально принесенного им с этой целью. Один из его ванкуверских пациентов, алкоголик, страдавший социофобией, вспоминал, как Хаббард во время сеанса с ЛСД вручил ему букет роз и сказал: «„Возненавидь их“. Они тут же увяли, лепестки осыпались, и я заплакал. Тогда он сказал: „Возлюби их“, и они тут же ожили, заиграли красками и стали еще более прекрасными, чем раньше. Для меня это много значило. Я вдруг понял, что можно самому выстраивать свои отношения, делая их такими, какими тебе хочется. Трудности общения с людьми, которые я испытывал до сеанса, взяли и исчезли».
То, что Хаббард привнес в больничную палату, было хорошо известно любому традиционному врачевателю. Шаманы, например, многие тысячелетия обладают знанием о том, что человеком, находящимся в состоянии глубокого транса или под воздействием сильных лекарственных трав, можно легко манипулировать посредством нескольких слов, специальных предметов или даже музыки. Хаббард интуитивно понимал, что внушаемость человеческого ума, особенно когда он находится в состоянии измененного сознания, можно использовать в качестве важнейшего ресурса исцеления – прежде всего для избавления от деструктивных мысленных шаблонов и для замены их новыми перспективами. Возможно, исследователи предпочли бы назвать этот процесс «манипулированием установкой и обстановкой», что соответствует действительности, но величайший вклад Хаббарда в современную психоделическую терапию как раз в том, что он первым представил соотечественникам проверенные инструменты шаманизма – пусть даже в его западном варианте.
За несколько лет Хаббард перезнакомился практически со всеми членами научно-исследовательского психоделического сообщества в Северной Америке, производя неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливилось с ним встретиться, и своим характером, и особенно тем шлейфом терапевтических «чаевых» или ампул с ЛСД (благодаря любезности компании Sandoz), который за ним тянулся. К концу 1950-х годов он стал своего рода странствующим пастором, вещающим о психоделических откровениях. На одну неделю он «оседал» в Вейберне, где помогал Хамфри Озмонду и Абраму Хофферу в их работе с алкоголиками, которой они снискали себе международное признание; оттуда он ездил на Манхэттен, чтобы встретиться с Гордоном Уиссоном, а на обратном пути останавливался у какой-нибудь важной персоны, чтобы одарить ее дозой ЛСД, или делал остановку в Чикаго, чтобы навестить (и проконтролировать) работавшую там исследовательскую группу. Следующую неделю его можно было встретить в Лос-Анджелесе, где он проводил совместные сеансы с Бетти Эйснер, Сидни Коэном или Оскаром Джанигером, с которыми он безвозмездно делился своей врачебной техникой и запасами ЛСД. («Мы ждали его, как старушка где-нибудь в прерии ждет каталога компании Sears, Roebuck & Co.», – вспоминал годы спустя Оскар Джанигер.) Оттуда он возвращался назад, в Ванкувер, где настоятельно убеждал Голливудскую больницу отдать целое крыло под нужды алкоголиков, которых следовало лечить с помощью ЛСД[25]. К тому же Хаббард частенько летал на своем самолете в Голливуд, где брал (весьма осмотрительно) на борт нескольких голливудских звезд и доставлял их на лечение в Ванкувер. Именно благодаря этой побочной деятельности он и заслужил свое прозвище Капитан Трипс. Кроме того, Хаббард основал в Канаде еще два лечебных учреждения для алкоголиков, где регулярно проводил сеансы с ЛСД, заявляя, что они имеют небывалый успех. Лечение алкоголизма по методу Хаббарда превратилось в Канаде в целую бизнес-отрасль, хотя Хаббард считал, что было бы в высшей степени нечестно и неэтично наживаться на ЛСД, и эта его позиция часто приводила к трениям между ним и несколькими учреждениями, с которыми он работал, поскольку там брали с пациентов за сеанс до 500 долларов. Для Хаббарда психоделическая терапия была разновидностью филантропической деятельности, и он не жалел своего состояния, продвигая это дело вперед.
Эл Хаббард порхал между этими далеко отстоящими друг от друга исследовательскими центрами, подобно психоделической пчелке, распространяя информацию, химические соединения и экспертные знания в области клинической медицины и одновременно создавая широкую сеть лечебниц по всей Северной Америке, к которой он в надлежащее время приобщил также Менло-Парк и Кеймбридж. Но занимался ли Хаббард только тем, что распространял информацию? Или он также собирал ее и передавал ЦРУ? Был ли опылитель заодно и шпионом? Наверняка сказать это трудно; из тех, кто хорошо знал Хаббарда, одни (вроде Джеймса Фадимана) считают, что это более чем правдоподобно, тогда как другие в этом не уверены, отмечая тот факт, что Капитан Трипс часто критиковал ЦРУ за то, что оно стремятся превратить ЛСД в оружие и использовать его против людей. «Деятельность ЦРУ сильно попахивает», – заявил он однажды в конце 1970-х годов Оскару Джанигеру.
Говоря это, Хаббард имел в виду исследовательскую программу «MK-Ультра», осуществлявшуюся с 1953 года под началом ЦРУ с намерением выяснить, можно ли использовать ЛСД (например, растворяя его в водоемах противника) в качестве боевого оружия (не ведущего, однако, к массовому поражению населения), в качестве «сыворотки правды», в качестве средства управления сознанием[26] или в качестве средства для грязного трюка, который можно разыграть с лидерами недружественных нам государств, вынуждая их совершать нелепые действия и говорить несуразные глупости. Ни одна из этих схем, насколько нам известно, не была реализована, но показательно то, что все они были привязаны к исследовательской программе, основанной на психотомиметической модели, от которой к тому времени давно отказались другие исследователи. Кстати сказать, ЦРУ тайно подсовывало незначительные дозы ЛСД своим сотрудникам и несведущим гражданским лицам, проверяя на них действие препарата; так, при разборе одного нашумевшего дела, ставшего достоянием общественности лишь в 1970-х годах, ЦРУ призналось, что в 1953 году негласно подмешало дозу ЛСД в пищу Фрэнку Олсону, армейскому специалисту по биологическому оружию; несколько дней спустя Олсон, по предположению многих, выпрыгнул из окна своего номера, расположенного на 13-м этаже нью-йоркского отеля Statler, и разбился насмерть. (Были, однако, и те, кто считал, что Олсона столкнули и что признание, сделанное ЦРУ, сколь бы ни было оно шокирующим, в действительности служит прикрытием еще более гнусных преступлений.) Именно Олсона имел в виду Эл Хаббард, когда сказал: «Я пытался растолковать им, как им [препаратом] пользоваться, но даже когда они убивали людей, ты все равно ни черта не мог им втолковать».
Во время своих наездов в Лос-Анджелес Хаббард регулярно останавливался у Олдоса и Лоры Хаксли. У Хаксли и Хаббарда сложились поистине невероятные дружеские отношения после того, как в 1955 году Хаббард представил писателю новый препарат (ЛСД) и ознакомил его со своим методом. Пережитое Хаксли под влиянием ЛСД напрочь затмило откровения, вызванные мескалином. По горячим следам Хаксли писал Озмонду: «Через закрытую дверь ко мне пришло осознание… прямое, полное, явившееся, так сказать, изнутри осознание Любви как первостепенного и фундаментального космического факта». Сила этого озарения, казалось, смутила писателя своей наготой: «В этих словах, конечно же, есть доля неприличия, они должны звучать фальшиво, казаться болтовней. Но факт остается фактом».
Хаксли сразу же признал достоинства своего нового союзника, человека, искушенного в мирских делах, человека, которого он любил называть «мой славный Капитан». Как это часто случается в жизни, буквоед оказался сражен человеком действия.
«Сущие младенцы в лесу – вот каковы мы, литературные джентльмены и профессионалы! – писал Хаксли Озмонду по поводу Хаббарда. – Огромному Миру случайно потребовались ваши услуги, он слегка забавляется моими, но все свое внимание и почтение он отдает Урану и Большому Бизнесу. Какое же невероятное счастье, что представитель обеих этих Высших Сил а) оказался человеком, столь страстно интересующимся мескалином, и б) просто очень хорошим человеком».
Ни Хаксли, ни Хаббард никогда особо не увлекались медициной либо наукой и не были им преданы, поэтому не удивительно, что со временем их интересы претерпели эволюцию, сместившись от желания лечить отдельных индивидуумов, страдающих психологическими проблемами, к стремлению излечить все общество. (Кстати говоря, этим стремлением были охвачены практически все, кто работал с психоделиками, включая и ученых, причем даже таких разных по темпераменту, как Тимоти Лири и Роланд Гриффитс.) Но психологические исследования продолжаются, один эксперимент следует за другим, один ученый сменяется другим, а реальной модели по использованию препарата для изменения всего общества, как на это рассчитывали Хаббард и Хаксли, так до сих пор и не появилось, в результате чего этот научный метод начал все больше докучать им, как впоследствии и Лири, став для них своего рода смирительной рубашкой.
Сразу же после первого приема ЛСД и вызванных им видений Хаксли написал Озмонду, спрашивая, не кажется ли ему, что «всякий, кто пришел к осознанию неоспоримого факта единства всего сущего в любви, будет хотеть снова и снова возвращаться к экспериментированию на психическом уровне?.. Моя точка зрения такова, что такая возможность, как открытие двери в неведомое с помощью мескалина или ЛСД, слишком драгоценна и представляет собой слишком большую привилегию, чтобы отказываться от нее во имя экспериментирования». Или чтобы применять ее только по отношению к больным людям, добавим мы. В сущности, Озмонд с симпатией относился к этой точке зрения (в конце концов, именно он дал мескалин Хаксли, и вряд ли это можно было назвать экспериментом, тем более контролируемым), и именно он участвовал во многих сеансах Хаббарда с привлечением самых лучших умов Америки. Но при этом Озмонд не был готов бросить науку или медицину ради того, что, по мнению Хаксли и Хаббарда, лежало за ее пределами.
В 1955 году Эл Хаббард сделал попытку освободиться от научной смирительной рубашки и формализовать свою сеть психоделических исследований, учредив так называемую Комиссию по изучению творческого воображения. Само название органа отражает его желание вынести работу с психоделиками за рамки медицины и основной ее фокус сосредоточить на болезнях. В состав Комиссии, точнее – в ее правление, он включил Озмонда, Хаксли и Коэна, дополнив их пятью-шестью другими исследователями, а также философа (Джеральда Хёрда) и официального представителя ООН; себя же самого он называл «научным директором».
(Что думали эти люди о Хаббарде и его высоком титуле, не говоря уже о его фальшивых академических званиях? Они относились к нему снисходительно и одновременно восхищались им. Вот пример. Когда однажды Бетти Эйснер написала Озмонду письмо, где выразила чувство недовольства, оставшееся у нее после нескольких публичных выступлений Хаббарда, тот посоветовал ей начать относиться к нему как к Христофору Колумбу: «Исследователи не всегда были сугубо научными, превосходными или полностью независимыми людьми».)
До сих пор неясно, что именно представляла собой Комиссия по изучению творческого воображения и ради чего она была создана – для реальной оценки проводимой работы или формального прикрытия, но ее создание явно свидетельствовало об углубляющемся расколе между медицинским и духовным подходами к психоделикам. (Интересен тот факт, что Сидни Коэн, всегда сохранявший двойственную позицию в вопросах взаимоотношений науки и мистицизма, вдруг ни с того ни с сего ушел в отставку в 1957 году, через год после включения его в состав правления.) Несмотря на звание «научного директора», сам Хаббард во всеуслышание заявил в этот же период: «Мое уважение к науке как к самоцели с годами все больше и больше падает… потому как то, чего я хочу и к чему стремлюсь всем своим существом, находится далеко за пределами и вне досягаемости эмпирических манипуляций». Как видим, задолго до Лири пресловутый сдвиг в рамках объективных психоделических исследований от психотерапии к культурной революции медленно, но неумолимо назревал.
Последний узловой пункт в широко раскинувшейся психоделической сети Эла Хаббарда, который нам стоит, пожалуй, посетить, – это Кремниевая долина, где ЛСД с его потенциалом развития «творческого воображения» и изменения всей мировой культуры прошел самую тщательную на сегодняшний день проверку. Действительно, семена, посеянные Хаббардом в Кремниевой долине, продолжают приносить интересные плоды в виде неиссякаемого интереса к психоделикам как к инструменту творчества и инноваций. (Пока я пишу эти строки, практика микродозировки, то есть регулярного принятия крошечных, «неощутимо малых» доз ЛСД в качестве своего рода психического тоника, расцветает пышным цветом в техническом сообществе.) Стив Джобс часто говорил, что его эксперименты с ЛСД относятся к числу двух или трех наиболее важных событий в его жизни. Ему нравилось дразнить Билла Гейтса, делая заявления вроде этого: «Он был бы куда более масштабным парнем, если бы, когда был моложе, хоть раз подсел на кислоту или отправился в ашрам». (Гейтс не преминул на это заявить, что уж ЛСД он, во всяком случае, пробовал.) Если мы попробуем соединить приезд в Кремниевую долину Эла Хаббарда, имевшего при себе рюкзак, набитый ЛСД, с тем техническим бумом, который Стив Джобс привел в действие четверть века спустя, у нас получилась бы пусть и не совсем прямая, но все же достаточно ровная линия.
Ключевой фигурой, женившей Эла Хаббарда на Кремниевой долине, был Майрон Столярофф, талантливый инженер-электрик, который в середине 1950-х годов был помощником президента по стратегическому планированию в компании Ampex, одной из первых технологических компаний, не побоявшихся обзавестись собственным магазином в некогда сонном местечке, сплошь состоявшем из ферм и садов, раскинувшихся по всей долине. (Кремниевой ее назвали только в 1971 году.) Компания Ampex, в лучшие годы насчитывавшая свыше 13 тысяч рабочих и служащих, была пионером в области разработки и производства катушечных магнитных лент и аудиоаппаратуры: кассетных, бобинных и прочих записывающих устройств. Столярофф (он родился в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1920 году) изучал инженерное дело в Стэнфордском университете и был одним из первых служащих, принятых на работу в компанию Ampex, – обстоятельство, благодаря которому он сделался довольно состоятельным человеком. Иудей по вероисповеданию, он, однако, рано встал на путь духовных поисков, и к тридцати годам этот путь привел его к Джеральду Хёрду, английскому философу и другу Олдоса Хаксли. Столярофф настолько увлекся рассказом Хёрда о том, что ему выпало пережить под действием ЛСД (которым его, разумеется, снабдил Эл Хаббард), что в марте 1956 года он отправился в Ванкувер, чтобы провести там сеанс на квартире у Капитана.
Шестьдесят шесть микрограммов ЛСД, полученных от Хаббарда, увлекли молодого инженера в странствие, полное ужасающих видений и экстатических состояний. За те несколько часов, что оно длилось, он увидел всю историю планеты с момента ее образования, пройдя через стадии развития жизни на Земле и появления человечества до собственного рождения и родовой травмы. (Типичная траектория, по которой обычно двигались все участники сеансов под руководством Хаббарда.) «Для меня это было потрясающим открытием, – рассказал он спустя многие годы в одном из интервью, – открытием поистине колоссальным. Я вновь пережил мучительный момент своего рождения, который обусловил практически все черты и свойства моей личности. Но я также пережил и состояние своего неразрывного единства с человечеством, и даже реальность Бога. И понял, что отныне… полностью посвящу всего себя этой работе. После того опыта с ЛСД я сказал себе: „Да ведь это величайшее открытие, которое когда-либо совершал человек!“»
Столярофф поделился своими впечатлениями с небольшим числом друзей и коллег из Ampex, и вскоре они начали собираться каждый месяц на квартире у кого-нибудь из них, обсуждая в тесном кругу вопросы духовности, а заодно и возможности ЛСД, а именно: можно ли с его помощью помочь индивидуумам – здоровым индивидуумам! – полностью осознать свой потенциал. Через какое-то время к компании присоединились Дон Аллен, молодой инженер из Ampex, и Уиллис Харман, преподаватель кафедры электротехники Стэнфордского университета, в результате чего в Менло-Парк стал наезжать сам Эл Хаббард, чтобы наставлять их, помогать в их психоделических странствиях, а заодно обучить их навыкам психоделического «проводника». «Как психотерапевт, – вспоминает Столярофф, – он был одним из лучших в этой области».
Убедившись в силе ЛСД и в том, что препарат может помочь людям выйти за рамки своих ограничений, Столярофф какое-то время пытался (с помощью Хаббарда) реорганизовать компанию Ampex в надежде сделать ее первой в мире «психоделической корпорацией». В штаб-квартире компании в округе Сьерра он начал проводить цикл семинаров, на которых снабжал сотрудников дозами ЛСД. Но проект потерпел крах, когда генеральный директор компании, по национальности еврей, выступил против того, чтобы в его офисе находились картины Иисуса Христа, Девы Марии и «Тайной вечери», на чем настаивал Хаббард. Примерно в это же время Уиллис Харман решил существенно расширить рамки преподаваемого им предмета, набрав новый класс с углубленным изучением «человеческого потенциала», – затея, приведшая к полному приятию психоделиков. Шутка ли, инженеров стали снабжать религиозными откровениями! (И по-прежнему снабжают; я знаю одну технологическую компанию из Сан-Франциско, в которой используют психоделики для обучении руководящего состава. А в некоторых других учреждены так называемые «микродозовые пятницы».)
В 1961 году Столярофф уволился из Ampex и всецело посвятил себя исследованию психоделиков. Вместе с Уиллисом Харманом он основал организацию с довольно претенциозным названием: Международный фонд перспективных исследований (МФПИ), который видел своей задачей исследование потенциала ЛСД для развития личных качеств и творческих способностей человека. В качестве директора медицинской службы фонда Столярофф пригласил психиатра по имени Чарльз Сэвидж, а обязанности штатного психолога выполнял молодой аспирант по имени Джеймс Фадиман. (Фадимана, окончившего Гарвардский университет в 1960 году, «подсадил» на псилоцибин Ричард Алперт, к счастью уже после того, как он завершил свое образование. «Со мной случилось нечто грандиозное, – сказал Алперт своему бывшему студенту, – и мне хотелось бы поделиться этим с вами».) Дон Аллен тоже ушел из Ampex и влился в ряды МФПИ в качестве информационного технолога-наставника. Обзаведясь лицензией на исследования, выданной Управлением по санитарному надзору, и солидным запасом ЛСД и мескалина, доставленным Элом Хаббардом, фонд начал, пользуясь термином самого Хаббарда, «обрабатывать клиентов», причем весьма успешно, потому как за последующие шесть лет там прошли «обработку» порядка 350 человек.
По воспоминаниям Джеймса Фадимана и Дона Аллена, которыми они поделились в пространных интервью, эти годы были самым волнующим и будоражащим периодом в их жизни, потому как им выпало счастье, по их собственному убеждению, работать на приграничном крае человеческих возможностей. По большей части их подопечными были «здоровые, нормальные люди», или, если пользоваться выражением Фадимана, «невротически здоровое амбулаторное население». Каждый пациент платил 500 долларов и получал пакет, содержавший результаты персонального тестирования до и после сеанса, основной сеанс с ЛСД и, при необходимости, несколько дополнительных. Как вспоминает Дон Аллен, Эл Хаббард «опрометью носился туда и обратно», потому как был «и нашим вдохновителем, и нашим постоянным экспертом». А Джеймс Фадиман добавляет: «Он был тайной силой, стоящей за всеми исследованиями в Менло-Парке». Время от времени Хаббард брал несколько человек персонала с собой в Долину Смерти, где проводил с ними сеансы, полагая, что первобытный ландшафт этого места особенно благоприятен для всякого рода откровений.
В начале 1960-х годов сотрудники фонда опубликовали шесть работ, содержавших, по словам одного из них, ряд «провокационных результатов». 78 % клиентов заявили, что курс, который они прошли, усилил их способность любить, 71 % отметили, что их самооценка значительно повысилась, а 83 % утверждали, что в ходе сеансов они увидели мельком «высшую силу, или запредельную реальность». Последние принадлежали к числу тех, на кого сеансы оказали самое благотворное влияние, сохранявшееся в течение весьма продолжительного времени. Дон Аллен сказал, что у большинства клиентов «их убеждения, позиция и поведение претерпели заметные и достаточно устойчивые изменения на порядок выше статистической вероятности». Особенно это проявилось в том, что они стали «гораздо менее предосудительными, гораздо менее жесткими, более открытыми, общительными и менее замкнутыми». Но далеко не все было так хорошо и гладко: некоторые клиенты после сеанса подали на развод и разорвали свои брачные узы, посчитав, что вторая половина им не пара и что они оказались втянутыми в ловушку их деструктивных поведенческих шаблонов.
МФПИ провел также ряд исследований, направленных на то, чтобы выяснить, действительно ли ЛСД может благотворно воздействовать на творчество человека и усилить его способность к решению проблем. «Для нас этот факт не был совершенно очевиден, – высказался по этому поводу Джеймс Фадиман, – поскольку сила внутреннего переживания такова, что ты порой сбиваешься с пути и теряешь то, что стремился обрести». Чтобы проверить свою гипотезу, Фадиман с коллегами начали с самих себя, потому как им было важно понять, нельзя ли провести вполне надежный творческий эксперимент на основе относительно малой дозы ЛСД – всего 100 микрограммов. И пришли к твердому решению, что такое возможно, что, видимо, не было случайностью.
Работая с группами из четырех человек, Джеймс Фадиман и Уиллис Харман назначали одинаковые дозы ЛСД артистам, инженерам, архитекторам и ученым, то есть всем тем, кто так или иначе «был зациклен» на своей работе или на конкретном проекте. «Мы использовали все разновидности установок и обстановок, какие только нашли в книгах», – вспоминает Фадиман, а о самих субъектах он говорит, что «они были прямо-таки очарованы своими интеллектуальными способностями и умением решать проблемы так, как им никогда не удавалось раньше». Сами клиенты отмечают у себя существенно более высокую гибкость мышления, так же как и гораздо более высокую способность к визуализации и реконтекстуализации проблем. «Мы были поражены, как, впрочем, и сами участники, тем количеством новых и эффективных решений, которые возникли во время наших сеансов», – пишет Фадиман. Среди участников были несколько визионеров, включая Уильяма Инглиша и Дуга Энгельбарта[27], людей, которые в последующие годы произведут переворот в области компьютерной техники. Несмотря на то что эти исследования были «недостоверными» с научной точки зрения и «пестрели» всевозможными проблемами – были неконтролируемыми, опирались на оценку успеха или неуспеха, даваемую самими клиентами, и часто прерывались на полпути, не будучи доведенными до завершения, – несмотря на это, они, по меньшей мере, указывали направление и перспективные пути для дальнейшего движения вперед.
Фонд закрыл свою лавочку в 1966 году, но работа Хаббарда в Кремниевой долине на этом не завершилась. Он, правда, вышел в отставку, если можно так сказать, но лишь частично и в 1968 году вновь был востребован Уиллисом Харманом – эпизод, до сих пор остающийся одним из самых таинственных в его карьере. Что касается Хармана, то после закрытия МФПИ он перешел на работу в Стэнфордский научно-исследовательский институт (СНИИ), престижный мозговой центр под эгидой Стэнфордского университета, выполнявший заказы федерального правительства, причем сразу для нескольких отраслей, включая и оборонную. Харман был назначен руководителем Центра стратегических исследований в области образовательной политики (филиала СНИИ) с полномочиями, дававшими ему право на разработку будущей образовательной политики. Хотя на тот момент ЛСД был уже под запретом, он по-прежнему был в ходу и активно потреблялся сообществом инженеров и академиков как в Стэнфорде, так и вокруг него.
Хаббард, находившийся к этому времени не у дел, был принят туда по совместительству на должность «специального агента по расследованию», несомненно для того, чтобы следить за распространением наркотиков в студенческой среде, особенно в социальных движениях. Письмо Хармана, в котором тот приглашал Хаббарда на работу, одновременно полно недомолвок, эвфемизмов и наводит на размышления: «Изучение современных социальных движений, влияющих на процесс образования, показывает, что распространение и активное потребление наркотиков среди студентов, членов „Новых левых“, далеко не случайно. Некоторые из них [наркотиков], по-видимому, сознательно используются как оружие, нацеленное на смену политического режима. Мы обеспокоены оценкой значимости этого положения, так как оно влияет на состояние дел в сфере долгосрочной образовательной политики. В этой связи для нас было бы большим преимуществом заручиться вашим согласием на то, чтобы занять у нас должность специального агента по расследованию, который имел бы доступ к соответствующим данным, не доступным в обычном порядке». Хотя об этом и не упоминается в письме, но в обязанности Хаббарда как сотрудника СНИИ входили также услуги по продлению ныне существующих контрактов и добыванию новых с помощью тех обширных связей в правительственных кругах, которые у него имелись. Таким образом, Эл Хаббард еще раз облачился в «шерифскую» форму цвета хаки, дополнив свою экипировку золотым значком, портупеей, поясом, а также набитым пулями патронташем, и приступил к работе.
Но и униформа, и звание специального агента были лишь прикрытием, причем весьма умелым.
Вполне возможно, что Хаббард, как явный враг контркультуры, в то время все больше и больше набиравшей обороты, свою слежку за нелегальными препаратами, перешедшими в разряд наркотиков, вел даже в кампусе СНИИ (или других организациях[28]), но даже если это так, то он и в этом случае опять работал на две стороны. Ибо, хотя легальный статус ЛСД к 1968 году изменился, миссия Хаббарда и Хармана, состоявшая в том, чтобы «приобщить к опыту [ЛСД] политических руководителей и интеллектуальных вождей по всему миру», несомненно, осталась прежней. Работу следовало продолжать, но еще более тихо, незаметно и обязательно под прикрытием правдивой легенды. Как сказал Уиллис Харман в интервью, которое уже известный нам Тодд Брендан Фахи взял у него в 1990 году (его слова впоследствии подтвердил бывший сотрудник СНИИ), «Эл никогда не делал ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало работу по безопасности. Его работа заключалась в том, чтобы устраивать для нас специальные сеансы».
Бывший сотрудник СНИИ, о котором упоминалось выше, – это инженер Питер Шварц, ведущий футуролог; в настоящее время он старший вице-президент отдела правительственных связей и стратегического планирования в интернет-холдинге Salesforce.com. У Хармана в СНИИ Шварц начал работать в 1973 году; это была его первая работа после окончания аспирантуры. К тому времени Эл Хаббард уже практически вышел в отставку, и Шварц занял его офис. Там на стене над столом висела большая фотография Ричарда Никсона с надписью: «Элу, моему другу, на добрую память за годы твоей службы. Твой друг Дик». А в ящиках стола лежала корреспонденция, скопившаяся за эти годы, включая и письма из всех уголков мира, адресованные A. M. Хаббарду, в том числе и одно письмо от Джорджа Буша, будущего директора ЦРУ, который в то время был главой Национального комитета республиканской партии.
«Хаббард? – удивился Шварц. – Не знаю такого. Что за парень?» И однажды этот «парень», одетый в форму охранника плотный мужчина, с короткой стрижкой и с револьвером 38-го калибра на поясе, появился в офисе, чтобы забрать свою корреспонденцию. «Я друг Уиллиса», – сказал он Шварцу.
«После этого он начал задавать мне странные вопросы, причем совершенно вне контекста: „Как по-вашему, откуда вы действительно происходите? Что думаете о космосе?“ – и так далее. Позже я узнал, что именно так он проверял людей, стараясь понять, годятся они или не годятся в кандидаты».
Заинтригованный Шварц спросил Хармана, кто этот загадочный человек, и понемногу, эпизод за эпизодом, начал собирать из его рассказов историю жизни Хаббарда. Вскоре юный футуролог понял, что «большинство людей с интереснейшими идеями, с которыми мне довелось встретиться: профессора из Стэнфорда, Беркли, сотрудники СНИИ, компьютерные инженеры, ученые и писатели – все они совершали психоделические трипы вместе с Хаббардом и под его руководством. И все они под влиянием увиденного и пережитого преобразились».
Шварц сказал, что несколько компьютерных инженеров при разработке кристалла интегральной схемы активно принимали ЛСД, особенно в те годы, когда о разработке на компьютерах приходилось только мечтать. «А ведь для этого нужно уметь не только визуализировать безумно сложную структуру в трех измерениях, но и держать все это в голове. Они считали, что ЛСД им сильно помог». В конце концов до Шварца дошло, что «вся коммуна (он имел в виду всю технократическую тусовку из района бухты 1960-х и начала 1970-х годов, так же как и народ из «Сети всей Земли» Стюарта Брэнда) принимала взятый у Хаббарда ЛСД».
Ладно бы люди искусства, но инженеры… Почему же психоделики так пленили и их? Шварц, сам по образованию аэрокосмический инженер, считает, что это связано с тем обстоятельством, что в отличие от работы ученых, способных упрощать проблемы, над которыми они работают, «решение задач в инженерном деле всегда сопряжено с непреодолимой сложностью. Переменные там такие сложные, что их трудно привести в равновесие, они вечно колеблются, так что идеального состояния не достичь. Поэтому отчаянно пытаешься найти закономерности. А ЛСД как раз их и высвечивает. Я нисколько не сомневаюсь, что именно хаббардовский ЛСД, который мы все принимали, в основном и вызвал к жизни Кремниевую долину».
Стюарт Брэнд прошел крещение хаббардовским ЛСД в 1962 году, еще будучи студентом Института пищевой и сельскохозяйственной промышленности, и его «проводником» был сам Джеймс Фадиман. Его первое приобщение к ЛСД вылилось, вспоминает он, в «некую жуть: я чуть было богу душу не отдал», но, к счастью, за этим последовали другие трипы, которые в корне изменили его, а опосредованным образом и наши представления о мире. Впоследствии он создал свою «Сеть всей Земли» (куда вошли Питер Шварц, Эстер Дайсон, Кевин Келли, Говард Рейнгольд и Джон Пери Барлоу) и сыграл ключевую роль в переосмыслении смысла и функций компьютера, добившись того, что из инструмента военно-промышленного комплекса (где наглядным символом сотрудника, ориентированного на корпоративную систему ценностей, служила компьютерная перфокарта) он превратился в инструмент личного освобождения и причастия к виртуальному сообществу с ясно прослеживаемыми нонкомформистскими вибрациями. В какой степени идея киберпространства, имматериального царства, где человек создает себе новую индивидуальность и вливается в сообщество таких же виртуальных индивидуальностей, как он, – в какой степени она обязана своим возникновением воображению, сформированному психоделиками? Или, если уж на то пошло, в какой степени обязана им виртуальная реальность?[29] Возможно, что и сама идея кибернетики, идея, что материальная реальность может быть преобразована в биты информации, тоже обязана своим появлением опытам с ЛСД и связана с его способностью превращать материю в дух.
Брэнд считает, что ЛСД – это своеобразный подстрекатель творчества и в этом ценность препарата для его организации. Ведь именно он, по мнению писателя, помог донести до человека всю силу и мощь сетевых компьютеров (через компьютерных визионеров СНИИ, таких как Дуг Энгельбарт и первые хакерские сообщества), но затем был вытеснен самими компьютерами. («Со временем наркотики не становятся лучше, – сказал Брэнд, – а компьютеры становятся».) После своего приобщения к ЛСД в институте он примкнул к Кену Кизи и стал участников его знаменитых «кислотных тестов», которые он определяет как «объединенную форму искусства, приведшую непосредственно к „Горящему человеку“», ежегодному фестивалю искусств, техники и психоделических сообществ, проходящему в пустыне Блэк-Рок в Неваде. На его взгляд, ЛСД является главным ингредиентом, подпитывающим дух совместного творчества и выход за пределы возможного – факторы, характеризующие компьютерную культуру западного побережья США. «В конце концов мы добились своего: нам разрешили опробовать это странное дерьмо вместе с другими людьми».
Временами ЛСД вызывал подлинные озарения, как это случилось, например, с самим Брэндом. Однажды прохладным весенним вечером 1966 года, не зная, что делать от скуки, он забрался на крышу своего дома в Норт-Бич и принял на душу сто микрограммов «кислоты» – «творческую дозу» Фадимана. Завернувшись в одеяло, он смотрел на открывшуюся панораму, как вдруг ему показалось, что улицы с рядами домов по обе стороны тянутся не совсем параллельно друг другу. Должно быть, это вызвано кривизной Земли, подумал Брэнд. Ведь когда мы привычно думаем, что Земля плоская, то допускаем, что она бесконечна, и соответствующим образом используем ее ресурсы, считая их тоже бесконечными. «Наше отношение к бесконечности состоит в том, чтобы использовать ее для собственной выгоды, – подумал он, – а ведь круглая Земля не что иное, как ограниченный в своих размерах космический корабль, которым нужно управлять с особой осторожностью». По меньшей мере так ему казалось тем весенним вечером «с высоты четырех этажей и ста микрограммов».
Если бы только донести эту мысль до людей, то мир кардинально изменился бы! Но как ее донести? И тут его озарило: космическая программа! «Мы никогда не видели изображение Земли из космоса, – подумал он. – А почему? Эта мысль буквально завладела мной – как получить такое фото, ведь это произвело бы революцию в понимании нашего места во Вселенной. Знаю: я пущу в ход все свои связи! Но что я могу им сказать? „Давайте сделаем снимок Земли из космоса“? Нет, это должно быть подано в виде вопроса, причем немного параноидного – в расчете на этот американский ресурс. Примерно так: „Почему мы до сих пор не видели фотографию всей Земли?“»
Брэнд спустился с крыши и развернул кампанию, волны которой в конечном счете достигли залов конгресса и НАСА. Кто знает, возможно, это явилось прямым результатом развернутой Брэндом кампании, но два года спустя, в 1968 году, астронавты с «Аполлона», высадившиеся на Луну, развернули свои камеры и сделали первой снимок Земли, и в этом же году Стюарт Брэнд выпустил первое издание своего «Каталога всей Земли». Изменило ли это мир? Думаю, что да. Во сяком случае, я мог бы привести веские доводы в пользу того, что мир изменился.
Часть II
Крах
Тимоти Лири пришел к психоделикам сравнительно поздно. К тому времени, когда он в 1960 году начал в Гарварде свой псилоцибиновый проект, в Северной Америке минуло десятилетие с тех пор, как здесь занялись исследованием психоделиков и по этому вопросу было уже опубликовано около сотни научных работ и проведено несколько международных научных конференций. Сам Лири редко упоминал о проделанном за эти годы объеме работы, предпочитая создавать впечатление, что его собственные исследования открывают радикально новую главу в анналах психологии. В 1960 году будущее подобных исследований выглядело блестяще. Но за каких-то пять лет политическая и культурная атмосфера полностью изменилась, Америку охватила моральная паника по поводу ЛСД, и практически все исследования в этом направлении были либо прекращены, либо велись подпольно. Что же случилось?
Тимоти Лири – вот наиболее краткий и ясный ответ на этот вопрос. Почти каждый, кого я опрашивал по данному предмету (а таких людей десятки), прежде чем пуститься в более подробные объяснения, обычно предварял свой ответ словами: «Проще простого винить во всем Лири». Поневоле напрашивается вывод, что обаятельный и неотразимый профессор психологии с ярко выраженной склонностью купаться в солнечных лучах общественного внимания и славы, доброй или худой, нанес серьезный ущерб делу. Собственно, так оно и есть. При этом социальные силы, выпущенные на свободу наркотиками после того, как из лабораторных стен они выплеснулись на улицу и просочились в культуру, оказались не по зубам индивидуумам, потому как были больше и сильнее того, что они в состоянии были вынести или за что могли нести ответственность. Со всеми его беззаботными, радостными и широко разрекламированными «выкрутасами», которыми так отличался Тимоти Лири, или даже без оных, но дионисийская сила ЛСД сама по себе должна была всех хорошенько встряхнуть и спровоцировать реакцию.
К тому времени, когда Лири был приглашен в Гарвард (это случилось в 1959 году), он снискал себе национальную репутацию талантливого исследователя человеческой личности, но уже тогда – еще до своего первого сокрушительного знакомства с псилоцибином в Куэрнаваке летом 1960 года – им владело тайное разочарование относительно избранной им сферы деятельности. За несколько лет до этого, работая директором отдела психиатрических исследований в Кайзеровской больнице в Окленде, Лири вместе с одним из коллег провел очень умный эксперимент по оценке эффективности психотерапии. Всех пациентов, нуждавшихся в психиатрической помощи, разделили на две группы: одну лечили стандартными методами, применявшимися в то время, а другую (состоявшую из людей. стоявших в списке ожидания) не лечили вовсе. Через год одна треть всех пациентов почувствовала себя значительно лучше, у другой трети самочувствие ухудшилось, а у третьей положение дел осталось без изменений – независимо от того, к какой группе они принадлежали. Лечили пациента или не лечили, это никак не влияло на конечный результат. Так какой же прок от традиционной психотерапии или от психологии? – начал спрашивать себя Лири.
Лири быстро завоевал на факультете социально-правовых отношений Гарвардского университета репутацию динамичного и харизматичного, если не циничного, преподавателя. Профессор, обладавший красивой внешностью, был отличный оратор, выражавшийся в несколько экспансивной ирландской манере, и мог очаровать любого человека, особенно женщин, которые души в нем не чаяли. Лири всегда отличался несколько плутовской, мятежной жилкой (он был отдан под трибунал во время своего пребывании в Вест-Пойнте за нарушение кодекса чести и был отчислен из Университета Алабамы за то, что провел ночь в женском общежитии), и Гарвард как учреждение пробудил в нем бунтарское чувство. Лири цинично называл исследования психоделиков «игрой». Герберт Келман, его коллега по факультету, впоследствии ставший его главным оппонентом и противником, отзывается о новом профессоре как о весьма «представительном» человеке (Келман помог ему найти и снять себе жилье) и тут же добавляет: «У меня с самого начала были на его счет дурные предчувствия. Он был большой любитель поговорить и часто самоуверенно вещал о вещах, типа экзистенциализма, о которых не имел ни малейшего представления, а своим студентам говорил, что психология – всего лишь игра. Мне подобные заявления казались несколько бесцеремонными и безответственными».