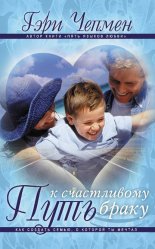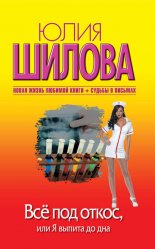Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности Поллан Майкл

Но первоначальные данные о кровотоке были затем подтверждены повторными измерениями, отражающими изменения в доставке кислорода к точечным зонам в процессе повышенной мозговой деятельности. Таким образом, Кархарт-Харрис с коллегами обнаружил, что псилоцибин снижает активность мозга, причем это снижение приходится на одну конкретную сетевую область, о которой в то время он знал очень мало, – сеть пассивного режима работы мозга.
Кархарт-Харрис засел за изучение этой области. Сеть пассивного режима работы мозга (СППРМ) стала известна ученым только в 2001 году. Именно в этом году Маркус Райхл, невролог из Медицинского колледжа при Университете имени Вашингтона в Сент-Луисе, описал ее в своей знаковой статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Эта сеть являет собой очень важное централизованное ядро мозговой деятельности, которое соединяет части коры головного мозга с более глубоко расположенными (и более древними) структурами, отвечающими за память и эмоции[46].
Сеть пассивного режима работы мозга относится к научным курьезам, потому как была открыта чисто случайно; это, так сказать, удачный побочный продукт сканирующих техник, используемых при исследовании мозга[47]. Типичный эксперимент с использованием фМРТ начинается с выявления «состояния покоя», то есть базового уровня нервной деятельности; участник эксперимента в это время спокойно лежит в сканирующем устройстве, ожидая, какой из тестов, имеющихся в арсенале исследователя, тот выберет. Райхл обратил внимание на одну странность: он заметил, что некоторые зоны мозга выказывают повышенную возбудимость как раз тогда, когда у субъектов, или подопытных, мыслительная деятельность на нуле. Это и был тот самый пресловутый «пассивный режим», та сеть структур мозга, которая выказывает активность в тот момент, когда наше внимание ничем не занято и мы не выполняем никакой мысленной работы. Иными словами, Райхл открыл то «место», в котором наш ум начинает «блуждать» – мечтать, раздумывать, путешествовать во времени, размышлять о себе и беспокоиться. Вероятно, именно через эти самые структуры и течет поток нашего сознания.
Сеть пассивного режима находится в своего рода возвратно-поступательных отношениях с сетями, отвечающими за внимание; последние пробуждаются сразу же, как только внешний мир привлекает к себе наше внимание; другими словами, когда первые активны, вторые отдыхают, и наоборот. При этом, однако (и об этом вам скажет каждый), в мозгу много чего происходит даже тогда, когда вокруг нас не происходит ровным счетом ничего. (В сущности говоря, СППРМ потребляет непропорционально большую часть энергии мозга.) Работая «на отшибе», то есть удаленно от нашей системы чувствительной обработки сигналов внешнего мира, сеть пассивного режима становится наиболее активной именно тогда, когда мы вовлекаемся в «метакогнитивные» процессы более высокого порядка, такие, как саморефлексия, мысленные путешествия во времени, умственные построения (вроде «я» или эго), моральные рассуждения и «теория разума» – способность приписывать свои психические состояния другим людям, как это бывает в случае, когда мы пытаемся представить себе, «каково это – быть другим». Вполне возможно, что все эти функции присущи только людям, причем именно взрослым людям, потому каксеть пассивного режима начинает работать только на поздних стадиях развития ребенка.
– Мозг – система иерархическая, – сказал в ходе одной из наших бесед Кархарт-Харрис. – Его высшие отделы – (имеются в виду отделы, развившиеся на последних стадиях эволюции; они обычно расположены в коре головного мозга) – оказывают тормозящее влияние на низшие [более древние] отделы, вроде отделов эмоций и памяти.
Говоря в целом, сеть пассивного режима оказывает нисходящее влияние на другие отделы мозга, многие из которых взаимодействуют друг с другом через расположенный в самой середине мозга распределительный центр. Характеризуя СППРМ, Кархарт-Харрис давал ему различные определения, то называя его «дирижером мозгового оркестра» и «руководителем мозговой корпорации», то «столичным городом», ведающим всей системой управления и «не дающим ей распасться». И заодно удерживающим в повиновении буйные проявления мозга.
Мозг состоит из нескольких различных специализированных систем – одна отвечает за обработку зрительных данных, например, а другая за контроль двигательной активностью, – и каждая выполняет отведенную только ей функцию. «Хаос предотвращается за счет того, что не все системы созданы равными, – пишет Маркус Райхл. – Электрические сигналы, поступающие из одних областей мозга, обладают приоритетом над другими. Верхнюю ступень этой иерархии занимает СППРМ, которая действует как сверхпроводник, следя за тем, чтобы какофония соперничающих сигналов из одной системы не смешивалась с сигналами из другой системы». Сеть пассивного режима поддерживает порядок в системе настолько сложной, что, не делай она этого, та могла бы погрузиться в пучину анархии психических заболеваний.
Как говорилось выше, сеть пассивного режима играет важную роль в создании умственных построений или проекций, самой значимой из которых является та «конструкция», которую мы называем «я», или эго[48]. Именно поэтому некоторые нейрофизиологи называют ее «„я“-сетью». Если исследователь, например, вручает вам перечень прилагательных и просит определить, какие из них наиболее соответствуют вашему характеру, то именно в этот момент приходит в действие сеть пассивного режима работы мозга. (Она же возбуждается и тогда, когда мы получаем «лайки» под своими постами в социальных сетях.) Считается, что узлы в сети пассивного режима отвечают за автобиографическую память, на материале которой мы сочиняем историю о самих себе, увязывая опыт прошлого с тем, что происходит с нами прямо сейчас, и проецируя на него наши будущие цели.
Обретение стадии индивидуального «я», имеющего свое уникальное прошлое и свою траекторию, устремленную в будущее, – одно из величайших достижений человеческой эволюции, не лишенное, однако, недостатков и потенциальных нарушений. Чувство индивидуальной неповторимости обретается ценой ощущения разъединенности от других существ и самой природы. Саморефлексия может привести к великим достижениям в области интеллектуального и художественного творчества, но также и к деструктивным формам оценки себя и множественным несчастьям. (В часто цитируемой статье «Рыскающий ум – ум несчастный» психологам удалось установить прочную взаимосвязь между несчастьем и временем, проведенным в мысленных блужданиях, каковые являются главной деятельностью сети пассивного режима.) Но, равно приемля и хорошее и плохое, большинство из нас воспринимает это «я» как некую непоколебимую данность, столь же реальную, как и все, что нам известно, и более того – как основу нашей жизни в качестве разумных человеческих существ. По крайней мере, именно так я воспринимал его до тех пор, пока мои психоделические странствия не заставили меня призадуматься над этим вопросом.
Вероятно, самое поразительное открытие, к которому пришел Кархарт-Харрис в ходе первого эксперимента, заключается в том, что самые резкие падения в деятельности сети пассивного режима напрямую связаны с субъективным «растворением эго», испытываемым участниками эксперимента. («Я существовал лишь как идея или концепция, – поделился своими впечатлениями один из них. А другой вспоминал: «Я не знал, где заканчиваюсь я сам и где начинается мое окружение».) Чем резче в сети пассивного режима падают кровоток и потребление кислорода, тем больше вероятность того, что участник сообщит о потере чувства своего «я»[49].
Вскоре после того, как Кархарт-Харрис изложил результаты своих исследований в статье «Нейронные взаимосвязи психоделического состояния, вызванного псилоцибином, как они выявлены путем исследований с использованием техники фМРТ»[50], опубликованной в 2012 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Джадсон Брюер, исследователь из Йельского университета[51], использовавший фМРТ при изучении деятельности мозга у людей, многие годы занимавшихся медитацией, заметил, что результаты сканирования у него и Робина удивительным образом совпадают. Трансцендентность «я», о которой сообщают мастера медитации, отображалась функциональными магниторезонансными томографами как снижение активности сети пассивного режима. Оказывается, когда активность пассивной сети стремительно падает, эго временно растворяется, а все осознаваемые нами связи между «я» и миром, между субъектом и объектом исчезают.
Это чувство растворения индивидуального «я» и его слияния с чем-то гораздо большим, всеобщим является одним их верных показателей мистического опыта; из этого следует, что наше чувство индивидуальности и обособленности зиждется лишь на ограниченном «я» и четком разграничении между субъектом и объектом. Однако все это, возможно, не более чем умственное или мысленное построение, некая иллюзия – что и пытаются вот уже сколько столетий донести до нас буддисты. Психоделическое состояние «недвойственности» предполагает, что сознание не исчезает вместе с исчезновением «я», что это «я» не так уж непреложно и незаменимо, как мы (и оно) привыкли считать. Потерей четкого разграничения между субъектом и объектом, как считает Кархарт-Харрис, можно было бы объяснить и другое характерное свойство мистического опыта, а именно тот факт, что откровения, к которым он ведет, воспринимаются как объективно истинные – как явленные истины, а не просто как тривиальные озарения. Возможно, для того чтобы оценить озарение как явление чисто субъективное, как мнение одного человека, необходимо вначале выработать в себе чувство субъективности – именно то, что мистик под влиянием психоделиков теряет.
Возможно, именно мистический опыт снисходит на вас в тот момент, когда вы отключаете сеть пассивного режима работы мозга. А достичь этого можно самыми разными способами: с помощью психоделиков и медитации, как доказали нам Кархарт-Харрис и Джадсон Брюер, а также, вероятно, посредством определенных дыхательных упражнений (типа голотропного дыхания), сенсорной депривации, голодания, молитвы, экстатического чувства благоговения, экстремальных видов спорта, околосмертных переживаний и так далее. Интересно, что же выявит сканирование мозга в процессе всех этих видов деятельности? Об этом мы можем только гадать, хотя вполне возможно, что мы увидим то же успокоение или падение активности в сети пассивного режима, которое обнаружили Брюер и Кархарт-Харрис. Вероятно, это успокоение можно вызвать или ограничением притока крови к сети, или стимуляцией рецепторов серотонина типа 2A в коре головного мозга, или каким-то иным нарушением ритмов колебаний, обычно свойственных организации мозга. Но за счет чего бы это ни произошло, перевод пассивной сети в автономный режим может открыть нам доступ к необычным состояниям сознания – к мгновениям единения или экстаза, которые не менее чудесны оттого, что они вызваны физической причиной.
Если предположить, что сеть пассивного режима работы мозга – это своеобразный дирижер оркестра, дирижирующий исполнением симфонии, создаваемой деятельностью мозга, то нетрудно представить, что даже временный его уход со сцены неизбежно повлечет за собой усиление диссонанса и приведет к психическому расстройству, как это, по-видимому, и происходит во время психоделического трипа. В серии последовательных экспериментов с использованием различных техник сканирования мозга, проведенной Кархарт-Харрисом и его коллегами, они поставили себе целью изучить, что происходит в нейронном оркестре и что происходит с самим оркестром, когда дирижер, то есть сеть пассивного режима, опускает дирижерскую палочку.
В общем и целом сеть пассивного режима оказывает тормозящее воздействие на другие части мозга (включая, в частности, лимбические области, отвечающие за эмоции и память), действуя во многом так же, как, по представлению Фрейда, действует эго, удерживающее под своим контролем анархические силы бессознательного. (Дэвид Натт излагает суть дела еще более прямолинейно, заявляя, что в сети пассивного режима «мы обнаружили нейронный коррелят для подавления».) По меткому выражению Кархарт-Харриса, эти и другие центры психической деятельности «оказываются спущены с поводка» в тот момент, когда дирижер (сеть пассивного режима) уходит со сцены; но, как показывают результаты сканирования, под влиянием психоделиков наблюдается усиление деятельности (отражаемое усилением кровотока и потребления кислорода) в некоторых других областях мозга, включая и лимбические. Возможно, именно этим растормаживанием объясняется тот факт, почему материал, недоступный нам в состоянии обычного бодрствующего сознания, теперь выходит на поверхность осознания, включая эмоции, воспоминания, а иногда и долго подавляемые психические травмы, полученные еще в детстве. Именно поэтому некоторые ученые и психотерапевты убеждены, что психоделики можно с пользой использовать для того, чтобы вытаскивать на поверхность содержимое подсознания с целью его более тщательного исследования.
Но сеть пассивного режима работы мозга не только осуществляет нисходящий контроль за материалом, извлекаемым извне, из подсознания, но и помогает регулировать стимулы, входящие в сознание из внешнего мира. Она действует наподобие фильтра (или «редукционного клапана»), пропускающего вовне лишь тот «жалкий ручеек» информации, который необходим для того, чтобы справляться с заботами повседневной жизни. Если бы не эти фильтрующие механизмы мозга, то процесс обработки потока информации, которую наши органы чувств поставляют мозгу в любой данный момент времени, мог бы оказаться неимоверно трудным, как это подчас и происходит во время психоделических откровений. «Вопрос вот в чем, – резюмирует Дэвид Натт в присущей ему сжатой манере: – почему мозг обычно слишком ограничен, а не открыт?» Вероятно, ответ на этот простой вопрос может показаться не менее простым: «В целях эффективности». Сегодня большинство нейрофизиологов работают исходя из той парадигмы, что мозг – это машина для составления прогнозов. Чтобы сформировать представление о чем-то, находящемся во внешнем мире, мозг берет очень малую долю чувственной информации, ровно столько, сколько ему требуется, чтобы сделать обоснованное предположение. Мы вечно пытаемся взять быка за рога, то есть делать умозаключения и выводы с целью насытить информацией текущее восприятие, полагаясь лишь на предшествующий опыт.
Эксперимент с маской лица, который я пытался выполнить во время псилоцибинового трипа, служит яркой демонстрацией этого феномена. Мозг, «натасканный», подобно ищейке, несколькими визуальными подсказками, говорящими ему, что он имеет дело с поверхностью лица, продолжает настаивать на том (по крайней мере, когда он работает нормально), что он видит ту же выпуклую структуру, даже тогда, когда ее нет, поскольку подсознательно внушает себе, что лица выглядят именно так, а не иначе.
Философские контексты «прогнозирующего кодирования» неизмеримо глубоки и необычны. Эта модель предполагает, что наше восприятие мира представляет собой не буквальную транскрипцию реальности, а скорее бесшовную иллюзию, сотканную из данных, поставляемых нашими органами чувств, и шаблонов, хранимых нашей памятью. Обычное бодрствующее сознание представляется совершенно прозрачным, и все же это не столько окно в реальность, сколько плод нашего воображения – своего рода контролируемая галлюцинация. Здесь возникает вполне естественный вопрос: чем же в таком случае отличается обычное бодрствующее сознание от других, казалось бы менее достоверных, продуктов нашего воображения, таких, как сновидения, или психопатические расстройства, или психоделические трипы? В сущности, все эти состояния сознания «воображаемые»: они суть умственные построения, нанизывающие на одну нить различные вести из внешнего мира с вестями предыдущими и сшивающие их воедино. Но в состоянии обычного бодрствующего сознания рукопожатие между данными, поставляемыми нашими органами чувств и нашим восприятием, выглядит особенно крепким именно потому, что оно подвержено постоянному процессу проверки реальности, как это происходит в случае, когда вы вытягиваете руку, чтобы дотронуться до предмета, находящегося в поле вашего зрения, дабы тем самым убедиться в его существовании, или когда, пробудившись от ночного кошмара, обращаетесь к своей памяти, чтобы понять, действительно ли в вашей практике было такое, что вы вошли в класс, чтобы вести урок, полностью раздетым. В отличие от этих (других) состояний сознания, обычное бодрствующее сознание было оптимизировано естественным отбором с целью наилучшим образом способствовать выживанию в повседневной жизни.
Однако то чувство прозрачности, с которым у нас ассоциируется будничное сознание, в большей степени обязано своим существованием рутине, шаблонам и привычкам, нежели правдоподобию. Один мой знакомый психонавт выразил это следующим образом: «Если бы у нас была возможность временно влезть в шкуру другого человека и почувствовать его психическое состояние, оно, как мне кажется, больше напоминало бы психоделическое, нежели нормальное, в силу его чудовищного несоответствия любому привычному для нас психическому состоянию».
Есть еще один хитроумный мысленный эксперимент; он заключается в том, чтобы попытаться представить мир таким, каким он кажется существу, наделенному совершенно другим чувственным аппаратом и ведущим совершенно отличный от нашего образ жизни. Вы быстро поймете, что нет такой единичной реальности, которую можно было бы точно и всесторонне расшифровать. Развитие наших собственных органов чувств шло другими путями и преследовало куда более узкую цель, они предназначены воспринимать лишь то, что служит непосредственно нашим потребностям и нам самим как животным особого вида. Пчела, например, воспринимает принципиально иной световой спектр, нежели мы; смотреть на мир ее глазами значит уметь воспринимать ультрафиолетовые полосы на лепестках цветов (наработанные в процессе эволюции метки, указывающие, подобно огням взлетно-посадочной полосы, места посадки), которые для нас просто не существуют. Это пример особого рода видения, рождаемого чувством зрения – чувством, которое мы разделяем с пчелами. Но в состоянии ли мы вообще постичь чувство, позволяющее пчелам регистрировать (посредством волосков на лапках) электромагнитные поля, создаваемые растениями? (Слабый заряд на лепестках указывает на то, что здесь уже побывала другая пчела, собрала весь нектар, так что, вероятно, не стоит в этом месте останавливаться.) Но ведь существует еще и мир с точки зрения осьминогов! Представьте только, сколь кардинально иной предстает реальность этим головоногим, чей мозг децентрализован, а умом обладает каждое из восьми щупалец, так что каждое из них наделено чувством вкуса и осязания и даже может принимать собственные «решения», не советуясь с генштабом.
Что случится, если под влиянием психоделиков это обычно крепкое рукопожатие между мозгом и миром вдруг разомкнется? Оказывается, ничего. Я спросил Кархарт-Харриса, что именно предпочитает работающий в автономном режиме мозг: нисходящие прогнозы и предсказания или восходящие чувственные данные.
– Это же классическая дилемма, – отреагировал он, – к чему склонится ничем не связанный ум и что он предпочтет: или свои уже наработанные шаблоны и предпочтения, или свидетельства своих органов чувств. Со стороны прошлых установок действительно часто наблюдается избыточная импульсивность или чрезмерное рвение, как будто видишь лица в облаках.
Стремясь быстро осмыслить входящие данные, мозг склоняется к ошибочным выводам, а иногда и прямо к галлюцинаторным результатам. (Параноик делает примерно то же самое, яростно накладывая ложную трактовку событий на поток поступающей информации.) Но в других случаях редукционный клапан открывается достаточно широко, пропуская множество дополнительной информации, зачастую неотредактированной, но желанной.
Люди, не различающие цветов, утверждают, что, приняв психоделики, способны распознать определенные цвета, и сейчас ведутся исследования с целью доказать, что люди под влиянием тех же препаратов слышат и воспринимают музыку тоже совсем иначе. Они более остро воспринимают тембр, или окраску, – то музыкальное измерение, которое передает эмоции. Когда я во время псилоцибинового трипа слушал сюиту для виолончели Баха, я был уверен, что слышу то, о чем раньше и помыслить не мог, отмечая оттенки, нюансы и тона, которые никогда не слышал до этого и с тех пор тоже больше не слышу.
Кархарт-Харрис считает, что психоделики делают рукопожатие между мозгом и восприятием мира менее крепким, прочным и более ненадежным. Автономный мозг может «рыскать туда-сюда» между стремлением накладывать на входящую информацию свои наработанные шаблоны и желанием принимать ее в сыром виде, так, как ее поставляют органы чувств. Однако, полагает ученый, во время психоделических откровений бывают моменты, когда наша обычная уверенность в нисходящих сверху концепциях реальности вдруг нам изменяет, и тогда к нам через фильтр сети пассивного режима поступает снизу дополнительная информация. Но, когда вся эта чувственная информация грозит затопить наше сознание, ум быстро изыскивает или создает новые концепции (безумные или блестящие, это в данном случае к делу не относится), чтобы только осмыслить ее – «и вы тогда может увидеть возникающие в потоке дождя лица».
«Мозг делает то, что ему и положено», то есть работает, чтобы устранить или ослабить неопределенность, сочиняя и рассказывая самому себе сказки.
Человеческий мозг – это невообразимо сложная система (вероятно, самая сложная из всех имеющихся), но в ней, однако, наличествует строгий порядок, высшим выражением которого являются суверенное «я» и наше обычное бодрствующее сознание. К поре возмужания наш мозг в полной мере осваивает навыки наблюдения и проверки реальности и нарабатывает в отношении ее надежные прогнозы и предсказания, оптимизирующие наш энергетический вклад (психический, мысленный и прочий) и потому повышающие наши шансы на выживание. Неуверенность – самая большая проблема сложно устроенного мозга, поэтому-то, чтобы устранить ее, он и прибегает к прогнозирующему кодированию. В целом же это заранее подготовленное и обусловленное адаптацией мышление служит нам верой и правдой – но лишь до определенного момента.
Что это за момент и когда именно он наступает – на этот вопрос Робин Кархарт-Харрис с коллегами пытается ответить в своей амбициозной и провокационной статье «Энтропийный мозг: теория состояний сознания, как она видится в свете нейровизуальных исследований с использованием психоделических препаратов», опубликованной в 2014 году в журнале Frontiers in Human Neuroscience. В ней Кархарт-Харрис пытается изложить свое грандиозное видение синтеза психоанализа и когнитивной науки о мозге. Центральный вопрос статьи: платим ли мы какую-то цену за обретение порядка и индивидуальности на уровне сознания взрослого человека? И приходит к выводу: да, платим. Если подавленная энтропия мозга (которая в данном контексте является синонимом неуверенности) «способствует утверждению реализма, стимулирует предвидение, ведет к тщательному размышлению и развивает нашу способность распознавать и преодолевать раздутые и параноидальные фантазии», то в то же самое время эта особенность стремится «ограничить познание» и оказать «на сознание ограничивающее или сужающее влияние».
После нескольких бесед по Skype (и через несколько месяцев после публикации статьи об энтропийном мозге) я наконец встретился с Робином Кархарт-Харрисом в его квартире на пятом этаже в доме, расположенном в самой непритязательной части Ноттинг-Хилла. Лично меня сильно поразили молодость, боевой задор и напористость Робина. При всей его амбициозности он держит и ведет себя поразительно скромно, и ничто в нем не подготавливает вас к той решительности, с которой он пускается в сложные интеллектуальные рассуждения и которая отпугнула бы менее отважных ученых.
Читая статью, поневоле представляешь себе мозг как машину, устраняющую всякую неопределенность, но при этом имеющую несколько серьезных изъянов. Поразительная сложность человеческого мозга и великое множество различных психических состояний в его репертуаре (в сравнении с другими животными) делают задачу поддержания порядка главной и первостепенной, иначе вся система погрузится в хаос.
Когда-то давным-давно, пишет Кархарт-Харрис, человеческий или человекообразный мозг проявлял гораздо более анархичную форму «первичного сознания», для которого было характерно «магическое мышление», то есть убеждения, касающиеся устройства мира, формировались под действием желаний, страхов и вере в сверхъестественные силы. (Первичное сознание, пишет Кархарт-Харрис, характеризуется тем, что «познание менее щепетильно в отборе образчиков реалий из внешнего мира и потому легко подпадает под влияние эмоций, например, желаний и тревог».) Магическое мышление – это один из путей, которыми следует человеческий мозг в стремлении устранить неуверенность, но для успешного развития вида этот путь оптимальным не назовешь.
Но есть и более оптимальный путь, утверждает Кархарт-Харрис; он в том, чтобы подавить неуверенность и энтропию, которые возникли в мозге в процессе эволюции сети пассивного режима, той регулирующей системы, которая отсутствует у неразвитых низших животных и малых детей. Вместе с сетью пассивного режима «возникает чувство собственного „я“, или „эго“», а заодно и способность человека к самоанализу и рассудочности. Магическое мышление заменяется «образом мышления, более привязанного к реальности и управляемого эго». Заимствовав определение у Фрейда, он называет этот более высокоразвитый метод познания «вторичным сознанием». Вторичное сознание «почтительно относится к действительности и усердно стремится представить мир как можно точнее», чтобы минимизировать «неожиданности и неуверенность (т. е. энтропию)».
В статье приводится интересная таблица, дающая наглядное представление о «спектре когнитивных состояний», варьирующихся от высокоэнтропийных до низкоэнтропийных психических состояний. На высокоэнтропийном конце спектра он помещает психоделические состояния, младенческое сознание, ранний психоз, магическое мышление и дивергентное, или творческое, мышление. На низкоэнтропийном конце спектра значатся узкое или негибкое мышление, пагубные привычки, обсессивно-компульсивное расстройство, депрессия, анестезия и, наконец, кома.
Физиологические «расстройства» на низкоэнтропийном конце спектра, полагает Кархарт-Харрис, не столько являются результатом отсутствия порядка в мозге, сколько вызваны переизбытком порядка. Когда колея, проложенная саморефлексивным мышлением, углубляется и затвердевает, эго становится властным и неумолимым. Когда эго обращается против самого себя, а неконтролируемая саморефлексия постепенно затмевает реальность, это самый верный признак депрессии. Кархарт-Харрис приводит результаты исследований, которые указывают на то, что это изнурительное состояние сознания (иногда называемое тяжелым самосознанием или депрессивным реализмом) может быть результатом сверхактивного состояния сети пассивного режима, способной заманить нас в петли-ловушки повторяющихся деструктивных размышлений, которые в конечном счете полностью изолируют нас от внешнего мира. Редукционный клапан бездействует. Кархарт-Харрис убежден, что люди, страдающие целым набором расстройств, для которых характерны исключительно негибкие шаблоны мышления (включая пагубные привычки, одержимость, нарушения пищевого поведения, так же как и депрессию), только выигрывают от «способности психоделиков разрушать стереотипные модели мышления и поведения, растворяя те паттерны [нейронной] активности, на которых они зиждутся».
Поэтому вполне может быть и так, что мозг некоторых людей более устойчив к несколько большей, а не меньшей энтропии. Именно здесь психоделики оказываются как нельзя кстати. Успокаивая сеть пассивного режима работы мозга, эти соединения могут ослабить власть эго над механизмами сознания, «смазывая» механизм познания там, где он заржавел и потому стал неповоротлив. «Психоделики изменяют сознание путем дезорганизации деятельности мозга», – пишет Кархарт-Харрис. Они усиливают энтропию мозга, и в результате система возвращается к менее ограниченному методу познания[52].
«Дело не только в том, что одна система отпадает, – пишет он, – но и в том, что старая система возникает снова». Старая система – это первичное сознание, мышление, в котором эго на время теряет свою доминирующую позицию, а бессознательное, теперь неуправляемое, «переносится в доступное для наблюдений пространство». В этом, с точки зрения Кархарт-Харриса, и заключается эвристическая ценность психоделиков для изучения сознания, хотя их терапевтическую ценность он тоже признает.
Стоит, однако, заметить, что Кархарт-Харрис совсем не романтизирует психоделики и достаточно нетерпимо относится ко всякого рода «магическому мышлению» и «метафизике», которые они если не взращивают, то подпитывают у своих приверженцев, – так же как и представление о том, что сознание «трансперсонально», что скорее есть свойство Вселенной, нежели человеческого мозга. На его взгляд, те формы сознания, которые высвобождаются под действием психоделиков, – это суть регрессия, возвращение к «более примитивному» методу познания. Как и Фрейд, он убежден, что потеря своего «я» и чувство растворения в чем-то большем, типичные для мистического опыта (неважно, чем именно они вызваны: химическими процессами или религией), возвращают нас к психологическому состоянию младенца у материнской груди, к стадии, когда ему еще предстоит развить в себе чувство своей самости как отдельной и во многом ограниченной особи – индивидуума. Обретение этого дифференцированного «я», или эго, и насаждение примитивному уму (уму, обуреваемому страхами, желаниями и склонному к различным формам магического мышления) порядка вместо анархии – все это является для Кархарт-Харриса вершиной человеческого развития. Если он согласен с Олдосом Хаксли в том, что психоделики открывают двери восприятия, то он расходится с ним относительно другого: мол, далеко не все, что вторгается извне через приоткрытую дверь, включая и «Ум в целом», мельком увиденный Хаксли, обязательно реально. «Психоделический опыт может принести много золота, которое на поверку окажется „золотом дураков“», – сказал он мне.
И все же Кархарт-Харрис убежден, что психоделический опыт содержит в себе немало настоящего золота. В ходе нашей встречи он назвал мне в качестве примера имена ученых, чей собственный опыт общения с ЛСД помог им через озарения проникнуть в суть работы мозга. Оказывается, слишком высокая энтропия мозга может привести к атавистическому мышлению, а в конечном счете и к безумию, но и слишком низкая тоже может нанести ему ущерб. Власть доминирующего эго делает наше мышление более жестким, негибким, что в психологическом отношении крайне пагубно для нас. Впрочем, не только в психологическом, но также в социальном и политическом отношениях, поскольку эго «запирает» ум, лишая его доступа к информации и альтернативным точкам зрения.
В одной из бесед Кархарт-Харрис высказал мысль, что любой класс наркотиков, если он способен переворачивать иерархические структуры сознания и поддерживать нетрадиционное мышление, обладает потенциалом изменять отношение пользователей к власти; другими словами, эти соединения могут оказывать весомое воздействие на политику. По мнению многих, именно такую роль и сыграл ЛСД в политических потрясениях 1960-х годов.
– Было ли это следствием того, что хиппи тяготели к психоделикам? Или, наоборот, психоделики порождают хиппи? Никсон считал, что последнее. Возможно, он прав! – высказался по этому поводу Робин.
По его мнению, психоделики способны также исподволь менять отношение людей к природе, как это случилось в 1960-е годы, когда человечество радикально изменило свое отношение к морям и океанам. Когда влияние сети пассивного режима работы мозга ослабевает, ослабевает и чувство разобщенности с окружающей средой. Его команда из Имперского колледжа тестирует добровольцев, используя стандартную психологическую шкалу, по которой измеряется их «природосообразность» (респондентам предлагается ряд утверждений типа «Я не отделен/а от природы, а являюсь частью ее» и по особой балльной системе оценивается их согласие или несогласие с ними), и оказалось, что психоделический опыт повышает самооценку людей[53].
Так как же выглядит высокоэнтропийный мозг? Различные техники сканирования, используемые в лаборатории Имперского колледжа для картографии раскрепощенного мозга, показывают, что каждая специализированная нейронная сеть (такие, например, как сеть пассивного режима работы мозга и система обработки зрительной информации) сама по себе дезинтегрируется, тогда как мозг в целом становится более комплексным и интегрированным по мере того, как между областями, обычно действующими сами по себе или связанными между собой через центр СППРМ, возникают новые связи. Иными словами, различные сети мозга становятся менее специализированными.
«Под действием препарата отдельные ярко выраженные сети стали менее ярко выраженными, – пишет Кархарт-Харрис, – из чего следует, что они взаимодействуют более открыто» с другими сетями мозга. «Под влиянием галлюциногенов мозг начинает выказывать большие гибкость и взаимосвязанность».
В статье, опубликованной в 2014 году в журнале Journal of the Royal Society Interface, команда исследователей из Имперского колледжа убедительно показала, что, когда сеть пассивного режима отключается, а прилив энтропии возрастает, обычные линии коммуникаций в мозге подвергаются решительной реорганизации. Используя такую технику сканирования, как магнитоэнцефалография, дающую наглядную картину электрической активности в мозге, авторы создали карту внутренних коммуникаций мозга в состоянии бодрствующего сознания после инъекции псилоцибина (см. следующие страницы). В обычном состоянии (оно показано слева) различные сети мозга (здесь они изображены в виде окружностей, причем каждая представлена своим цветом) разговаривают в основном сами с собой, и среди них сравнительно мало проводящих путей с интенсивным движением.
Но когда мозг действует под влиянием псилоцибина, как показано справа, возникают тысячи новых связей, соединяющих между собой удаленные области мозга, которые в состоянии обычного бодрствующего сознания не обмениваются большим количеством информации. По сути дела, если прибегнуть к дорожной аналогии, движение перенаправляется с относительно небольшого числа федеральных автострад на мириады более мелких дорог, связывающих между собой неизмеримо большее число других направлений. Мозг, по-видимому, становится менее специализированным и более глобально взаимосвязанным, поэтому в нем наблюдается значительно большее количество взаимосвязей («перекрестных разговоров») между различными соседними областями.
Это временная перенастройка мозга влияет на нашу мысленную деятельность несколькими способами. Когда центры памяти и эмоций получают возможность прямо сообщаться с центрами обработки зрительной информации, то более чем вероятно, что наши страхи и желания, предрассудки и эмоции начинают влиять на то, что мы видим; это и есть признак первичного сознания и рецепт магического мышления. Точно так же установление новых связей между системами мозга может привести к возникновению синестезии, как это происходит, например, когда различные виды чувственной информации переплетаются и перемешиваются между собой, так что цвета становятся звуками или звуки становятся тактильными. Или же новые связи приводят к галлюцинациям, как это произошло со мной, когда содержимое моей памяти исказило мое зрительное восприятие, преобразив Мэри в Марию Сабину или отражение моего лица в зеркале в лицо моего деда. Формирование других разновидностей новых связей может проявиться в психической сфере в виде новой идеи, необычной перспективы, творческого озарения или придания нового смысла знакомых вещам – или в виде огромного числа странных и поразительных психических явлений, о которых свидетельствуют люди, принимавшие психоделики. Повышение энтропии приводит к проявлению сотен психических состояний, многие из которых причудливы, вычурны и бессмысленны, а некоторые предстают как провидческие, образные, творческие и – по меньшей мере потенциально – трансформирующие.
Плацебо
К этому расцвету психических состояний можно относиться по-разному. Можно считать, например, что он временно повышает качественное разнообразие нашей психической деятельности. Если решение проблем – это что-то вроде эволюционной адаптации, то чем больше возможностей имеет разум в своем распоряжении, тем более творческие решения он отыскивает. В этом смысле энтропия мозга немного напоминает вариативность в процессе эволюции: она поставляет разнообразное сырье или материалы, с которыми работает естественный отбор и которые он использует для решения проблем и привнесения в мир новшеств. Если же, как свидетельствуют многие художники и ученые, психоделический опыт содействует творчеству и питает его, выводя «за рамки привычных стереотипов», то с помощью этой модели, может быть, удастся объяснить, почему это так. Возможно, проблема со стереотипами как раз в том, что она единичная.
Псилоцибин
Но ключевым вопросом, на который психоделическая наука даже еще на начала отвечать, был и остается прежним: прочны ли нейронные связи, которые возникают под действием психоделиков, или же настройка мозга сразу вернется к прежнему состоянию, как только препарат перестанет действовать? Сделанное лабораторией Роланда Гриффитса открытие, что психоделический опыт ведет к долговременным изменениям такого свойства личности, как открытость, увеличивает вероятность того, что даже когда мозг находится в процессе перепрограммирования, он тоже чему-то обучается, и что усвоенное им может каким-то образом сохраниться. Обучение влечет за собой создание новых нервных цепей и рефлекторных дуг, и чем больше их упражняешь, тем сильнее и крепче они становятся. Возможно, перспективная судьба новых связей, сформировавшихся во время психоделического трипа (неважно, долговечны они или недолговечны), зависит от того, вспоминаем ли мы пережитое и, как следствие, упражняем ли эти связи после окончания трипа. (Этим можно заниматься или в процессе интеграции опыта, еще раз в присутствии психотерапевта вспоминая все пережитое, или во время медитации, еще раз мысленно воспроизводя измененное состояние сознания.) Франц Волленвейдер высказал предположение, что психоделический опыт вполне может способствовать «нейропластичности»: он распахивает окно в некий мир, в котором мысленные и поведенческие стереотипы становятся более пластичными и более подвержены изменениям. Его модель выглядит как химически опосредованная форма когнитивно-поведенческой терапии. Но все это пока в высшей степени умозрительно: слишком мало мы знаем о картографии мозга до и после приема психоделиков, чтобы точно сказать, какие именно длительные изменения они вызывают (если вообще вызывают).
В своей статье об энтропии мозга Кархарт-Харрис утверждает, что даже временная перенастройка мозга потенциально важна и ценна, особенно для людей, страдающих расстройствами, характеризующимися психической ригидностью. Большая доза психоделика и вызываемые им переживания способны, по его словам, изрядно «встряхнуть снежный шар», разрушив нездоровые стереотипы мышления и создав предпосылки для объемной гибкости (энтропию), – пространство, в котором полезные для здоровья паттерны и нарративы (по мере того как снег медленно оседает) получают возможность соединиться.
Сама мысль о том, что нарастающая энтропия мозга может быть для нас, людей, полезна, довольно парадоксальна и противоречит здравому смыслу. Большинство из нас вкладывают в это понятие негативную коннотацию, потому как энтропия предполагает постепенное, с течением времени, разрушение с таким трудом завоеванного порядка, предполагает распад системы. Разумеется, старение – тоже в какой-то степени энтропийный процесс: постепенные опускание, усыхание и разупорядочение ума и тела. Но вполне может быть, что думать так не совсем верно. Статья Робина Кархарт-Харриса заставила меня призадуматься: а что, если старение, по крайней мере ума, – это процесс снижения энтропии, процесс постепенного увядания и выветривания того, что мы должны рассматривать как положительный атрибут психической жизни?
Разумеется, в среднем возрасте влияние привычного мышления на деятельность ума почти абсолютное. В моем же возрасте я в основном полагаюсь на прошлый опыт, и он, как правило, не подводит: дает быстрые и вполне пригодные ответы практически на все вопросы, которые ставит жизнь, вроде того, как успокоить ребенка или утешить супругу, как исправить предложение, как отнестись к комплименту, как ответить на следующий вопрос или осмыслить происходящее в мире. Со временем и по мере обретения опыта становится все легче уяснять себе суть вопроса, отбрасывая ненужные частности, становится все легче приходить к умозаключениям и выводам – клише, которые подразумевают живость ума и воображения говорящего, хотя на деле они могут означать нечто совсем противоположное, а именно: окаменение мысли. Представьте это как прогнозирующее кодирование на весах жизни; прошлые наработки – а их у меня к этому времени миллионы – обычно поддерживают меня, являются опорой моей жизни: я могу положиться на них в надежде, что они подскажут мне вполне достойный ответ, даже если он не особенно нов, оригинален или богат образами. Это всего лишь наработанный с годами эффективный режим достаточно хороших прогнозов и предсказаний, и назвать это «мудростью» было бы не в пример лестно.
Статья Робина помогла мне лучше понять, что именно я искал все это время после того, как решил заняться изучением психоделиков, и к чему мне нужно стремиться – к тому, чтобы хорошенько встряхнуть свой собственный снежный шар, чтобы понять, смогу ли я обновить свою повседневную психическую жизнь, внеся в нее высокую степень энтропии и неопределенности. Старение могло бы сделать этот мир более предсказуемым (во всех смыслах), однако хорошо уже и то, что оно облегчает груз ответственности, создавая новое пространство для эксперимента. Мое заставило меня попытаться понять, не слишком ли поздно я взялся за ум и есть ли у меня шанс выбраться из глубокой колеи привычек, которую долгий опыт с его «плавали – знаем» проторил в моем сознании.
В теории и физики, и информатики энтропия часто ассоциируется с расширением – вроде расширения газа, когда он нагревается или высвобождается из ограничивающего пространства сосуда. По мере того как молекулы газа растворяются в пространстве, все трудней и трудней предсказать местонахождение любой конкретной молекулы, в силу чего неопределенность системы все более и более возрастает. В конце своей статьи Кархарт-Харрис как бы мимоходом напоминает нам о том, что в 1960-х годах психоделический опыт обычно характеризовали как «расширение сознания»; намеренно или нет, но Тимоти Лири со своими коллегами сочли наиболее уместной для энтропийного мозга именно эту метафору. Кроме того, сравнение с расширением созвучно и «редукционному клапану» Хаксли, если подразумевать под этим, что сознание может находиться в состоянии раскрытия или сжатия.
Если исходить из нажитого опыта, то такое абстрактное качество, как энтропия, чувственно воспринять практически невозможно, тогда как с расширением дело обстоит как раз наоборот. Джадсон Брюер, нейрофизиолог, известный своими исследованиями медитативных состояний, обнаружил, что испытываемое человеком расширение сознания взаимоувязано с падением активности одного конкретного узла в сети пассивного режима – коры задней части поясной извилины, которая ассоциируется с обработкой процессов самоидентификации. Одна из самых интересных особенностей, связанных с психоделическим опытом, состоит в том, что он обостряет восприимчивость человека к собственным психическим состояниям, особенно в дни, следующие непосредственно за психоделическим сеансом. При этом обычное безмятежное состояние сознания сильно нарушается, так что любое конкретное проявление психики, будь то рыскающий ум, сфокусированное внимание или размышление, становится более зримым, выпуклым, заметным и им гораздо легче манипулировать. Сразу после психоделических трипов (и, возможно, не без влияния беседы с Джадсоном Брюером) я обнаружил, что стоит мне сосредоточить на них мой ум, как я тут же легко определяю собственное состояние сознания в диапазоне между сжатием и расширением.
Когда, например, мной владеет особенное чувство душевной щедрости или благодарности, когда я открыт чувствам, людям и природе, я отмечаю у себя состояние расширения. Это чувство часто сопровождается умалением эго, так же как и ослаблением внимания к прошлому и будущему, которым оно пробавляется. (И от которого оно зависит.) Так же обстоит дело и с ярко выраженным чувством сжатия, которое наблюдается у меня, когда я чем-то одержим или когда мной владеют чувства страха, самозащиты, спешки, беспокойства и сожаления. (Два последних чувства возникают лишь в ходе путешествия во времени.) В этих случаях я в гораздо большей мере ощущаю себя самим собой, причем далеко не в лучшем смысле. Если нейробиологи и нейрофизиологи правы, те процессы и состояния, которые я наблюдаю в сфере своего сознания, физически взаимосвязаны с мозгом: сеть пассивного режима либо включена, либо выключена; уровень энтропии либо высокий, либо низкий. Но как именно распорядиться этой информацией, я до сих пор не знаю.
К настоящему моменту она, вероятно, стала достоянием памяти и, возможно, даже затерялась в ней; однако все мы, даже самые наивные среди нас с точки зрения психоделического опыта, лично, прямо и непосредственно, сталкивались с энтропией мозга и новым типом сознания, который она питает, – сталкивались в ту пору, когда были малыми детьми. Детское сознание настолько отличается от сознания взрослого человека, что представляет собой, по сути дела, особую психическую страну, ту самую, из которой нас изгоняют (или мы сами себя изгоняем) в отроческом возрасте. Можно ли опять вернуться в нее? Вернуться взрослыми вряд ли, а вот приблизиться к этой ныне чуждой стране или на краткий миг даже посетить ее, наверное, можем – во время психоделического трипа. Во всяком случае, именно такова поразительная гипотеза, которую высказала Элисон Гопник, психолог по вопросам развития и философ, по воле судьбы оказавшаяся моей однокурсницей в годы учебы в Калифорнийском университете в Беркли.
Элисон Гопник и Робин Кархарт-Харрис пришли к проблеме сознания с совершенно разных сторон и направлений, вооруженные разными дисциплинами, но вскоре после того, как они услышали друг о друге и познакомились с работами друг друга (не без моей помощи, потому как я отослал Элисон PDF-файл статьи Робина об энтропии мозга, а ему рассказал о ее превосходной книге «Ребенок-философ»), они затеяли между собой дискуссию, которая оказалась удивительно поучительной, по крайней мере для меня. В апреле 2016 года они продолжили свою дискуссию, на этот раз в Тусоне, штат Аризона, на сцене зала заседаний во время конференции, посвященной проблемам сознания, где они наконец встретились и оба оказались за одним столом[54].
Психоделики в свое время дали Кархарту-Харрису возможность взглянуть на феномен обычного сознания под другим углом и тем самым подойти к исследованию его измененных состояний; Гопник, в свою очередь, тоже предлагает рассматривать сознание малого ребенка как другую разновидность «измененного состояния», и во многих отношениях эти состояния поразительно схожи между собой. Наши размышления о том или ином предмете, предупреждает она, обычно искажены нашим собственным ограниченным сознанием, которое мы, естественно, воспринимаем как целое и не ущербное. В этом случае приходится признать, что большинство теорий и обобщений, касающихся нашего сознания, созданы людьми, наделенными довольно ограниченным подтипом этого сознания, который она называет «профессорским сознанием», определяя его как «феноменологию среднестатистического профессора средних лет».
– Как академики мы или невероятно сосредоточены на какой-то конкретной проблеме, – говорила Гопник в Тусоне, обращаясь к аудитории, состоявшей из философов и нейрофизиологов, – или сидим и сами себя спрашиваем: «Почему я не могу сфокусироваться на той проблеме, на которой я обязан фокусироваться, и почему вместо этого я предаюсь мечтам?».
Гопник (ей чуть больше шестидесяти), с ее разноцветными шарфами, пышными юбками и практичной обувью, сама выглядит отчасти как профессор из Беркли. Дитя 1960-х годов, а ныне бабушка, она обладает особым стилем речи, который одновременно кажется беспечным и поучительным, не говоря уже о том, что он пестрит ссылками, указывающими на то, что ее ум столько же поднаторел в гуманитарных науках, сколько и в естественных.
«Если вы полагаете, как часто полагают люди, что сознание именно к этому и сводится… то неудивительно, если вы считаете, что малые дети менее разумны и сознательны, чем мы…», потому что и сфокусированное внимание, и саморефлексия у малых детей отсутствуют. Подумайте о сознании ребенка, взывает к нам Гопник, но не с позиции того, что оно якобы недоразвито или ему чего-то не хватает, а с позиции того, что в нем уникально и поистине чудесно, – с позиции качеств, которые, убеждена она, психоделики помогут нам лучше понять, оценить и, возможно, заново прочувствовать.
В «Ребенке-философе» Гопник проводит вполне уместное различие между «прожекторным сознанием» взрослого человека и «фонарным сознанием» ребенка. Первое наделяет взрослого человека способностью фокусироваться исключительно на избранной цели. (В своих репликах в ходе дискуссии Кархарт-Харрис называл его «эго-сознанием» или «точечным сознанием».) Второе – фонарное сознание – обладает рассеянным вниманием, что позволяет ребенку собирать информацию буквально отовсюду, что бы ни оказалось в поле его осознания, которое гораздо шире, чем у большинства взрослых людей. (Если исходить из этой мерки, то дети более, а не менее сознательны, чем взрослые.) Да, длительные периоды доминирования прожекторного сознания у ребенка довольно редки, но зато и «яркое панорамное освещение будней», которое открывает фонарное сознание, у взрослых тоже бывает не часто, а если и бывает, то чисто случайно. Если воспользоваться терминологией Джадсона Брюера, то фонарное сознание – это сознание расширяющееся, а прожекторное – сознание узкое или ограничивающее.
Мозг взрослого человека направляет «прожектор» своего внимания куда ему хочется и при осмыслении получаемой информации опирается на прогнозирующее кодирование. У ребенка, как обнаружила Гопник, в этом отношении совершенно другой подход. Его разум, будучи совершенно неискушенным перед реалиями мира, обладает сравнительно малым числом наработок или предвзятых мнений, полагаясь на которые он мог бы направлять свое восприятие мира по проторенной колее или предсказуемому пути. Вместо этого подход и восприятие ребенком мира сравнимы с изумлением, которое испытывает взрослый лишь под влиянием психоделиков.
Что это означает с точки зрения познания и обучения, говорит Гопник, легко понять, если взять для сравнения машинное обучение или искусственный разум. Разработчики компьютерных программ, обучающие искусственный разум навыкам преподавания и умению решать проблемы, говоря о поисках ответов на вопросы, пользуются терминами «высокотемпературный» и «низкотемпературный поиск». Низкотемпературный поиск (он требует гораздо меньшей затраты энергии, чем высокотемпературный) подразумевает получение наиболее вероятного или наиболее приемлемого ответа, вроде того, который помог решить похожую проблему в прошлом. Низкотемпературный поиск чаще оказывается удачным, нежели неудачным. В отличие от него высокотемпературный поиск требует гораздо больше энергии, поскольку он подразумевает поиск менее вероятных, но, возможно, более изобретательных и творческих ответов – как правило таких, которые лежат за рамками предвзятых мнений. Поэтому, опираясь на богатый жизненный опыт, ум взрослого человека большую часть времени занят исключительно низкотемпературными поисками.
Гопник полагает, что и ребенок (от пяти лет и ниже), и взрослый (принимающий психоделики) более склонны именно к высокотемпературному поиску; в стремлении понять и осмыслить воспринимаемое извне их ум исследует не только ближайшие и наиболее вероятные возможности, но и «все пространство возможностей». Высокотемпературный поиск (по сравнению с низкотемпературным) может казаться неэффективным, содержать высокий процент ошибок и требовать гораздо больше времени и затрат психической энергии, да и ответы, к которым он приводит, представляются более сказочными, нежели реалистическими; при этом, однако, нередки случаи, когда именно он приводит к решению сложной проблемы, а даваемые им ответы по своей изобретательности оказываются поразительно красивыми и оригинальными. Формула E = mc была именно плодом высокотемпературного поиска.
Гопник проверила эту гипотезу на детях, специально отобранных для этого исследования, и обнаружила, что некоторые проблемы, с которыми сталкиваются люди в процессе обучения, пятилетние дети решают и лучше, и успешнее, чем взрослые. Это как раз те проблемы, которые требуют неординарного мышления, и возникают они в ситуациях, когда жизненный опыт, образно говоря, хромает на обе ноги, вместо того чтобы смазывать маслом механизм решения проблем, поскольку в большинстве случаев они для человека внове. В одном из экспериментов детям предлагали игрушечный ящик, который мигал огнями и исполнял музыку, когда на него клали определенный кубик. Обычно этот «световой детектор» реагирует подобный образом лишь на один кубик определенного цвета или формы, но когда экспериментатор перепрограммировал этот механизм так, что он начинал реагировать, только когда на него помещали два кубика, то четырехлетние дети осмыслили это новшество и приспособились к нему гораздо быстрее, чем взрослые.
– Их мышление менее стеснено жизненным опытом, поэтому они допускают даже самые невероятные возможности, – утверждает Гопник; другими словами, они занимаются высокотемпературными поисками, проверяя самые, казалось бы, далекие и невероятные гипотезы. – Дети лучше учатся, чем взрослые, особенно в тех случаях, когда решения неочевидны или [здесь она прибегла к образному выражению] находятся гораздо дальше в пространстве возможностей. – То есть в мире, где они чувствуют себя гораздо уютнее, чем мы. А этот мир действительно от нас далек.
– Из всех видов живых существ период детства у нас самый долгий, – продолжает она. – Этот долгий период обучения и исследования отличает нас от всех прочих видов. Я рассматриваю детство как стадию НИОКР[55] нашего вида, стадию, посвященную исключительно учебе и исследованию. Мы же, взрослые, олицетворяем производство и маркетинг.
Позже я спросил ее, не ошиблась ли она, сказав, что детство – стадия НИОКР именно вида, а не индивидуума. Может быть, наоборот? Но она подтвердила, что имела в виду именно то, что сказала.
– Каждое поколение детей сталкивается с новой окружающей средой, – поясняет она, – и их мозг как нельзя лучше приспособлен для учебы и процветания в этой среде. Вспомните детей эмигрантов или четырехлетних малышей, к которым в руки попал айфон. Дети не изобретают эти новые приборы, они не создают новую среду, но в каждом поколении из мозг перестраивается таким образом, чтобы процветать в ней. Детство – это пора, когда наш вид внедряет шумы в систему культурной эволюции. [ «Шумы» в данном контексте – это просто синоним термина «энтропия»».] В этом смысле мозг ребенка невероятно пластичен, он прекрасно приспособлен именно для учебы, а не для достижений – или, лучше сказать, для исследования, а не для эксплуатации.
В мозге ребенка великое множество нейронных связей, гораздо больше, чем в мозге взрослого человека. (В ходе дискуссии Кархарт-Харрис показал карту сознания человека, находящегося под действием псилоцибина; она была густо испещрена линиями, соединяющими одну область мозга с другими.) Но когда мы достигаем отроческого возраста, большая часть эти связей обрывается, и в результате «человеческий мозг становится жалкой, посредственно действующей машиной». Ключевым элементом этого процесса развития является подавление энтропии, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как хорошими, так и плохими. Система охлаждается, остывает, и высокотемпературные поиски становятся скорее исключением, нежели правилом. Проще говоря, включается сеть пассивного режима работы мозга.
«Чем старше мы становимся, тем больше сужается наше сознается, – пишет Гопник в своей книге. – Взрослые закостеневают в своих убеждениях, и их трудно расшевелить», тогда как «дети более подвижны и, следовательно, более охотно принимают новые идеи. Если вы хотите понять, что такое расширенное сознание и как оно выглядит, вам нужно лишь пообщаться (выпить чаю, например) с четырехлетним ребенком».
Или проглотить таблетку ЛСД. Гопник сказала мне, что больше всего ее поразило сходство между феноменологией опыта, обусловленного ЛСД, и ее пониманием детского сознания с такими его атрибутами, как высокотемпературные поиски, рассеянное внимание, повышенные психические шумы (энтропия), магическое мышление и почти полное отсутствие чувства своего «я», которые у детей сохраняются весьма продолжительное время.
«Короче говоря, младенцы и дети в основном все время отключены».
Несомненно, подобное самоуглубление интересно, но полезно ли оно? Гопник и Кархарт-Харрис убеждены, что да, полезно; более того, они полагают, что психоделический опыт, как они его себе представляют, потенциально способен помогать как больным, так и здоровым людям. Что касается последних, то психоделики, усиливая «шумы», или энтропию, мозга, могли бы выбивать их из мысленной колеи, изрядно перетряхивая их шаблонное мышление («смазывая механизм познания», говоря словами Кархарт-Харриса) так, что это не только бы улучшало их самочувствие, но и сделало бы их более открытыми и повысило их творческий потенциал. По выражению Элисон Гопник, психоделики могли бы помочь взрослым людям обрести гибкое, текучее мышление, которое у детей является их второй натурой, расширяя пространство творческих возможностей. Если, как предполагает Гопник, «детство – это пора внедрения шумов (и новшеств) в систему культурной эволюции», то психоделики могли бы делать то же самое и в системе ума взрослого человека.
Что касается больных, то наибольшую пользу из психоделиков могли бы, вероятно, извлечь те из них, кто страдает разного рода психическими расстройствами, характеризующимися такими аспектами психической ригидности, как зависимость, депрессия и одержимость.
«У взрослых наблюдается целый ряд трудностей и патологий, таких, например, как депрессия, которые связаны с феноменологией размышлений и характеризуются чрезмерно узким фокусом с акцентировкой на эго, – пишет Гопник. – Вы замыкаетесь на одном и том же предмете, не можете уйти от него, становитесь одержимым и, возможно, зависимым. Мне кажется более чем правдоподобным, что психоделические переживания могли бы вывести нас из этих состояний и дать нам возможность переписать прежние истории, касающиеся нас самих». Подобный опыт, по мысли Гопник, мог бы стать своего рода перезагрузкой – как в том случае, когда вы «вводите шум и грохот в систему», закосневшую в жестких рамках шаблонов, из которых она не может выйти. Существенно понижая активность сети пассивного режима работы мозга и ослабляя хватку эго – состояния, которые, по мнению Гопник, могут быть в равной степени иллюзорны, – можно было бы помочь таким людям. Высказанная ею мысль о возможности перезагрузки мозга во многом напоминает идею Кархарт-Харриса о встряхивании снежного шара: и то, и другое суть метафора, подразумевающая способ усилить энтропию (или тепло) в закосневшей (или замороженной) системе.
Вскоре после появления в печати статьи об энтропии мозга Кархарт-Харрис решил применить некоторые из своих теорий на практике, испробовав их на пациентах. Впервые в истории лаборатория расширила фокус своей деятельности, сместив его от чистых исследований к возможностям их практического использования в клинических условиях. Правительство Великобритании выделило Дэвиду Натту и его лаборатории грант на проведение небольшого экспериментального исследования, имеющего целью выявить потенциал псилоцибина и его способность ослаблять симптомы «некупируемой депрессии» – так называют состояние, когда пациенты не реагируют на обычные терапевтические методы лечения и лекарства.
Безусловно, что опыт подобной клинической работы у Кархарт-Харриса отсутствовал, а сама работа выходила за пределы зоны комфорта – как его собственной, так и всего персонала лаборатории. Один случай (он произошел на ранних этапах работы) ясно указывает на ту постоянную напряженность, которая существует между врачом и ученым, чьи роли существенно разнятся: если врач всецело посвящает себя больному, добиваясь его выздоровления, то ученый в основном озабочен сбором научных данных. После инъекции ЛСД (следует отметить, что это были не клинические испытания, но проводились они под руководством Кархарт-Харриса) подопытный, мужчина сорока лет по имени Тоби Слейтер, помещенный в функциональный магниторезонансный томограф, начал обнаруживать признаки тревоги и беспокойства и попросил извлечь его оттуда. После небольшого перерыва Слейтер, видимо движимый чувством долга, сам высказал желание вернуться в машину, чтобы исследователи могли завершить свой эксперимент. («Боюсь, он увидел, как я разочарован, и потому изменил свое решение», – с сожалением вспоминает Кархарт-Харрис.) Но чувство тревоги опять овладело Слейтером. «Я почувствовал себя лабораторной крысой», – поделился он со мной своими страхами. Он снова попросил выпустить его из машины и, выбравшись оттуда, попытался уйти из лаборатории. Персоналу пришлось долго уговаривать его, чтобы он остался и принял успокоительное, и он в конце концов согласился.
Описывая этот случай – одно из очень немногих незаурядных событий, наблюдавшихся в ходе исследований в Имперском колледже, – Кархарт-Харрис характеризует его как «весьма полезный опыт»; видимо, таковым он и оказался, ибо, если верить официальным отчетам и отзывам коллег и пациентов, Робин показал себя не только умелым, исполненным сострадания врачом-клиницистом, но и незаурядным ученым – редкое сочетание, что и говорить! Реакция большинства пациентов, участвовавших в экспериментальном исследовании, была, как мы увидим в следующей главе, необычайно положительной, по крайней мере первое время. Во время обеда в лондонском ресторане в Вест-Энде Робин рассказал мне об одной женщине (она тоже принимала участие в эксперименте), подавленной настолько, что те несколько раз, когда им пришлось встречаться и общаться, она ни разу не улыбнулась, и никто вообще не видел ее улыбающейся. Так вот, когда она лежала, полностью ушедшая в себя под действием псилоцибина, а он сидел подле нее в качестве ассистента, она, по его словам, впервые улыбнулась и сказала: «Так приятно улыбаться».
– После окончания сеанса она рассказала, что к ней приходил ее ангел-хранитель. Она описала некое подобие живого существа, его голос, полный ободрения и поддержки и желавший ей скорейшего выздоровления. Ангел говорил ей вещи вроде: «Дорогая, тебе нужно чаще улыбаться, держи голову как можно выше и перестань глядеть в землю». «Затем он протянул ко мне руки, – сказала она, – и развел мои щеки в улыбку, приподняв уголки моего рта».
– Должно быть, именно это происходило в ее сознании в тот момент, когда я заметил на ее лице улыбку, – сказал Робин, который и сам теперь улыбался, широко, хотя и немного застенчиво. После всего, что пережила эта женщина, показатель ее депрессии упал с тридцати шести до четырех.
– Должен сказать, это было очень приятное чувство, – заключил он.
Глава шестая
Лечебный трип: психоделики в психотерапии
Первый трип: смерть
В Нью-Йоркском университете псилоцибиновые трипы совершаются в процедурном кабинете, заботливо украшенном и обставленном так, что он скорее напоминает уютную берлогу, нежели больничную палату. Подобная атмосфера действует благодатно на находящихся здесь людей, но далеко не всегда, потому как нержавеющая сталь и пластиковая фурнитура, ставшие неотъемлемой частью современной медицины, нет-нет да и проглядывают здесь и там сквозь маскировочные ткани, невозмутимо напоминая о том, что комната, в которой вы путешествуете в глубины собственного сознания, находится в самом сердце огромного больничного комплекса. У одной из стен стоит удобная кушетка, достаточно длинная, чтобы пациент, лежа на ней, мог во время сеанса вытянуть ноги. На противоположной стене висит некая абстракция – то ли картина, то ли кубический ландшафт? – а на книжных полках увесистые книги по искусству и мифологии делят пространство с поделками туземных умельцев и религиозными безделушками, привезенными из экзотических стран: покрытым глазурью большим керамическим грибом, статуэткой Будды и кристаллом. Чем-то это напоминает квартиру психотерапевта средних лет, много путешествовавшего по миру и, судя по сувенирам, отдающего предпочтение восточным религиям и прикладному искусству так называемых примитивных культур. Однако эта иллюзия тут же исчезает, стоит только взглянуть на потолок, белые звукоизолирующие плитки которого пересечены карнизами – к ним обычно крепятся шторы, отделяющие одну больничную кровать от другой. Кроме того, здесь же находится внушительных размеров ванная комната, освещаемая флуоресцентными лампами и оснащенная необходимыми поручнями и педалями.
Именно в этой комнате я впервые услышал историю Патрика Меттеса, добровольца, принявшего участие в испытаниях, имевших целью выявить воздействие псилоцибина на онкологических больных: на кушетке, где теперь сижу я, он совершил бурный шестичасовой псилоцибиновый трип, в корне изменивший саму его судьбу, жизнь и – не побоюсь сказать это – его отношение к смерти. Я приехал сюда, чтобы побеседовать с Тони Боссисом, паллиативным психологом, который в тот день был дежурным терапевтом, наблюдавшим за состоянием Патрика, и его коллегой Стивеном Россом, психиатром из Беллвью, руководившим этими испытаниями, сводившимися к тому, чтобы установить, способна ли одноразовая большая доза псилоцибина унять тревогу и депрессию, которыми обычно сопровождается неутешительный для больного диагноз: рак в запущенной форме.
Если Боссис, бородатый, с густыми космами мужчина, напоминает пятидесятилетнего манхэттенского психотерапевта, интересующегося альтернативными видами терапии, то Росс, которому чуть больше сорока, прямой и тонкий, напоминает выпущенную из лука стрелу; облаченный в элегантный костюм, при галстуке, он запросто мог бы сойти за банкира с Уолл-стрит. Некогда страстный любитель книг, выросший в Лос-Анджелесе, Росс говорит, что лично он никогда не пробовал психоделики и почти ничего о них не знал, пока однажды один из его коллег не упомянул в разговоре, что ЛСД с успехом использовался в 1950-х и 1960-х годах для лечения алкоголиков. Поскольку алкогольная тема является его специальностью как психиатра, Росс заинтересовался этим сообщением и, проведя кое-какие изыскания, обнаружил, к своему удивлению, «целый свод погребенных знаний». К началу 1990-х годов, когда он начал свою ординатуру по психиатрии в Колумбийском университете, а затем продолжил ее в Нью-Йоркском институте психиатрии, история психоделиков была изъята из этой отрасли медицины и основательно предана забвению, так что о самих психоделиках даже не упоминали. Испытания, проводимые в Нью-Йоркском университете, как и подобные им исследования, осуществляемые сотрудниками лаборатории Роланда Гриффитса в медицинском центре Джонса Хопкинса, принадлежат к числу тех немногих усилий, целью которых является подхватить и продолжить нить исследований, оброненную в 1970-е годы, когда с санкционированной психоделической терапией было покончено. Если испытания в Нью-Йоркском университете и центре Хопкинса имеют целью оценить потенциал психоделиков и их полезность при оказании помощи умирающим, то испытания, проводящиеся в других местах, направлены на исследование возможности того, можно ли использовать психоделики (по большей части псилоцибин, чем ЛСД, поскольку, как объяснил Росс, «он не несет в себе тот политический багаж, который ассоциируется с этими тремя буквами») для снятия депрессии и устранения зависимостей, прежде всего пристрастия к алкоголю, кокаину и табаку.
Ни одно из этих исследований не является новым: если погрузиться в историю клинических испытаний, проводившихся с психоделиками, станет понятно, что большая часть этих земель уже возделана. Чарльз Гроб, психиатр из Колумбийского университета в Лос-Анджелесе, чьи экспериментальные исследования псилоцибина на предмет его успокоительного воздействия на онкологических больных (они проводились в 2011 году) расчистили путь для испытаний в Нью-Йоркском университете и центре Хопкинса, признает, что «в большинстве случаев мы просто подхватываем факел у прошлых поколений исследователей, которые были вынуждены его опустить по причине культурного давления». Но если психоделики когда-нибудь найдут признание в современной медицине, то весь этот некогда погребенный свод знаний необходимо будет извлечь на свет божий, а эксперименты, приведшие к этим знаниям, провести вновь в соответствии с действующими научными нормами.
Но как современная наука тестирует психоделическую терапию и ее потенциал, точно так же эти очень странные молекулы, оказывающие непредсказуемое действие на ум и сознание, тестируют западную медицину на предмет того, способна ли она справиться с теми скрытыми проблемами, которые они создают. Приведу один очевидный пример. Обычные испытания психоделиков очень трудно, если вообще возможно, скрыть от глаз общественности: участникам рот не закроешь и они вполне могут рассказать, принимали ли они сам псилоцибин или плацебо, и об этом же могут рассказать и психотерапевты. Кроме того, могут ли исследователи надеяться на то, что им удастся в полной мере отделить воздействие химического соединения от критического влияния установки и обстановки? Западная наука и современная наркологическая экспертиза всецело зависят от того, удастся ли изолировать единичную переменную, но до сих пор неясно, можно ли вообще изолировать или отделить действие психоделического препарата от контекста, в котором он принимается, от терапии, которая с ним связана, или от ожиданий самих участников. Любой из этих факторов может замутить воды причинности. А кроме того, как западная медицина должна оценивать сам психиатрический препарат, который, по-видимому, работает не за счет какого-то сугубо фармакологического воздействия, а за счет внедрения в сознание людей, его принимающего, определенной установки?
Добавьте к этому и тот факт, что опыт видений или переживаний, к которому приводят эти препараты, часто выступает под определением «духовный», поэтому современная медицина предлагает вам в виде психоделической терапии некую пилюлю, настолько большую, что ее вряд ли возможно проглотить. Чарльз Гроб хорошо понимает эту проблему, но занимает по отношению к ней непримиримую позицию: психоделическую терапию он характеризует как разновидность «прикладного мистицизма». Странная фраза в устах ученого, и многим она кажется опасной и ненаучной.
«Для меня это понятие никак не связано с медициной, – сказал Франц Волленвейдер, один из пионеров в области психоделических исследований, в интервью журналу Science, когда его попросили прокомментировать роль мистицизма в психоделической терапии. – Само по себе это понятие довольно интересное, но оно скорее из области шаманизма». Но другие исследователи, работающие с психоделиками, не отвергают ту идею, что элементы шаманизма, возможно, играют некоторую роль в психоделической терапии – как это, вероятно, имело место на протяжении нескольких тысячелетий, прежде чем появилась реалия, именуемая наукой. «Если мы хотим разработать оптимальные исследовательские проекты для оценки терапевтической полезности галлюциногенов, – пишет Гроб, – одного лишь соблюдения строгих норм научной методологии будет недостаточно. Мы должны также обратить внимание и на примеры, даваемые нам удачным приложением шаманской парадигмы». Под парадигму шаман/терапевт тщательно инструментует «экстрафармакологические переменные» (такие, как установка и обстановка, например), чтобы наилучшим образом использовать «гиперсуггестивные свойства» этих медикаментов. Именно здесь, по-видимому, и может оказаться действенной психоделическая терапия – на границе между духовностью и наукой, столь же провокационной, сколь и неудобной.
Тем не менее новые исследования в области психоделиков ведутся как раз в то время, когда поддержание психического здоровья в стране находится «на изломе», если воспользоваться словечком Тома Инзела, до 2015 года бывшего директором Национального института психического здоровья, так что готовность этой области медицины к принятию совершенно новых, радикальных методов, вероятно, больше, чем готовность самого поколения. Фармакологический инструментарий для лечения депрессии, которой страдает примерно одна десятая часть всех американцев и которая во всем мире является главной причиной нетрудоспособности, на сегодняшний день очень скуден: он включает в себя антидепрессанты, все больше и больше теряющие свою эффективность[56], и новые психиатрические препараты, поток которых тоже иссякает. Фармакологические компании больше не инвестируют средства в разработку так называемых препаратов ЦНС, то есть медикаментов, воздействующих на центральную нервную систему. Система охраны психического здоровья охватывает лишь малую часть людей, страдающих психическими расстройствами, потому как большинство не хотят обращаться к врачам из-за дороговизны лечения, его неэффективности или социальной стигматизации. В Америке ежегодно совершается почти 43 тысячи самоубийств (больше, чем количество смертей по причине рака груди или автотранспортных происшествий), и только примерно половина людей из числа тех, что лишают себя жизни, получает медицинскую помощь. «На изломе» – довольно мягкая характеристика нынешнего состояния этой системы.
Джеффри Гесс, манхэттенский психиатр и один из разработчиков экспериментальных испытаний в Нью-Йоркском университете, считает, что момент для принятия совершенно новой парадигмы в области психотерапии давно назрел. Многие годы, указывает он, «назревал этот конфликт между биологическим и психодинамическим методами лечения. Они сражались друг с другом за легитимность и ресурсы. Что является причиной психического заболевания: химический дисбаланс или потеря смысла жизни? Психоделическая терапия – это бракосочетание этих двух методов».
В последние годы «психиатрия из безмозглой стала бессмысленной», как охарактеризовал ее один из психоаналитиков. Если психоделическая терапия и окажется успешной, то только потому, что она добьется успеха в деле воссоединения мозга и ума, поставив это единство на службу психотерапии. По крайней мере, на это есть надежда.
Для терапевтов, работающих с людьми, чья жизнь близится к концу, эти вопросы представляют не только научный интерес. Беседуя со Стивеном Россом и Тони Боссисом в процедурном кабинете, я поразился тому, с каким возбуждением (возбуждением, граничившим с головокружением) они относятся к результатам, полученным при наблюдении за онкологическими больными, – всего лишь после одного сеанса с применением псилоцибина. Поначалу Росс не поверил тому, что он увидел.
– Мне показалось, – рассказал он, – что первые десять или двадцать человек – это не люди, а растения, что они, должно быть, притворяются. Они говорили вещи вроде «Я понимаю, что любовь – самая мощная сила на планете» или «Я встретился со своим раком, этой черной тучей дыма». Люди совершали паломничества к самым ранним этапам своей жизни и возвращались оттуда с совершенно иным чувством, иным видением и новыми приоритетами. Люди, явно боявшиеся смерти, вдруг утратили свой страх. Тот факт, что препарат, даже однажды принятый, дает столь длительный эффект, является беспрецедентным открытием. В области психиатрии у нас никогда не было ничего подобного.
Именно тогда Тони Боссис впервые и рассказал мне о том, что он пережил, находясь в качестве дежурного терапевта при Патрике Меттесе, совершавшем путешествие в ту область сознания, где ему каким-то образом удалось снять осаду страха перед смертью.
– Представьте, что вы находитесь в этой же комнате, но в присутствии чего-то большого. Помню, как после двух часов молчания Патрик начал тихо плакать, а потом дважды произнес: «Рождение и смерть – это тяжкий труд». Это действует как смирительная рубашка. Это был самый запоминающийся день в моей карьере.
Как специалист по паллиативной медицинской помощи, Боссис проводит много времени с умирающими людьми. «Люди не понимают, как мало средств в арсенале психиатрии, чтобы преодолеть тревогу, вызванную коренными вопросами человеческого бытия». «Экзистенциальные муки», как называют этот синдром психологи, – это целый комплекс депрессий, тревог и страхов, общий для людей, которым поставлен смертельный диагноз. «Ксанакс – это не панацея». Панацея, считает Боссис, должна быть по природе более духовной, а не фармакологической.
– Так как же нам не исследовать это явление, – вопрошает он, – если оно способно перенастроить наше отношение к смерти и процессу умирания?
В апрельский понедельник 2010 года Патрик Меттес, 43-летний директор новостного отдела на одном из телевизионных каналов, страдавший от рака желчных протоков, прочитал на первой полосе газеты New York Times статью, которая изменила его отношение к смерти. Страшный диагноз был поставлен ему три года назад, вскоре после того, как его жена, Лайза Каллаган, заметила, что у него неожиданно пожелтели белки глаз. К 2010 году рак уже поразил легкие Патрика, и он просто загибался под тяжестью изнурительного режима химиотерапии и особенно под тяжестью назревшего осознания, что он обречен и болезнь ему не одолеть. В статье, озаглавленной «Галлюциногены заставляют врачей вновь воспрянуть духом», вкратце сообщалось о ведущихся в Нью-Йоркском университете исследованиях, где испытывался псилоцибин на предмет того, насколько он способен облегчить экзистенциальные муки у больных раком. По словам Лайзы, Патрик никогда не соприкасался с психоделиками, но, воодушевленный статьей, он твердо решил позвонить в Нью-Йоркский университет и предложить себя в качестве добровольца.
Лайза была против.
– Для него это слишком легкий выход, – сказала она мне. – Мне это было не по душе. Я хотела, чтобы он поборолся за свою жизнь.
Патрик, однако, все же позвонил и, заполнив несколько форм и ответив на длинный перечень вопросов, был допущен к испытаниям. Его прикрепили к Тони Боссису. Тони был примерно одного возраста с Патриком; кроме того, Тони – невероятно чуткий, душевный человек, исполненный необыкновенных теплоты и сострадания, так что эти двое сразу же поладили между собой.
На первом, ознакомительном свидании Боссис рассказал Патрику, что его ожидает. После трех или четырех подготовительных сеансов разговорной терапии Патрику назначили две дозировки: одна – это «активный плацебо» (большая доза ниацина, вызывающая ощущение покалывания), а вторая – капсула, заключавшая 25 миллиграммов псилоцибина. Оба сеанса проводились в том же процедурном кабинете, где происходила моя встреча с Боссисом и Россом. Во время сеансов, длившихся большую часть дня, Патрик лежал на кушетке, его глаза были прикрыты наглазниками, а на ушах были наушники, в которых звучала тщательно подобранная музыка – композиции Брайана Ино, Филиппа Гласса, Пата Метени и Рави Шанкара, так же как классические миниатюры и мелодии нью-эйдж. Кроме того, ему были приданы два дежурных терапевта – мужчина (Боссис) и женщина (Кристаллия Каллионци); они мало говорили, но постоянно находились при пациенте на тот случай, если у него возникнут какие-либо проблемы. В период подготовки они изложили Патрику «предполетные инструкции», написанные Биллом Ричардсом, исследователем из центра Хопкинса.
Боссис предложил Патрику в качестве путеводной мантры фразу «Доверься и отпусти» (доверься всему, что ни встретишь, и следуй за ним, куда бы это тебя ни привело). И посоветовал: «Поднимайтесь по лестницам, открывайте двери, исследуйте пути, птицей парите над ландшафтами». Но самый важный совет, данный им, – постоянно идти вперед, именно идти, а не бежать, а если встретится что-то страшное или опасное для жизни – смотреть ему прямо в глаза. «Не уступайте, проявите упрямство и спрашивайте: „Что ты делаешь в моем сознании?“ Или „Чему я могу у тебя научиться?“».
Мысль давать психоделический препарат умирающим впервые высказал не психотерапевт и не ученый, а писатель Олдос Хаксли в письме, адресованном Хамфри Озмонду, где он предложил идею исследовательского проекта, предусматривающего «применение ЛСД на конечных стадиях развития злокачественной опухоли в надежде, что он превратит умирание в более духовный и менее сугубо физиологический процесс». Инъекцию ЛСД Олдосу Хаксли сделала его жена, Лора, 22 ноября 1963 года, когда он лежал на смертном одре.
К этому времени идея Хаксли была опробована на множестве онкологических больных в Северной Америке. В 1965 году Сидни Коэн написал для журнала Harper's очерк («ЛСД и страх перед смертью»), посвященный потенциалу психоделиков и их способности кардинально «менять отношение к процессу умирания и смерти». Он описывает процесс лечения с помощью ЛСД как «терапию путем преодоления себя». В основе этого метода, по его словам, лежит та предпосылка, что владеющий нами страх перед смертью – это функция нашего эго, обременяющего нас чувством разобщенности, которое по мере приближения к концу становится все более непереносимым. «Мы рождаемся в мир, свободный от эго, – пишет Коэн, – но живем и умираем, заключенные в темницу собственного „я“».
Мысль, которую автор стремился выразить в статье, заключается в том, что, используя психоделики, можно вырваться из темницы своего «я». «Мы хотели создать пусть кратковременный, но четкий интервал полного отсутствия эго, чтобы показать тем самым, что целостность и сохранность личности не является абсолютно необходимым условием ее существования и что „где-то там“, вероятно, существует нечто большее, чем наши индивидуальные „я“», нечто, способное пережить нашу гибель. Коэн приводит слова одной пациентки по имени Дайна Бейзер, умиравшей от рака яичников, которая описывает перемену в своих взглядах на жизнь и смерть как следствие сеанса с ЛСД:
«Мое исчезновение в этот момент не имеет большого значения, даже для меня. Это всего лишь еще один виток в череде бытия и небытия. Мне кажется, к церкви или разговору о смерти это почти не имеет отношения. Полагаю, я просто отстранилась, то есть отошла от своего „я“, своей боли и своего угасания. Теперь я могу умереть спокойно – если уж мне так суждено. Я не призываю смерть, но и не отталкиваю ее».
В 1972 году Станислав Гроф и Билл Ричардс, в то время работавшие в Спринг-Гров, писали, что ЛСД вызывает у пациентов такое ощущение «единства с космосом», что смерть «вместо того чтобы казаться абсолютным концом всего сущего и шагом в ничто, вдруг предстает как переход к иному типу существования… Идея возможной непрерывности сознания после физической смерти оказывается более правдоподобной, чем противоположная ей».
Участникам псилоцибиновых испытаний, проводившихся в Нью-Йоркском университете, по окончании сеанса предлагалось написать отчет о своем «путешествии», и Патрик Меттес, работавший в сфере журналистики, отнесся к этому заданию весьма серьезно. По словам его жены, Лайзы, после сеанса, который состоялся в пятницу, Патрик все выходные трудился над составлением описания, тщательно осмысливая пережитое. Лайза согласилась передать мне на время этот отчет, чтобы я мог с ним ознакомиться, и заодно дала согласие на то, чтобы Тони Боссис, терапевт Патрика, показал мне те заметки, которые тот делал во время этого и других психотерапевтических сеансов.
У Лайзы (она в то время работала менеджером по маркетингу в компании по производству кухонной посуды) на то январское утро 2011 года была назначена важная деловая встреча, поэтому Патрик из своей квартиры в Бруклине доехал до угла Первой авеню и Двадцать четвертой улицы (именно там находится зубоврачебный колледж Нью-Йоркского университета, где проводились испытания) на метро. (Зубоврачебный колледж как место проведения испытаний был выбран по той причине, что на тот момент и больница в Беллвью, и онкологический центр университета предпочитали держаться на расстоянии от любых исследований, связанных с психоделиками.) Его встретили дежурные терапевты Тони Боссис и Кристаллия Каллионци; они ознакомили Тони с графиком работы и ровно в 9:00 вручили ему чашку с таблеткой, но был ли то псилоцибин или плацебо, никто из них не знал – по крайней мере, первые полчаса. Прежде всего Патрика попросили сформулировать свои цель и намерение; они, по его словам, состояли в том, чтобы научиться лучше справляться с тревогой и депрессией, обусловленными болезнью, и по возможности устранить то, что он называл «сожалением о неудавшейся жизни». Для создания надлежащей обстановки он разместил в комнате несколько фотографий, снятых в день их свадьбы, а также снимки своей собаки Арло.
В 9:30 Патрик лег на кушетку, надел наушники, наглазники и затих. В своем отчете Патрик сравнил начало «путешествия» с запуском многоразового космического корабля; это был, по его словам, «физически тяжелый и довольно неуклюжий взлет, который в конце концов сменился блаженно-безмятежной невесомостью».
Многие из добровольцев, с которыми мне пришлось беседовать, описывали свои первые ощущения в эти минуты как полные неизбывного страха и тревоги, и только затем, подначиваемые дежурным терапевтом, они пускались в странствие. Именно в эти минуты оказывались как нельзя более кстати «предполетные инструкции», с которыми их знакомили перед сеансом: мол, если отдадитесь на волю происходящего («доверьтесь, освободитесь и откройтесь»), вскоре то, что поначалу кажется страшным и пугающим, претворится во что-то другое, во что-то приятное и даже исполненное блаженства.
В самом начале своих странствий Патрик встретил жену своего брата, умершую от рака более двадцати лет тому назад, когда ей было сорок три года. «При виде меня Рут совсем не удивилась, – пишет он, – и пошла вместе со мной, служа мне в качестве проводника. У нее было полупрозрачное, почти светящееся тело, так что я ее сразу узнал… Эта стадия моего путешествия оказалась связанной с женским началом». Затем на сцене ненадолго появилась Мишель Обама. «Разлитая вокруг меня мощная женская энергия ясно доносила ту мысль, что мать, всякая мать, независимо от ее недостатков… не может НЕ любить своего отпрыска. Это было очень сильное ощущение. Я понял, что плачу… мной овладело ощущение, словно я собираюсь выйти из материнского лона… что я опять рождаюсь на свет. Мое повторное рождение протекало гладко… умиротворенно».
Однако со стороны все происходившее с Патриком гладким и умиротворенным отнюдь не казалось. Он плакал, отмечает Боссис, и тяжело дышал. Именно в этот момент он первый раз сказал: «Рождение и смерть – это тяжкий труд» – и вроде как начал биться в конвульсиях. Затем он схватил Каллионци за руку, в то же время разводя свои колени в стороны и надавливая на них, как будто принимал роды. Вот некоторые из записей, сделанные Боссисом во время сеанса:
11.15: «О боже!»
11.25: «Это же так просто».
11.47: «Кто знал, что и мужчина может родить?» И затем: «Я вот родил, а для чего, не знаю».
12.10: «Это просто невероятно. – (В этот момент Патрик смеялся и плакал одновременно.) – О боже, все теперь имеет смысл, все так просто и прекрасно».
Патрик попросил сделать перерыв. «Мне стало невмоготу», – написал он. Он снял наушники и наглазники. «Я сидел и разговаривал с Тони и Кристаллией. Сказал, что подобное стоило бы пережить всем… если бы каждый это пережил, то никто бы уже не стал бы причинять вред другому… войны стали бы невозможными. Сама комната и всё, что в ней, было прекрасным. Тони и Кристаллия, сидевшие на подушках, прямо-таки лучились светом!» Они проводили его в ванную комнату. «Даже микробы (если таковые имелись) были прекрасны, как и всё в нашем мире и во вселенной».
После этого он высказал нежелание «возвратиться обратно».
«Тяжелая работа, но мне пришлась по вкусу страсть к приключениям». В конце концов он снова надел наглазники, наушники и лег на кушетку.
«С этого момента единственным критерием, принимавшимся во внимание, была любовь… Она была и является единственной целью. Казалось, любовь струилась из какой-то точки света… она вибрировала… и я чувствовал, что и мое физическое тело тоже пытается вибрировать в унисон с космосом… отчаявшись, я чувствовал себя как мальчишка, не умеющий танцевать… но вселенная отнеслась к этому спокойно. Острая радость… блаженство… нирвана… была неописуемой. В сущности, нет слов, чтобы в точности описать все пережитое мной… мое состояние… это место. Я знаю, нет такой земной радости, которая хотя бы близко соответствовала этому чувству… никакое чувство, никакой идеал красоты, ничто во время моего пребывания на земле не ощущалось таким чистым, радостным и чудесным, как высшая точка этого путешествия». Вслух же он сказал: «Никогда до этого не испытывал оргазм души». Даже музыка приобретала осязаемые формы: «Я заучивал песню, очень простую песню… она состояла из одной ноты… ноты „до“… эта была вибрация вселенной… собрание всего сущего… все это вместе тождественно Богу».
Затем, пишет Патрик, к нему пришло прозрение, связанное с простотой. Он размышлял о всякой всячине: политике, пище, музыке, архитектуре, теленовостях (его профессиональная стихия) и вдруг понял, что все это, как и многое другое, страдает «избыточной сложностью. Мы составляем песню из слишком большого количества нот… рецепты из слишком большого числа ингредиентов… одежду, которую носим, и дома, в которых живем, из слишком большого числа ярких пятен и ненужных завитушек… все это кажется бессмысленным, тогда как все, что нам действительно нужно, – это сосредоточиться на любви». А потом он увидел Дерека Джитера, а потом шорт-стоппера из «Янки», «совершающего еще один балетный разворот в сторону первой базы».
«В тот момент я был убежден, что все понял и постиг… Она находилась прямо передо мной… любовь… единственное, что по-настоящему имеет значение. Именно она теперь должна стать первопричиной и смыслом моей жизни».
Затем в 12:15 он сказал что-то такое, по поводу чего Боссис сделал такую запись: «Прекрасно, я понял. Можно сворачиваться. Наша работа сделана».
Сделана, но еще не вся. Теперь «я пробежался по своим легким… не забывая глубоко дышать, чтобы облегчить „видение“». Боссис записал, что в 14:30 Патрик сказал: «Я заглянул в мои легкие и увидел там два пятна. В них не было ничего особенного».
«Мне сказали (без слов), чтобы я не волновался насчет рака… по большому счету, это второстепенный фактор… просто несовершенство человеческой организации… и что меня ждет более важное дело… настоящая работа. Это, опять же, любовь».
После чего Патрик пережил то, что он назвал «кратковременной смертью».
«Я подошел к чему-то, что на поверку оказалось большим изломанным и очень острым куском нержавеющей стали. Такого же качества, как лезвие бритвы. Я продолжал приближаться к вершине этого блестящего металлического предмета, и там, на самом конце, я оказался перед выбором: заглянуть или не заглянуть, наклонившись над самым краем, в бесконечную бездну… бескрайность вселенной… средоточие всего… [и] ничего. Я колебался, но страха не испытывал. Я хотел пойти ва-банк, но чувствовал, что если я сделаю это, то, возможно, навсегда покину свое тело… [предпочтя] смерть этой жизни. Но решение было нетрудным… Я знал, что здесь меня ждет гораздо больше». Рассказав терапевтам о своем выборе, Патрик объяснил, что в ту минуту он «был не готов прыгнуть вниз и покинуть Лайзу».
Затем, примерно в 15:00, неожиданно все закончилось. «Переход от состояния, где у меня не было чувства времени и пространства, к относительной невзрачности данного момента произошел быстро. У меня разболелась голова».
Когда приехала Лайза, чтобы отвезти мужа домой, Патрик, вспоминает она, «выглядел так, словно только что пробежал длинную дистанцию. Цвет лица был нездоровый, сам он был усталый, потный, но сильно взбудораженный. Он был словно пьяный – от всего, что хотел рассказать мне, но не мог». Он просто сказал ей, что «прикоснулся к Божьему Лику».
Все психоделические трипы тематически отличаются друг от друга, однако встречаются в странствиях людей, борющихся с раком, и общие темы. Многие из онкологических больных, с которыми мне привелось беседовать, описывают процесс или родов, или повторного рождения, хотя и не такой интенсивный, как у Патрика. Многие также описывают свою встречу с раком (или своим страхом перед ним), в результате чего его власть над людьми сильно ослабевает. Выше я уже приводил слова Дайны Бейзер, миниатюрной, с мягкими манерами, жительницы Нью-Йорка лет пятидесяти с небольшим, работавшей тренером по фигурному катанию, у которой в 2010 году диагностировали рак яичников. Когда мы встретились в процедурном кабинете зубоврачебного колледжа, Дайна, женщина с кудрявыми волосами каштанового цвета и большими серьгами-кольцами в ушах, рассказала мне, что, даже несмотря на успешно пройденный курс химиотерапии, ее постоянно снедал страх, что болезнь вернется, и она транжирила дни впустую, «ожидая логического завершения своих бед».
Она тоже работала с Тони Боссисом, и в первые, самые трудные моменты сеанса ей показалось, что она заперта в трюме корабля, где, снедаемая страхом, она раскачивается вместе с ним на волнах.
– Я высунула руку из-под одеяла и прошептала: «Мне страшно». Тони взял меня за руку и сказал, чтобы я доверилась ему. Так его рука стала моим спасительным якорем.
Я видела свой страх. Это было почти как во сне. Он находился под ребрами грудной клетки с левой стороны; это была не опухоль, а такая черная штука в моем теле. И при виде его меня охватил гнев; мой страх привел меня в ярость. «Убирайся вон! – закричала я. – Не хочу, чтобы ты сожрал меня живьем!» И что бы вы думали? Он исчез! Растворился. Я прогнала его своим гневом. Прошли годы, – сообщила Дайна, – и он до сих пор не вернулся. Рак – это нечто, совершенно неподвластное моему контролю, а вот страх, как я поняла, ему подвластен.
Это было прозрение, и по мере того, как ее мысли, прежде всецело занятые страхом, обращались к ее детям, страх постепенно уступил место чувству «ошеломляющей любви». По ее словам, она была и по-прежнему остается «завзятой атеисткой», однако, чтобы описать пережитое ею состояние, «годится только одна фраза – фраза, которая мне не по душе, но другой, более подходящей я не знаю: я почувствовала, что „купаюсь в Божьей любви“». Парадоксальность – один из признаков мистического опыта, и явное противоречие между божественной любовью, которую почувствовала Дайна, и отсутствием у нее «даже крошечной веры» ничуть ее не смущало. Когда я указал ей на это, она пожала плечами и улыбнулась:
– А каким другим образом можно это выразить?
Неудивительно, что видения смерти у больных раком, с которыми мне привелось беседовать и в зубоврачебном колледже, и в медицинском центре Хопкинса, принимают угрожающие размеры. Одна из таких пациенток, женщина лет шестидесяти, перенесшая рак груди (она попросила меня не называть ее имени), описала, как она радостно мчалась сквозь пространство, как это бывает в видеоиграх, пока не наткнулась на стену крематория и вдруг со страхом поняла: «Я умерла и теперь меня собираются кремировать. (Но ведь меня еще никогда не сжигали – откуда я могу это знать? Ведь я же умерла!) И в следующий миг я вдруг осознала, что лежу глубоко под землей в дебрях величественного леса, в коричневато-бурой суглинистой почве. Вокруг меня корни деревьев, и я вижу, как деревья растут, и я являюсь частью их. Я умерла, но лежала в земле среди всех этих корней и не испытывала ни печали, ни радости, а просто была самой собой, удовлетворенной и умиротворенной. Я не исчезла. Я была частью земли».
Некоторые онкологические больные описывали, как они подходили к самому краю бездны смерти и с опаской смотрели на ту сторону, прежде чем отступить назад. Тэмми Берджесс, женщина 55 лет, у которой диагностировали рак яичников, обнаружила себя стоящей перед «великим планом сознания, ясным, безмятежным и красивым. Я чувствовала себя совсем одинокой, но при этом могла вытянуть руку и коснуться любого, кого когда-либо знала. „Так вот где будет протекать моя жизнь, когда придет мое время и жизнь покинет меня“, – подумала я. И мне это казалось нормальным».
Переживаемое людьми под влиянием психоделиков имеет какую-то сверхъестественную власть над ними, и, видимо, этим в известной степени можно объяснить, почему у многих онкологических больных, по их словам, страх перед смертью либо исчезает вообще, либо, по меньшей мере, сильно притупляется. Для них это своего рода генеральная репетиция: они видели смерть своими глазами, смотрели, так сказать, ей в лицо и узнали о ней нечто важное.
– Видение собственной смерти, порождаемое большой дозой психоделиков, – говорит Кэтрин Маклин, одно время работавшая психологом в центре Хопкинса, – это полезный опыт и хорошая практика. Вы теряете все, что для вас было реальным, освобождаетесь от своего эго и своего тела, и этот процесс ощущается вами как умирание.
Заодно этот опыт несет утешительную новость, что по ту сторону смерти есть нечто, будь то «великий план сознания» или прах, покоящийся под землей и питающий корни деревьев, и есть некий незыблемый бестелесный разум, с помощью которого вы все это осознаете.
– Теперь я убеждена, что, помимо нашей, существует и другая «реальность», – сказала исследователю участница испытаний после своих странствий по мирам сознания. – По сравнению с другими людьми это все равно, как если бы я знала еще один язык.
На следующей встрече, состоявшейся несколько недель спустя после психоделического сеанса, Патрик Меттес, которого его жена, Лайза, охарактеризовала как «вполне земную, влиятельную, деятельную личность», обсуждал с Тони Боссисом идею «загробной жизни». Записи, сделанные терапевтом, показывают, что Патрик сравнил свое путешествие с «довольно чистым окном… в загробную жизнь, в нечто, существующее за пределами этого физического тела». Говоря о «плане существования любви», он описывал его как «беспредельный». Во время других встреч, говоря о своем теле и раковой болезни, он охарактеризовал их как «своего рода иллюзию». Было ясно, что, по крайней мере психологически, после сеанса Патрик чувствует себя на удивление хорошо. Он регулярно медитировал, говорил, что теперь ему куда сподручнее жить в настоящем, и «заявлял, что любит свою жену еще сильнее». На встрече, состоявшей в марте, то есть через два месяца после сеанса, Боссис отметил, что Патрик, медленно, но неотвратимо умиравший от рака, «переживает счастливейшие моменты своей жизни».
– Я самый счастливый человек на земле, – заявил он.
В какой мере и насколько должна волновать нас подлинность этих переживаний? Большинство психотерапевтов, участвовавших в этих исследованиях, придерживаются сугубо прагматического взгляда на этот вопрос. Они всецело сосредоточены на том, чтобы облегчить страдания своих пациентов, и выказывают мало интереса к метафизическим теориям или вопросам истины. «Это вне моей компетенции», – сказал Тони Боссис, пожимая плечами, когда я спросил его, считает ли он опыт приобщения к космическому сознанию, описанному его пациентами, вымышленным или реальным. Отвечая на тот же вопрос, Билл Ричардс процитировал слова Уильяма Джеймса, сказавшего, что мы судим о мистическом опыте не по его достоверности, которая непознаваема, а по «его плодам»»: направляет ли он чью-то жизнь в позитивное русло или нет.
Многие исследователи признают, что в том случае, когда такой галлюциногенный препарат, как псилоцибин, вводится не кем-нибудь, а профессиональными медиками, наделенными необходимыми правовыми и институциональными санкциями, то здесь, вероятно, наблюдается сильный эффект плацебо: при таких условиях более чем вероятно, что пациент оправдывает ожидания терапевта. (Да и кошмарные трипы тоже менее вероятны.) Здесь мы сталкиваемся с одним из парадоксов, которыми так богата история испытаний псилоцибина: хотя псилоцибин в немалой степени успешен именно потому, что за ним стоят санкция и авторитет науки, его эффективность, видимо, обусловлена не чем иным, как мистическими переживаниями, убеждающими людей в том, что в мире есть нечто больше того, что в состоянии разъяснить наука. Наука используется лишь для подтверждения того опыта, который, как представляется, подрывает сложившиеся взгляды на то, что можно было бы назвать «шаманизмом белых халатов».
В самом деле, важны ли вопросы истины, если терапия помогает страждущим людям? Мне не привелось встречать в исследовательской среде человека, который был бы обеспокоен такими вопросами. Дэвид Николс, бывший химик и фармаколог из университета Пердью, основавший в 1993 году Научно-исследовательский институт Хеффтера для поддержки психоделических исследований (включая и проводившиеся в центре Хопкинса испытания, для которых он синтезировал псилоцибин), является одним из тех, кто отстаивает прагматический подход самым решительным образом. В интервью журналу Science, которое он дал в 2014 году, Николс сказал: «Если он несет с собой умиротворение, если он помогает людям умереть спокойно в присутствии друзей и членов семьи, мне абсолютно все равно, реальность это или иллюзия».
С другой стороны, Роланд Гриффитс признает, что «подлинность суть вопрос, на который наука еще не ответила. Все, что нам нужно, – это феноменология», то, что рассказывают нам люди о своих внутренних переживаниях. Именно тогда он начал расспрашивать меня о моем собственном духовном развитии, которое, сознаюсь, на тот момент было довольно рудиментарным; я сказал ему, что по убеждению всегда был заядлым материалистом.
– Что ж, прекрасно, ну а как быть с тем чудом, что мы наделены сознанием? Задумайтесь хотя бы на секунду: мы не просто сознательны, но сознаем даже то, что мы сознательны! Вдумайтесь, сколь это невероятно!
Как можно быть уверенным в том, заявил он, что все, связанное с нашим сознанием, «аутентично»? Да никак; это за рамками науки и пока вне ее компетенции, и тем не менее, кто усомнится в его реальности? В сущности, доказательства существования сознания во многом сродни доказательствам реальности мистического опыта: мы полагаем, что он существует, не потому, что наука может самостоятельно удостоверить это, а потому, что в его реальности убеждено великое множество людей; так же и здесь: все, что нам нужно, – это феноменология. Поскольку, заявил Гриффитс, я прибыл сюда ради одного «чуда», находящегося вне компетенции материалистической науки, – «чуда осознания, что внезапно распахнется окно на залитый солнечным светом ландшафт среди ночного небытия», как это описал Владимир Набоков, – то мне, возможно, нужно более открыто и благосклонно относиться к возможностям других людей.
В декабре 2016 года на первой полосе New York Times рассказала о драматических результатах воздействия псилоцибина на онкологических больных, полученных в ходе исследований, проводившихся в медицинском центре Хопкинса и Нью-Йоркском университете. Они были опубликованы в специальном выпуске журнала Journal of Psychopharmacology вместе с десятком хвалебных комментариев от самых видных ученых, работающих в сфере психического здоровья, включая и двух бывших президентов Американской психиатрической ассоциации.
В 80 процентах случаев у больных и в том, и в другом лечебном учреждении было отмечено существенное снижение симптомов тревоги и депрессии, причем этот эффект сохранялся на протяжении по меньшей мере полугода после завершения псилоцибинового сеанса. В обоих исследованиях интенсивность мистических переживаний, о которых сообщали участники, была тесно взаимосвязана со степенью ослабления симптомов. Столь впечатляющие и устойчивые результаты давали лишь очень немногие виды психиатрического вмешательства[57].
Испытания были локальными (в них участвовало всего 80 человек), и их надлежало бы повторить в более широких масштабах; только после этого можно было бы рассчитывать на то, что правительство пересмотрит свое отношение к псилоцибину и одобрит методы лечения на его основе[58]. Однако полученные результаты оказались настолько обнадеживающими, что привлекли к себе внимание сообщества ученых, подвизавшихся на стезе психического здоровья: на первом этапе они оказали пусть и несущественную, но все же поддержку, а потом призвали к дальнейшим и более глубоким исследованиям в этом направлении. Были опрошены десятки медицинских школ и учреждений на предмет их участия в будущих испытаниях, а вскоре нашлись и спонсоры, пожелавшие финансировать эти исследования. После десятилетий пребывания в тени психоделическая терапия вновь становится респектабельной или что-то вроде этого. Администрация Нью-Йоркского университета, с гордостью оповещавшая научное сообщество о результатах испытаний, к которым она когда-то относилась столь недоброжелательно и едва терпела, теперь уговаривала Стивена Росса перенести процедурный кабинет из зубоврачебного колледжа в главное здание больницы. И даже онкологический центр, который вначале весьма неохотно выделял пациентов для испытаний псилоцибина, теперь просил Росса оборудовать на его территории процедурный кабинет для предстоящих испытаний.
В этих работах мало что предлагалось в плане теории для объяснения действия псилоцибина; в них лишь указывалось, что пациентами с наилучшими показателями были как раз те, кто пережил мистический опыт в полном объеме. Но почему именно этот опыт приводит к улучшению состояния больных и избавлению от тревоги и депрессии? Не является ли это указанием на своего рода бессмертие, которым и объясняется этот эффект? Это объяснение кажется слишком простым и не объясняет великого многообразия испытываемых людьми переживаний, многие из которых вообще не касались загробной жизни. И только некоторые из них постигали с позиции природных явлений, что происходит после смерти, как это случилось с безымянной участницей, вообразившей себя «частью земли», молекулой материи, питающей корни деревьев. Это действительно случается.
Разумеется, мистический опыт слагается из нескольких компонентов, большая часть которых не нуждается в сверхъестественных объяснениях. Растворение чувства собственного «я», например, можно понять и объяснить с позиции психологии или нейробиологии (возможно, как распад сети пассивного режима работы мозга), и точно так же можно объяснить многие из преимуществ, которыми пользовались люди во время своих странствий, не прибегая к духовной концепции «единства». Подобным же образом чувство «святости», без которого немыслим классический мистический опыт, можно истолковать с позиции чисто обыденных понятий – например, как слишком обостренное чувство смысла или цели. Мы только начинаем приближаться к пониманию сознания и его особенностей, и ни один из ныне существующих словарей, разъясняющих этот предмет, – ни биологический, ни психологический, ни философский, ни духовно-религиозный, – еще не заслужил право на последнее слово в этом деле. Вполне может быть, что, наслаивая друг на друга различные перспективы и точки зрения, мы когда-нибудь получим красочную картину того, что там происходит.
В 2017 году в журнале Journal of Humanistic Psychology была опубликована работа «Псилоцибиновая терапия: пациенты рассказывают о своих видениях», посвященная дальнейшим исследованиям псилоцибина в Нью-Йоркском университете. Ее автор, Александр Белсер, один из членов команды исследователей, провел ряд бесед с добровольцами, участвовавшими в экспериментальных испытаниях, с тем чтобы лучше понять психологические механизмы, лежащие в основе испытываемых ими трансформаций сознания. Я прочел эту работу в слабой надежде, что смогу нащупать пути выхода из парадигмы мистического опыта, найдя ей более приемлемую гуманистическую замену, а заодно еще раз убедиться, сколь важно для психоделического опыта участие или даже присутствие психотерапевта. (Обратите внимание на термин «псилоцибиновая психотерапия» в названии статьи; ни в одной из работ, опубликованных в журнале Journal of Psychopharmacology, слово «психотерапия» в названии не упоминается вообще, только «наркотики» либо «психоделические препараты».)
Что интересно, в ней появляются новые ключевые темы. Все пациенты из числа опрошенных упоминают о сильных чувствах, которые их связывают с родными и близкими (автор использует в этих случаях термин «двусторонняя встроенность») и, в общем и целом, говорят о том, что «от чувства разобщенности» они пришли к «чувству взаимосвязанности». В большинстве случаев этот переход сопровождается целым букетом сильных эмоций, включая «экзальтированное чувство радости, блаженства и любви». По мере того как чувство страха исчезает, все чаще (причем на самых тяжелых этапах странствий) возникают положительные чувства смирения и приятия (даже самой болезни).
Психиатр Джеффри Гесс, соавтор Александра Белсера, характеризует происходящее во время сеанса, используя такое понятие, как «эголитическое» воздействие псилоцибина, то есть способность препарата полностью подавлять или, по меньшей мере, заглушать голос эго. По его мнению (а оно опирается на солидную психоаналитическую подготовку), эго – это мысленная конструкция, выполняющая определенные функции от имени «я». Самая главная из них – поддержание границ: границ между сознательным и бессознательным царствами ума и границ между «я» и другими, или между субъектом и объектами. И только когда эти границы стираются или исчезают, что, видимо, и происходит под влиянием психоделиков, мы наконец «освобождаемся от жестких стереотипов мышления, обретая возможность с меньшим страхом воспринимать новые смыслы».
Проблема смысла является центральной для терапевтов из Нью-Йоркского университета[59]; особенно она важна для понимания всего переживаемого онкологическими больными в процессе псилоцибиновых трипов. Для многих из них диагноз последней стадии рака олицетворяет, помимо всего прочего, кризис смысла: «Почему именно я? Почему именно мне уготована такая судьба? Есть ли вообще смысл в жизни и в существовании Вселенной?» Под тяжестью глубокого экзистенциального кризиса, когда ум всецело обращается на самого себя, закрываясь от внешнего мира, горизонты больного укорачиваются, его эмоциональный репертуар становится беднее, а фокус сужается. Размышления и беспокойство оказываются в своеобразной петле, где они постоянно вращаются, и эти петли начинают захватывать все большее мысленное пространство и время, усиливая мысленные привычки до такой степени, что от них становится все труднее и труднее избавиться.
Экзистенциальные муки, претерпеваемые больными в конце жизни, во многом схожи с признаками, которые характерны для сверхактивной сети пассивного режима работы мозга, включая и такие, как навязчивая саморефлексия и неспособность перешагнуть углубляющуюся колею негативного мышления. Эго, столкнувшееся с перспективой собственного отмирания, обращается внутрь себя и становится сверхбдительным, изымая, так сказать, свои инвестиции, которое оно вкладывало в этот мир и в других людей. Больные раком, с которыми я беседовал, говорили о чувстве своей изоляции от близких людей, от мира и всего спектра эмоций; ими владело чувство, как выразился один их них, «экзистенциального одиночества».
Временно отключая эго, псилоцибин, по-видимому, открывает новое психологическое поле возможностей, олицетворяемое смертью и повторным рождением, о которых рассказывают многие пациенты. Поначалу отпадение «я» ощущается человеком как угроза для жизни, но, если он отпускает это чувство или сдается на его милость, смиряется, в него втекают мощные и обычно положительные эмоции – вместе с прежде недоступными воспоминаниями, чувственными впечатлениями и смыслами. Не защищаемые больше эго, врата между «я» и другими людьми – «редукционный клапан» Олдоса Хаксли – широко распахиваются, и через них мощным потоком вливается то, что многие люди называют любовью. И это любовь не только к отдельным индивидуумам, но и – как это почувствовал (понял!) Патрик Меттес – ко всему и вся: любовь как смысл и цель жизни, как ключ ко Вселенной и как высшая истина.
Поэтому вполне может быть и так, что потеря «я» ведет к обретению смысла. Можно ли это объяснить с точки зрения биологии? Вероятно, нет, хотя недавние открытия в области нейробиологии открывают ряд интересных возможностей в этом направлении. Вспомним хотя бы открытие, сделанное командой исследователей из Имперского колледжа: они обнаружили, что, когда сеть пассивного режима распадается (а с ней растворяется и чувство «я»), вся система связей мозга значительно усиливается, в результате чего даже те области мозга, которые обычно не участвуют в процессе многостороннего общения, формируют новые линии связи. И так ли уж невероятно, что некоторые из этих новых связей проявляются как новые смыслы или перспективы? Или как соединение некогда удаленных друг от друга точек?
А может быть и так, что психоделики непосредственно наполняют смыслом не относящуюся к делу чувственную информацию. В недавно опубликованной в журнале «Современная биология» (Current Biology) статье[60] описывается эксперимент, в ходе которого его участники, находившиеся под действием ЛСД, слушали песни или фрагменты музыкальных произведений, с которыми у них, как было установлено, не было связано никаких личных ассоциаций. Под влиянием психоделика они, однако, приписывали одним и тем же песням определенный, ярко выраженный и долговременный смысл. Так что, возможно, эти лекарственные препараты помогут нам если не раскрыть, то, по крайней мере, выстроить некий смысл.
Нет сомнения, что внушаемость сознания под действием психоделиков и осязаемое присутствие самих психотерапевтов тоже играют определенную роль в приписывании смысла психоделическому опыту. Подготавливая пациентов к психоделическим трипам, Джеффри Гесс недвусмысленно дает им понять, что речь идет именно об обретении смысла, «что лекарственный препарат покажет вам скрытые или неведомые теневые части вам самих; что вы обретете глубинное познание самих себя и сумеете постичь смысл жизни и существования». (Он им говорит также, что их, возможно, ждут мистические или трансцендентные переживания, но при этом призывает всячески воздерживаться от подобного их определения.) «В результате попадания этой молекулы в ваш организм вы поймете очень многое о самих себе, о жизни и Вселенной». И чаще всего именно так и происходит. Замените научное слово «молекула» на «священный гриб» или «знахарь-травник» – и вот вам несколько заклинаний, произносимых шаманом в начале ритуального обряда исцеления.
Но, как бы это ни действовало и каким бы словарем мы ни пользовались для объяснения этого действия, самым великим даром, даваемым психоделиками больным и особенно умирающим людям, является их способность наполнять все находящееся в сфере нашего опыта возвышенным смыслом и чувством целеполагания и последствий. В зависимости от ориентации человека это можно истолковать или в гуманистическом, или в чисто духовном плане – потому как что есть Священство, как не капиталоемкость глубокого смысла? Психоделики могут наполнить смыслом даже мир таких завзятых атеистов, как Дайна Бейзер (или ваш покорный слуга!), мир, который дано покинули боги, лишив его биения смысла и имманентности, которую они в него вносили. Ощущение холодной и произвольной Вселенной, управляемой чистой случайностью, постепенно исчезает. В нужных руках, и особенно в сочетании с верой, эти лекарственные препараты могут оказаться мощными противоядиями от экзистенциальных страхов, которые терзают не только умирающих.
Верить в то, что жизнь вообще имеет хоть какой-то смысл, – это, конечно, слишком самонадеянно и требует от некоторых людей самоотверженной веры, но такой подход, безусловно, полезен, особенно в преддверии смерти. Помещая свое «я» в более широкий смысловой контекст, что бы он собой ни представлял: чувство единения с природой или универсальную любовь, – можно добиться того, что угасание собственного «я» будет восприниматься и легче, и проще. Религия всегда понимала и принимала эту ставку, но почему только религия должна пользоваться этой монополией? Бертран Рассел писал, что лучший способ преодолеть страх перед смертью – «постепенно расширять свои интересы, делая их более безличными, пока мало-помалу стены эго не падут и ваша жизнь не сольется безраздельно с жизнью Вселенной». И далее он пишет:
«Существование отдельного человека подобно реке: вначале маленький ручеек, едва заметный среди сжимающих его берегов, он, стремительно пробегая мимо скал и изливаясь водопадами, постепенно расширяется, оттесняя берега, течение вод становится все спокойнее, и под конец, без всякой видимой преграды, они вливаются в море и безболезненно теряют свое индивидуальное бытие».
После псилоцибинового сеанса Патрик Меттес прожил год и пять месяцев, и все это время, по словам Лайзы, его жизнь была наполнена великим множеством неожиданных удовольствий, и одновременно в нем все больше росло приязненное отношение к тому, что он умрет.
Лайза поначалу очень настороженно отнеслась к экспериментальным испытаниям в Нью-Йоркском университете, истолковав желание Патрика принять в них участие как знак того, что он отказался от борьбы. В конце концов он вернулся оттуда, убежденный, что ему еще многое предстоит сделать в этой жизни, что он еще недодал и недополучил массу любви и потому не был еще готов к тому, чтобы уйти из жизни, особенно из-за жены, которую он не хотел покидать. Психоделический трип в корне перевернул представления Патрика, сместив узкий фокус его восприятия, нацеленный на перспективу смерти, до понимания того, что оставшееся время необходимо прожить как можно полнее и лучше.
– У него появилась невиданная раньше решимость, – вспоминает Лайза. – Его жизнь обрела некий смысл, он принял его и шел дальше по жизни, держась за него. Споры между нами по-прежнему не утихали, и то лето у нас выдалось особенно трудным. [Это было вызвано тем, что их бруклинская квартира подверглась капитальному ремонту, отнявшему у них много сил.] Это был подлинный ад… но Патрик изменился. У него появилось терпение, которого раньше не было, и вместе со мной он действительно стал радоваться жизни. Словно он вдруг освободился от тягостной обязанности заботиться о мелочах жизни и сбросил с себя все это бремя. Теперь он хотел общаться с людьми, с удовольствием смаковал сандвич и наслаждался прогулками по набережной. Было такое ощущение, словно за год мы прожили целую жизнь.
После псилоцибинового сеанса Лайза каким-то образом убедила себя, что Патрик вовсе и не собирается умирать. Он продолжал посещать сеансы химиотерапии, его настроение улучшилось, но теперь она постоянно думала: «Он ведь прекрасно знал, что у него ничего не получится». Лайза продолжала работать, а Патрик проводил большую часть времени, гуляя по городу. «Он гулял повсюду, посетил чуть ли не все рестораны, обедая в них, и рассказывал мне обо всех открытых им замечательных местах. Но отведенных ему дней становились все меньше и меньше». А в марте 2012 года он сказал, что хочет завязать с химиотерапией.
– Он не хотел умирать, – говорит Лайза, – но я думаю, он просто решил, что не хочет дальше так жить.
Той осенью его легкие начали сдавать, и Патрика положили в больницу.
– Он собрал всех вокруг себя, попрощался и сказал, как именно хочет умереть. И умер в полном сознании, – вспоминала Лайза. Кажущаяся невозмутимость Патрика перед лицом смерти произвела на всех сильное впечатление, и его палата в отделении паллиативной помощи стала центром всеобщего притяжения. – В его палате толклись все, и медсестры и врачи; никто не хотел уходить. А Патрик говорил и говорил. Как будто он был гуру, йогом. И изливал на всех любовь, много любви.
Когда за неделю до смерти Патрика посетил Тони Боссис, последний был поражен царящим в палате светлым настроением и безмятежностью самого Патрика.
– Не я его, а он меня утешал, – рассказал мне потом Боссис. – Он сказал, что больше всего его печалит то, что ему придется расстаться с женой. Но смерти он не боялся.
Лайза прислала мне по почте фотографию Патрика, которую она сделала за несколько дней до его смерти, и, когда на экране монитора появилось изображение, у меня буквально перехватило дыхание. Передо мной был изможденный человек в больничном халате и с кислородной маской на лице, который радостно и широко улыбался, а его голубые глаза лучились светом. Накануне смерти этот человек сиял от счастья.
Лайза проводила в палате Патрика ночь за ночью, и предрассветные часы они часто коротали за разговором.
– Однажды он мне сказал: «У меня такое чувство, что одной ногой я стою в этом мире, а второй в другом», – вспоминает Лайза. – А в одну из последних ночей, когда мы были вместе, он сказал: «Милая, не дави на меня. Я ищу свой путь». – При этом он всячески стремился утешить ее: «Это же просто колесо жизни, – вспоминает она его слова. – Ты чувствуешь, что оно тебя словно придавило, но оно вот-вот повернется – и ты снова наверху».
Лайза уже несколько дней не принимала душ, и ее брат настоял, чтобы она хотя бы на несколько часов приехала домой и привела себя в порядок. Патрик отошел в мир иной буквально за минуту до того, как она вошла в его палату.
– Я уехала домой, чтобы принять душ, а он умер. – (Мы разговаривали по телефону, и я слышал, как она тихо плачет.) – Пока я была там, он и не думал умирать. Это мой брат меня уговорил: мол, предоставь его самому себе.
Когда она вернулась в больницу, Патрик был уже мертв.
– Он умер за несколько секунд до моего появления. Жизнь как будто испарилась из него. Я просидела рядом с ним три часа. Прошло много времени, прежде чем его душа покинула комнату.
– Это была хорошая смерть, – чуть позже сказала Лайза, отдавая тем самым должное специалистам из Нью-Йоркского университета и как бы завершая отчет о псилоцибиновом трипе Патрика. – Я в долгу перед ними за то, что они дали ему возможность пережить все это, дали ему возможность подключиться к глубинным ресурсам. К его собственным глубинным ресурсам. Вот какие чудеса, оказывается, делают психоактивные вещества.
– Начать с того, что Патрик был куда более духовно развитым человеком, чем я, – сказала мне Лайза во время нашего последнего разговора. Было ясно, что его опыт изменил и ее тоже. – Он как бы удостоверил для меня факт существования мира, о котором я ничего не знала. Оказывается, в этом мире гораздо больше измерений, чем я полагала.
Второй трип: зависимость
С десяток или около того астронавтов «Аполлона», долетевших до Луны и ступивших на ее поверхность, удостоились чести лицезреть нашу планету из точки, прежде недостижимой для нашего вида; некоторые из них поведали, что это событие самым глубоким и коренным образом изменило их жизнь. При взгляде на «голубую точку», висящую в бескрайней черноте космического пространства, стираются все национальные границы, нанесенные на наши карты, а сама Земля выглядит маленькой, уязвимой, неординарной и драгоценной жемчужиной.
Эдгар Митчелл, летавший на Луну на корабле «Аполлон-14», пережил, по его словам, мистический опыт, то, что на санскрите называется savikalpa samadhi, когда эго растворяется и исчезает в процессе экзальтированного лицезрения некоего объекта – в данном случае планеты Земля – на фоне необъятной Вселенной.
– Самую большую радость я испытал на пути домой, – вспоминает он. – В иллюминаторе моей кабины каждые две минуты сменяли друг друга Земля, Луна, Солнце и звездная панорама небес. Ошеломляющее, незабываемое зрелище! И вдруг меня осенило: я понял, что молекулы моего тела, моего корабля и молекулы тел моих партнеров были смоделированы, были созданы в древности там, на звездах. [Меня охватило] ошеломляющее чувство единения, взаимосвязи с ними… Не было больше разделения на «они» и «мы», было единое «Это я! Я и все это суть одно». И оно сопровождалось экстазом, чувством, которое мы обычно выражаем словами: «Боже мой, вот это да!» – вроде озарения или прозрения[61].
Именно сила и мощь новой перспективы – той самой, которую Стюарт Брэнд после своего ЛСД-трипа, совершенного им в 1966 году на крыше небоскреба, изо всех сил пытался внедрить в американскую культуру, – породила современное экологическое движение наравне с гипотезой Геи, идеей, что Земля и ее атмосфера представляют собой единый живой организм.
Я раздумывал над этим так называемым эффектом обзора во время моих бесед с участниками псилоцибиновых испытаний, особенно с теми из них, кто после психоделического трипа – или путешествия во внутреннее пространство сознания, если хотите, – избавился от своих зависимостей. Некоторые из них рассказывали, что достигли в своей жизни новой дистанции, той позиции, откуда проблемы (включая и проблему зависимости), которые прежде казались большими и пугающими, теперь выглядят небольшими и более управляемыми. Такое впечатление, что у многих из них психоделический опыт вызвал этот самый эффект обзора, дав им возможность обозревать со стороны эпизоды своей жизни, и поменял их мировоззрение и приоритеты, благодаря чему они начали избавляться от старых привычек, причем иногда с поразительной легкостью. Как сказал мне один заядлый курильщик, выразив это в словах столь простых, что я не поверил своим ушам, «курение исчерпало само себя, потому я и бросил курить».
Экспериментальное исследование среди бросивших курить, – а именно в нем принимал участие человек по имени Чарльз Бессант, не куривший уже на протяжении шести лет, – проводилось под руководством Мэтью Джонсона, протеже Роланда Гриффитса, в медицинском центре Джонса Хопкинса. Джонсон, молодой психолог, которому едва перевалило за тридцать, начинал, подобно Гриффитсу, как бихевиорист, изучая на подопытных крысах такие факторы, как, например, оперантное обусловливание. Высокий, стройный, несколько угловатый, Джонсон носит тщательно подстриженную бороду и большие черные старомодные очки, какие в прежние годы носили только зубрилы, что делает его немного похожим на американского продюсера Айру Гласса. Его интерес к психоделикам берет начало в годы учебы в колледже, когда он прочел Рама Дасса и впервые узнал о гарвардском псилоцибиновом проекте, но он тогда даже представить себе не мог, что однажды будет работать с этим психоделиком в лаборатории.