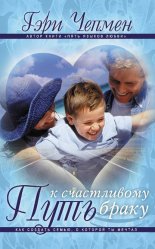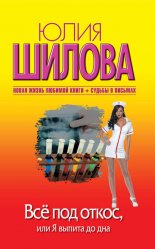Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности Поллан Майкл

Не знаю, как долго длился этот транс, потому как ощущение времени полностью исчезло, но когда Фриц осторожно вернул меня к действительности настоящего момента (он этого добился, заставив меня дышать более медленно и не так натужно), он сообщал, что я находился «в нем» один час пятнадцать минут. Я был раскрасневшийся, весь в поту, но чувствовал себя победителем, словно только что пробежал марафонскую дистанцию; Фриц сказал, что я «прямо-таки лучусь светом» и «свеж, как младенец».
– Главное, вы не сопротивлялись, – одобрительно сказал он, – а это добрый знак.
Я тогда не понимал, что происшедшее за этот час вмещало в себя нечто гораздо большее, чем просто скачка на лошади, но я это почувствовал, потому как пережитое каким-то образом полностью раскрепостило меня физически. Я от чего-то избавился, освободился, с меня был снят какой-то неведомый груз, и в результате я почувствовал себя бодрым и оживленным. И присмиревшим перед лицом этого таинства, потому как здесь была задействована (цитируя Уильяма Джеймса) одна из «форм сознания, совершенно отличная» от обычного сознания и все же неотделимая от него; от обычного бодрствующего сознания она отличалась лишь… чем? Эх, если бы только знать!
Затем случилось нечто непредвиденное и пугающее. Когда Фриц вышел из дома, чтобы приготовить нам ужин, а я, раскрыв ноутбук, собирался записать туда пережитое мной, я вдруг почувствовал, как мое сердце дрогнуло и всколыхнулось, а затем заколотилось как бешеное. Я мгновенно распознал это чувство турбулентности – симптом мерцательной аритмии – и пощупал пульс: он был сумасшедшим. Словно в моей грудной клетке билась в панике птица, бросаясь на ребра-прутья в стремлении вырваться из нее, а я в это время находился неведомо где, посреди пустоты, в десятках миль от хоженых троп.
Это аномальное сердцебиение продолжалось без малого два часа, потому и ужин протекал в состоянии тревоги и подавленности. Фриц выглядел озабоченным; за те сотни сеансов голотропного дыхания, которые он сам проводил и в которых участвовал, он никогда не сталкивался с подобной реакцией. (Во время нашей с ним беседы он припомнил только один случай смертельного исхода, якобы связываемый с голотропным дыханием, но у пострадавшего была ярко выраженная аневризма.) Я начал беспокоиться насчет завтрашнего дня: что меня ждет? И думаю, он тоже был обеспокоен. Хотя вполне резонно предполагал, что моя аритмичная сердечная деятельность и связанные с ней ощущения, должно быть, отражают некий психический сдвиг или «процесс раскрытия сердца». Впрочем, я воспротивился предложенной метафоре, твердо придерживаясь чисто физиологической плоскости: сердце – это насос, и насос этот работает с перебоями. Мы обсудили план на завтра. Фриц предложил уменьшить дозу препарата. «Слишком уж вы восприимчивы, – сказал он, – и чтобы улететь, много вам не надо». Я возразил, что в таком случае я вообще могу отлететь, причем навсегда. И затем, опять же неожиданно, как неожиданно и началось, я почувствовал, как мое сердце успокаивается, вновь входя в накатанную колею привычного ритма.
Той ночью я почти не спал, потому как в голове моей крутился один и тот же вопрос: не будет ли с моей стороны безумием, если утром я продолжу свою затею с ЛСД? Ведь я могу умереть во время сеанса, и не поступлю ли я глупо, решившись на него? Но насколько мне грозит опасность и грозит ли вообще? Теперь сердце мое в полном порядке, и, насколько я могу судить из прочитанного мной, ЛСД в большей или меньшей степени воздействует лишь на мозг, не затрагивая сердечно-сосудистую систему. Впрочем, если оглянуться назад, можно сказать с определенностью: если такой физически трудный процесс, как голотропное дыхание, и выбил мое сердце из привычной колеи, то это имело свой резон[39]. Да, я мог бы перенести свое путешествие в неизведанное на другой раз, но сама мысль об этом сокрушала меня, вызывая неодолимое разочарование. Я зашел слишком далеко, мне даже удалось украдкой на миг заглянуть в иное состояние сознания, и оно так меня заинтриговало, что, несмотря на все свои опасения, я был исполнен страстного желания исследовать его еще глубже.
Этот горячечный спор с самим собой продолжался всю ночь, я перебегал от одного к другому, взвешивал все «за» и «против», но к тому времени, когда солнце встало, пронизав своими лучами иглы восточных сосен, я решился окончательно. За завтраком я сказал Францу, что чувствую себя хорошо и хочу продолжить работу. Мы, однако, сошлись на том, что умеренной дозы – ста микрограммов – будет вполне достаточно, но через час или два, если у меня будет желание, я смогу принять дополнительную дозу.
Фриц отправил меня прогуляться, чтобы я освежил свою голову, а заодно еще раз обдумал свои намерения, а он тем временем вымыл посуду и подготовил юрту к сеансу. Я бродил по лесу целый час; прошедший накануне ночью дождь освежил его, очищенный воздух был полон запахами кедра, а лишенные коры красные ветки толокнянки прямо-таки светились в лучах солнца. Фриц велел мне во время прогулки подыскать какой-нибудь предмет для алтаря. Пока я ходил и подыскивал, я решил, что попрошу Фрица: пусть он даст мне слово, что, если что-то пойдет не так, он тут же позвонит в службу спасения и призовет их на помощь.
Примерно в десять утра я вернулся в юрту с листом толокнянки и гладким черным камешком в кармане, а также с твердым намерением узнать о себе все, что только смогу вынести из своего путешествия в неведомое. К моему приходу Фриц разжег огонь в печи, и помещение начало прогреваться до комфортной для тела температуры. Кроме того, он передвинул матрас, положив его так, чтобы громкоговорители были как раз напротив моей головы. Низким размеренным голосом он начал говорить о том, к чему мне следует быть готовым в процессе путешествия и как справляться с различными трудностями, которые могут возникнуть в ходе его: «паранойей», призраками, жуткими местами, чувством, будто сходишь с ума или умираешь, и так далее.
– Это как если бы вы увидели перед собой горного льва, – сказал он. – Если побежите, лев бросится на вас. Поэтому стойте на месте.
Это напомнило мне кое-какие «предполетные инструкции», которые терапевты в медицинском центре Хопкинса втолковывали своим пациентам: мол, если появится чудовище, не поворачивайтесь к нему спиной, спокойно стойте на месте и обращайтесь к нему: «Что ты делаешь в моем сознании? Чему ты должен научить меня?»
Я положил камень и лист толокнянки на алтарь, где уже покоился бронзовый Будда, окруженный предметами, оставленными предыдущими клиентами, – «чем-то твердым и чем-то мягким», как отозвался о них сам Фриц. Я попросил у него дать гарантии моей безопасности, необходимые для продолжения сеанса, и получил их. После чего он протянул мне чашечку из японского фарфора, на дне которой лежал тонкий квадратик «папиросной бумаги» (еще одна разновидность ЛСД) и половинка второго квадрата – дополнительная доза, или «усилитель». На одной стороне квадрата красовалось изображение Будды, а на другой – изображение какого-то персонажа из мультфильма, мне неизвестного. Я положил квадратик на язык и, набрав в рот воды, проглотил. Хотя Фриц не придавал особого значения церемониям, он, следуя правилу, рассказал мне о «священной традиции», которой я следовал, о преемственности всех племен и народов мира, которые на протяжении долгих времен применяли эти препараты в своих обрядах посвящения. Теперь к ним примкнул и я, решившись впервые в жизни, буквально на пороге своего шестидесятилетия, попробовать ЛСД. Все это создавало чувство некоего обряда, ритуала перехода… перехода к чему, собственно говоря?
Ожидая, когда подействует ЛСД, мы сидели на кромке деревянного настила, охватывавшего юрту, и спокойно говорили о всякой всячине: о жизни в горах; о природе и диких животных, которые тоже заявляли свои права на собственность Фрица, то и дело вторгаясь на его территорию, поскольку собак он не держал: о горных львах, медведях, койотах, лисах и гремучих змеях. Честно говоря, мне это действовало на нервы, и я попытался переменить тему. Дело в том, что я побаивался всей этой живности, и ночью не рисковал идти в туалет, стоявший на отшибе, а справлял малую нужду прямо у крыльца. Поэтому и в эту минуту мне меньше всего хотелось думать о всяких там львах, медведях и змеях.
Часов примерно в одиннадцать я сказал Фрицу, что у меня начинает плыть сознание. Он предложил мне лечь на матрас и надеть наглазники. Едва он включил музыку – нечто в амазонском духе, мягкое, ритмичное, исполняемое на традиционных инструментах, но при этом сдобренное природными звуками (шумом дождя и треском цикад) и в целом создававшее живое пространственное чувство наружного простора, – как я тут же провалился в бездонные глубины своего сознания, оказавшись, словно по волшебству, среди неожиданно материализовавшихся лесных ландшафтов, которые музыка каким-то образом вызвала к жизни. «Странно, – подумал я, – вроде наглазники такая непритязательная техника, а какой мощью обладают, по крайней мере в данном контексте»; действительно, я будто надел не наглазники, а шлем с очками, открывшими мне доступ в виртуальную реальность, куда я тут же и унесся прочь от этих места и времени.
Полагаю, я на какое-то время погрузился в мир галлюцинаций, однако это было совсем не то, что я ожидал от ЛСД и вызываемых им видений, затмевавших все прочее. Но Фриц мне еще до этого разъяснил, что буквальное значение слова «галлюцинация» – «брожение сознания», в чем я в общем-то и убедился на собственном опыте, сохраняя при этом то же необъяснимое чувство безразличия к свободе воли, которое завладевает путником. И все же чувство воли у меня все еще оставалось: я мог по собственной воле менять содержание своих мыслей, хотя в том подвластном внушению сновидческом состоянии, в котором я находился, я бы с радостью отдался на волю местности и музыки и позволил бы им указывать мне путь.
Впрочем, следующие несколько часов музыка именно это и делала, вызывая к жизни целую череду физических ландшафтов, причем одни из них были населены близкими и дорогими мне людьми, а другие я исследовал на свой страх и риск. Большая часть мелодий была соткана из бессвязных созвучий, называемых нью-эйджевской музыкой, – тех ласкающих ухо шумов и звуков, которые обычно слышишь в первоклассном спа-салоне в ожидании массажа, – однако никогда до этого они не казались мне такими прекрасными, не звучали так призывно, так пленительно! Музыка была не просто звуками, а чем-то более великим, значимым, глубоким. Легко и свободно вторгаясь в границы других чувств, она казалась прямо-таки осязаемой и при этом создавала трехмерные пространства, сквозь которые я мог двигаться.
Напев амазонского племени привел меня на какую-то резко поднимавшуюся вверх тропу, прорезавшую чащу красного леса, следуя контурам глубокого оврага, врезавшегося в склон холма серебряным клинком стремительного потока. Мне знакомо это место: эта тропа ведет от Стинсон-Бич, одного из самых популярных пляжей Северной Калифорнии, к горе Тамальпайс. Но не успел я как следует удостовериться в этом, как тропа превратилась во что-то другое. Теперь музыка начала возводить прямолинейную архитектуру деревянных лесов, всякие там горизонтали, вертикали и диагонали, которые волшебным образом гармонично встраивались в общую картину, вырастая уровень за уровнем, один поверх другого, все выше и выше прямо в небо, подобно многоэтажному дому, который строят прямо на дереве и который при этом так же открыт действию ветра и воздушных потоков, как бамбуковые «китайские колокольчики».
Я видел, что каждый уровень олицетворяет очередную фазу нашей совместной жизни с Джудит. Именно так мы и жили, много лет вместе поднимаясь от стадии к стадии, начиная еще с юношеской поры, когда мы встретились в колледже, влюбились, начали жить вместе, затем сочетались узами брака, родили сына, Айзека, стали полноценной семьей, а потом уже переехали из города в сельскую местность. И сейчас, будучи на вершине жизни, я обозревал новую, только начинающуюся стадию, возводимую в полном соответствии с теми же законами; теперь, когда Айзек вырос и покинул дом, начав самостоятельную жизнь, что нам готовит будущее и во что выльется наша совместная жизнь? Я смотрел не отрывая глаз в надежде, что мне откроются заповедные ключи к тому, что нас ждет, но единственное, что я ясно перед собою видел, – это процесс возведения на лесах жизни нового уровня поверх других, обеспечивающих его устойчивость.
Так и длился этот процесс: песня за песней, часами. Что-то исконно коренное, туземное глубокими мистическими звуками диджериду увлекло меня под землю, где я неведомым образом двигался, продираясь через буровато-черный лабиринт древесных корней. Я на мгновение замер: неужели меня ждет что-то ужасное? Неужели я умер и меня похоронили? Если даже так, то меня это нисколько не удручало. Я был поглощен созерцанием белых нитей мицелия, извивавшихся меж корней и связывавших все деревья в сложную сеть, недоступную нашему пониманию. Мне было ведомо все о работе мицелия; я знал, как он создает этот своеобразный древесный Интернет, позволявший деревьям в лесу обмениваться информацией, но то, что прежде казалось лишь интеллектуальной тщеславной задумкой, теперь представало как живая осязаемая реальность, частью которой был я сам.
Когда звуки музыки стали звучать более мужественно, более воинственно, что ли, мое мысленное поле заполнили сыновья, а затем и отцы. Передо мной словно быстро мелькали кадры документально-биографического фильма из жизни Айзека: как он, с рождения невероятно чувствительный мальчик, боролся с самим собой и как его чувствительность обратилась в силу, сделав его таким, каков он есть сегодня. Я думал о том, что мне хотелось бы сказать ему, но чего я до сих пор так и не сказал: и о щемящей сердце гордости, которую я испытал в тот момент, когда он вступил во взрослую жизнь (он уехал в другой город и со временем сделал там карьеру), и о страстной надежде, что он не закоснеет в своем успехе и не отречется ни от своих слабостей, ни от своего добросердечия.
Я почувствовал какую-то тяжесть, давившую на веки, и понял, что наглазники намокли из-за проливаемых мною слез.
В этот момент я был беззащитен и открыт всему миру, и до меня вдруг дошло, что не с Айзеком я разговариваю – вернее, не только с ним, но и с самим собой. Что-то твердое и что-то мягкое – эти понятия продолжали вертеться передо мной, как крутящаяся волчком монета. Помню, вечером, накануне моего отъезда в гостеприимный дом Фрица, я стоял, освещенный огнями юпитеров, на сцене концертного зала и глядел на две тысячи человек, сидевших в зрительном зале; сам же я выступал в роли знатока, способного ответить на любой задаваемый вопрос, того, кто может объяснить все и чьей информации доверяют люди. Примерно ту же роль я играл и в своей семье, когда подрастал, причем не только по отношению к младшим сестрам, но иногда, особенно в пору кризиса, и по отношению к родителям. (Как это ни печально, но сегодня сестры наотрез отказываются верить мне, когда я говорю им: «Не знаю») «Не верите? Так посмотрите на меня!» – думал я, широко улыбаясь: вот он перед вами, взрослый человек с повязкой на глазах, лежащий на полу в юрте психоделического терапевта и пытающийся поспеть за стремительным бегом своего сознания, блуждающего в лесах собственной жизни, в то время как по его щекам – из-за чего, не знаю! – текут горячие слезы.
Я оказался на территории, совершенно мне незнакомой, причем совсем не там, где я рассчитывал оказаться, пускаясь в странствие под действием ЛСД. Я никогда не совершал путешествий, уводивших меня далеко от дома. Вот и сейчас вместо демонов, ангелов и прочих сущностей, встречу с которыми я предвкушал, мне пришлось встречаться с родными, близкими и членами семьи. Я навещал каждого по очереди, музыка задавала тон наших встреч, и на меня бурными волнами накатывались эмоции – чувство обожания (в отношении сестер и матери, которые предстали передо моим внутренним взором сидящими за столом в виде лошадиной подковы, – как на заседании ассамблеи ООН! – причем каждая олицетворяла различные идеалы женской силы), чувство благодарности или сострадания, особенно по отношению к отцу, человеку, гонимому и преследуемому большую часть своей жизни, человеку, которого до этого момента я никогда не представлял себе как сына, тем более как сына непомерно требовательных родителей.
Этот прилив сострадания был таким полноводным, что он вышел из берегов и широко разлился, просочившись в совершенно неожиданные места, такие, например, как четвертый класс музыкальной школы, в которую я ходил в детстве. Здесь необъяснимым образом я снова встретился с бедным мистером Ропером, очень серьезным молодым человеком, всегда ходившем в недорогом костюме, купленном на распродаже, который, несмотря на свои героические усилия, никак не мог втемяшить в наши головы, почему оркестр делится на секции, которые он рисовал на школьной доске, или втолковать нам особенности и характер различных инструментов в симфонической сказке Прокофьева «Петя и волк», сколько бы раз он ее для нас ни ставил. Пока он возбужденно расхаживал по классу из конца в конец, мы затаив дыхание ждали, когда же он наступит на одну из канцелярских кнопок, которые мы разложили у него на пути, – забава, за которую мы рисковали быть оставленными в школе после занятий. Но кто такой, собственно говоря, этот мистер Ропер? Почему мы не видели в этой комичной фигуре, которую мы немилосердно тиранили, порядочного и скромного парня, стремившегося только к одному: привить нам страсть к музыке? Бездумная детская жестокость вызвала во мне дрожь стыда, быстро пронизавшую все мое тело. И потом: какой переизбыток сострадания, должно быть, таится во мне, если я уделил такую его часть мистеру Роперу!
И гребнем над всеми этими встречами вздымалась, как вода за плотиной, пока она не прорвалась мощным каскадом, лавина любви – любви к Джудит, Айзеку и ко всем членам моей семьи, любви даже к моей невыносимой бабушке и ее многострадальному мужу.
На следующей день, в рамках притирки друг к другу, Фриц прочел мне две выдержки из своих записей – две фразы, громко произнесенные мной в начале «кислотного трипа»: «Не хочу быть таким скупым на чувства» и «Все это время я беспокоился лишь о своем сердце. А как же быть с сердцами других людей в моей жизни?»
Честно говоря, мне как-то неловко писать эти фразы: они слишком неубедительны, слишком банальны. Я отношу их к недостаткам своего языка, хотя, возможно, дело не только в этом. Известно, что психоделические видения очень трудно выразить словами, и любая попытка сделать это неизбежно оборачивается актом насилия по отношению к тому, что было увидено и прочувствовано, потому как все это в основе своей является чем-то, что или предшествует языку, или не нуждается в нем, или, как сказали бы студенты-мистики, вообще невыразимо. Короче говоря, меня захлестывали эмоции во всей их новорожденной наготе, беззащитные в лучах резкого света испытующего взгляда и (особенно) безжалостного блеска иронии. Поэтому банальности, которым, казалось бы, самое место на поздравительных открытках компании «Холлмарк», высвечиваются здесь с силой откровения самой истины.
Любовь суть все.
Прекрасно, но чему же еще ты научился?
Чему еще? Нет, ты, должно быть, не расслышал: любовь и есть все!
Неужели глубоко прочувствованная банальность так и остается банальностью? Нет, решил я. Банальность – это то, что остается от истины после того, как из нее удалены все эмоции. Насытить эту высохшую шелуху чувством – значит снова увидеть ее такой, какая она есть: самой прекрасной и глубоко укоренившейся истиной, скрытой под непритязательной оболочкой. Духовное озарение? Возможно, и так. Во всяком случае, именно в таком виде все это явилось мне в процессе моего странствия в глубины сознания. Вероятно, психоделики способны превратить самого циничного из нас в пламенного евангелиста, провозвестника очевидного.
Некоторые, вероятно, скажут, что этот «наркотик» отупляет, одурманивает человека, но я после столь, казалось бы, банального и сентиментального путешествия, изобиловавшего довольно тривиальными ландшафтами, так не думаю, потому как что такое, в конце концов, банальность и ироничный взгляд на вещи, как не два самых прочных защитных барьера, которые воздвигает эго взрослого человека, чтобы не дать ему переполниться и захлебнуться – или обилием эмоций, или, возможно, приливом чувств, которые способны в любой момент удивить нас известием об очередном чуде света. Чтобы справляться с заботами и треволнениями дня, все воспринимаемое нами следует рассовывать по ящичкам с аккуратными наклейками «Уже известное» (туда следует быстро укладывать все то, что не наводит мысль о чудесах) и «Нечто новое» (туда, понятное дело, следует укладывать все то, что требует от нас дополнительного внимания, пока оно не утрачивает в наших глазах интерес). Так вот, психоделики способны перемешать все эти ящики или устранить их вовсе, способны открыть и отмести за ненадобностью даже самые знакомые предметы и явления, выворачивая их, ставя их с ног на голову и творчески очищая, пока они снова не засияют чистым первородным блеском. Можно ли считать напрасной потерей времени такую повторную классификацию известного? Если даже и так, то ведь здесь присутствует изрядная доля творчества. Мне кажется, такая реновация заключает в себе огромную ценность; и эта ценность возрастает по мере того, как мы становимся старше и начинаем задумываться над всем увиденным и прочувствованным за эти годы.
Как бы то ни было, но с уверенностью могу сказать, что сто микрограммов ЛСД не привели меня к Богу и не усадили на его колени, как некогда Лео Зеффа; не сделала этого, увы, и дополнительная доза (еще пятьдесят микрограммов, которые я поспешно принял в надежде еще глубже забраться в недра сознания). Я так и не достиг трансцендентного, «недвойственного» или «мистического» состояния, поэтому, когда на следующее утро я предпринял (под присмотром Фрица) вторую попытку достичь цели, мной владело некоторое разочарование. Однако новый план сознания, на который меня выбросило и который я неутомимо исследовал в течение нескольких часов, оказался гораздо более интересным, приятным и, как мне кажется, полезным для меня. Конечно, меня больше прельщала мысль понять, насколько длительными и долговечными окажутся для меня последствия пребывания на этом плане, но оказалось, что пережитое мной полностью раскрыло меня и мою сущность, причем с самой неожиданной стороны.
Поскольку «кислота» не растворила мое эго полностью, я не потерял способности перенаправлять поток своего сознания или осознания: в сущности, оно все время оставалось моим. Но сам поток ощущался совсем другим, менее доступным действию воли и не подверженным вмешательству извне. Это состояние напомнило мне о приятном и в то же время пугающем психическом пространстве, которое иногда открывается внутри нас ночью, когда мы буквально балансируем между состояниями бодрствования и сна, находясь в объятиях так называемого промежуточного, или гипнагогического, сознания. Это тот момент, когда эго, кажется, вот-вот сдаст свои позиции, а вслед за ним отступит и разум, оставив поле сознания без контроля и надзора, уязвимым для мягкого вторжения сновидческих образов и галлюцинаторных обрывков повествования. Теперь представьте, что это состояние расширилось безмерно, но при этом вы сохраняете способность направлять свое внимание то на одно, то на другое, как это происходит, скажем, в каком-то особенно ярком и захватывающем видении. Но в отличие от видения или мечты вы полностью соотносите себя с содержанием развертывающегося повествования, неизменно пребывая в нем и не отвлекаясь на внешние факторы. У меня не было другого выбора, кроме как повиноваться и следовать логике этого сна наяву, его онтологическим и эпистемологическим правилам, пока под влиянием то ли воли, то ли свежих мелодий и новой песни психический канал не менял свое русло и я не оказывался в совершенно другом месте.
Вот что происходит, сдается мне, когда эго ослабляет свою хватку, которой оно держит сознание, но полностью не отпускает его, и обусловлено это, вероятно, чуть большей дозой ЛСД. «И на какой-то блаженный миг этот вечно путающийся в ногах невротик, который в часы бодрствования пытается править балом, был устранен с пути», как выразил это Олдос Хаксли в «Дверях восприятия». Устранен, но не полностью, как в моем случае, хотя ЛСД существенно приглушил его повелевающий голос, после чего в этом слегка регулируемом пространстве начали появляться всякого рода интересные вещи – вещи, которым любое уважающее себя эго, вероятно, просто не позволило бы всплыть на поверхность.
В тот раз я принял психолитическую дозу ЛСД, ту самую, которая позволяет пациенту исследовать свою психику не в насильственной, а в расчетливой и продуманной манере, сохраняя при этом достаточный контроль над сознанием и речевой функцией, чтобы иметь возможность говорить об этом. Мне это напоминало не столько видения, вызванные наркотиком, – сам по себе ЛСД совершенно безобиден и не вызывает никаких физиологических шумов, с которыми у меня ассоциируются другие психоактивные препараты, – сколько новый способ познания, находящийся где-то между интеллектом и чувством. Под влиянием ЛСД я вызвал из небытия несколько самых близких мне людей, и в присутствии каждого из них мной овладевали куда более сильные эмоции, чем те, которые меня одолевали до этого. Плотина была прорвана, и на меня нахлынуло чудесное чувство свободы и раскрепощения. И опять же, в ходе этих встреч мне было явлено несколько подлинных откровений (вроде откровения об отце как сыне своих родителей), претворившихся в акт воображения (сопереживания), который даже взрослые дети редко выказывают по отношению к своим родителям – ни подле, ни на расстоянии. Еще во время нашей притирки друг к другу Фриц упомянул о том, что некоторые люди под действием ЛСД переживают нечто, что по своему характеру и содержанию скорее напоминает сеанс с МДМА, чем классический психоделический трип, так что вполне возможно, что на мою долю достался именно такой опыт, а не что-то другое. Сама идея ужать годы изучения психотерапии до нескольких часов казалась правильной, особенно в то утро, которое мы с Фрицем провели, тщательно разбирая сцены и эпизоды моего странствия.
Сидя за рулем арендованной машины и направляясь в аэропорт, чтобы улететь домой, я испытывал чувство облегчения и благодарности – оттого, что все пережитое мною оказалось столь безобидным (я умудрился выжить, так и не разбудив спящих монстров своего сознания!) и столь плодотворным. Весь тот день и добрую часть следующего в моем психологическом климате доминировала область высокого давления, питавшая чувство бодрости и благополучия. Джудит сочла, что я не в меру болтлив и благодушен. Действительно, свойственное мне нетерпение куда-то исчезло, и своей медлительностью за столом я мог бы запросто затмить ее, потому как не вскакивал, как обычно, после ужина, чтобы помыть посуду, а переходил от одного дела к другому неторопливо и вдумчиво. Полагаю, это было то самое послесвечение, о котором я читал, и в течение нескольких дней оно бросало на все вокруг приятный глазу, как в театре, свет, выставляя все знакомое и обычное так, что во мне росло чувство необыкновенной… благодарности.
Впрочем, оно было недолгим, и вскоре я, как и следовало ожидать, испытал разочарование по поводу того, что полученный опыт не слишком уж меня преобразил. Мне было дано лишь слегка отведать иного бытия – менее сильно защищенного, сказал бы я, и более насущного. И теперь, когда я свел знакомство с дотоле неведомой для себя территорией и вернулся из этой первой вылазки более или менее невредимым, я решил, что пора двигаться дальше.
Второй трип: псилоцибин
Мой второй трип начался с алтаря, расположенного в центре двухэтажной чердачной квартиры в маленьком городке на Восточном побережье США. Владелицей алтаря была привлекательная белокурая женщина с длинными, разделенными пробором волосами и высокими скулами, о которых я упоминаю только потому, что в дальнейшем они будут фигурировать в процессе ее трансформации в мексиканскую индианку. Сидя у алтаря напротив меня с закрытыми глазами, Мэри нараспев читала длинную витиеватую индейскую молитву, с помощью которой она вызывала духов каждой из сторон света, четырех земных элементов, а также животного, растительного и минерального царств, чтобы они направляли меня в моем странствии по психическим мирам.
Мои глаза тоже были закрыты, но время от времени я не мог удержать любопытства и украдкой осматривал окружающую обстановку: комнату со стенами бледно-зеленого цвета, уставленную цветами в горшках и различными символами женской силы и плодородия; покрывавшую алтарь вышитую ткань фиолетового цвета из Перу и коллекцию разложенных на нем «экспонатов», в их числе аметист в форме сердечка, темно-синий кристалл, служивший в качестве подсвечника, чашечки, наполненные водой, вазочка с кусочками черного шоколада, два «священных предмета», которые я по ее просьбе принес с собой (статуэтка бронзового Будды – ее подарил мне мой близкий друг, который привез ее из путешествия по странам Востока, и скругленная пластинка псилоцибина – ее дал мне Роланд Гриффитс при нашей первой встрече); и, прямо напротив меня, старинную тарелку, украшенную цветочным узором, весьма популярным во времена наших бабушек: на ней лежал самый большой псилоцибиновый гриб, какой мне когда-либо доводилось видеть, и мне было трудно поверить, что именно его мне и предстояло съесть целиком.
Помимо названных предметов на алтаре лежали также веточка шалфея, щепка пало санто – ароматического южноафриканского дерева, которое индейцы жгут во время совершения священных обрядов, и крыло черной вороны. В разные моменты священнодействия Мэри зажигала то шалфей, то щепку санто пало и затем, пользуясь крылом птицы, «окуривала» меня ароматным дымом – гнала духов через пространство прямо к моей голове. Крыло, которым Мэри махала у моего уха, издавало какой-то загадочный потусторонний свист, жуткий звук, обычно издаваемый крыльями большой птицы, проносящейся слишком близко от тебя, или темным духом, изгоняемым из тела.
Я понимаю, что вся эта сцена, должно быть, выглядела до смешного нелепо, но та убежденность, с которой Мэри совершала свое священнодействие, вместе с ароматом возжигаемых растений и свистом крыла, гнавшего волны дыма (включая и мою нервозность по поводу предстоящего «путешествия»), – все это завораживало и околдовывало, рассеивая мое недоверие. Я еще раньше решил полностью отдаться и на милость этого большого гриба, и на волю Мэри, «проводника», которому я бесповоротно вверял свою психику на время странствий, поэтому всю эту церемонию я воспринимал как некое алхимическое действо. В этом смысле Мэри скорее играла роль шамана, нежели психолога. Ее мне порекомендовал один терапевт с Западного побережья, с которым мне довелось познакомиться и беседовать, – раввин, заинтересовавшийся моими изысканиями и взявший на себя заботу о моем психоделическом воспитании. Мэри (она была примерно моего возраста) училась вместе с тем самым восьмидесятилетним (или около того) студентом Тимоти Лири, у которого я когда-то брал интервью и который решил, что до ее уровня я еще не дорос. Если судить о Мэри по тому, что написано, может показаться, что так оно и есть, однако что-то в ее манере поведения, равно как ее рассудительность, уравновешенность и ее явное сострадание, вызывало у меня в ее присутствии чувство покоя и умиротворения.
До того как заняться медициной (ей в тот момент уже исполнилось 50 лет), Мэри практиковала целый набор терапевтических методов движения нью-эйдж, от энергетического целительства и духовной психологии до терапии «семейных расстановок»[40]. («Медицина – тот клей, который скрепил воедино все прочие аспекты работы, которую я выполняла».) И все это время она обходилась без психоделиков: психоделик она попробовала только однажды и очень давно – в колледже, в возрасте 21 года, на вечеринке, устроенной ею по случаю дня рождения. Подруга подарила ей баночку меда, перевязанную шнурком, на котором были нанизаны псилоцибиновые грибы. Мэри тут же поднялась в свою комнату, съела два или три гриба и «испытала глубочайшее потрясение, встретившись и слившись с Самим Богом. Я была Богом, а Бог был мной». Подруги, праздновавшие день рождения внизу и обеспокоенные ее отсутствием, поднялись и долго стучали в ее дверь, но Мэри в это время была очень далеко.
Выросшая в одном из пригородов Провиденса, Мэри в детстве была истой католичкой, пока вдруг не «осознала, что [она] девушка», – факт, который отвратил ее от католических богослужений, которым она была так привержена. С тех пор ее религиозность пребывала в сонном состоянии – до появления той самой баночки с медом, которая, как сказала она мне при первой встрече, «изменила меня полностью. Я снова погрузилась в то, с чем не чувствовала себя связанной со времен детства». Это повторное пробуждение к религиозной жизни привело ее на путь тибетского буддизма и побудило ее принять обет посвященного – «помогать всем разумным существам на пути их пробуждения и просветления, обет, который до сих пор является моим призванием».
И вот теперь перед ней в ее приемной комнате сидел я собственной персоной, еще одно разумное существо на палубе ковчега жизни, сидел в надежде пробудиться. Я рассказал ей о своих намерениях: узнать о себе все, что только можно, о себе, о природе своего сознания и о его «межличностном» пространстве, если только таковое существует.
– Грибной терапевт – это тот, кто помогает нам понять, кто мы есть на самом деле, – сказала Мэри. – Он возвращает нас к цели нашей души, ради которой мы и находимся здесь, в этом воплощении.
Представляю, как человек посторонний воспринял бы эти слова! Но к этому времени я уже привык к жаргону и фразеологии движения нью-эйдж, вероятно потому, что за этими затасканными и порядком истертыми словами узрел некий потенциал, нечто значительное. К тому же меня впечатлили ум Мэри и ее профессионализм. Помимо письменного согласия на стандартные «договоренности» (беспрекословно подчиняться ее указаниям в течение всего периода работы; не покидать комнаты, пока не получу на это разрешения; отказ от сексуальных связей и так далее, и так далее), мне пришлось заполнить подробную медицинскую карту, дать расписку о том, что всю ответственность я беру на себя, а кроме того, заполнить 15-страничную автобиографическую анкету, на что ушла добрая половина дня. В результате я почувствовал, что нахожусь в надежных руках, пусть даже эти руки хлопали над моей головой крылом черной вороны, окутывая ее благовониями.
Да, я сидел перед алтарем и смотрел на гриб, сильно сомневаясь, что смогу проглотить его целиком. Он был длиной пять или шесть дюймов, а его шляпка была размером с мячик для гольфа.
– А нельзя ли накрошить гриб в стакан, залить его горячей водой и выпить как чай? – спросил я.
– Можно, конечно, но в данном случае лучше полностью сознавать, что делаешь и как, – ответила она, – а это значит, что нужно съесть гриб таким, как он есть, то есть прямо из земли, откусывая каждый раз по маленькому кусочку. Сначала внимательно рассмотри его, а затем начинай есть – со шляпки.
Чтобы вкус гриба не казался таким противным, она разрешила мне его заедать, предложив на выбор мед или шоколад; я выбрал шоколад. Мэри сказала, что этот гриб она получила от своего друга; он выращивает псилоцибиновые грибы и освоил это искусство много лет назад, закончив практический семинар по выращиванию грибов под руководством Пола Стеметса. Похоже, что любые два человека в этом мире разделены между собой двумя-тремя рукопожатиями.
Гриб был сухой, как песок пустыни, и вкусом напоминал картон с привкусом земли, но мне помогало то, что грибную плоть я тут же заедал кусочком шоколада. Я съел его весь, то есть примерно два грамма, – за исключением шишковатого нароста у основания ножки. Правда, Мэри рассчитывала дать мне еще один гриб, то есть еще два грамма, что в итоге составило бы четыре, – примерно ту самую дозу, которую получали добровольцы на испытаниях в Нью-Йоркском университете и медицинском центре Хопкинса; она эквивалентна трем сотым микрограмма ЛСД, то есть вдвое больше той дозы, которую я принимал у Фрица.
Мы тихо разговаривали минут двадцать или около того, и вдруг Мэри заметила, что мое лицо покраснело; она тут же предложила мне лечь и надеть наглазники. Я выбрал пластиковые черного цвета, что, как теперь я понимаю, было с моей стороны ошибкой. По периметру они были выложены мягкой поролоновой черной резиной, которая не пропускала ни грана света, поэтому, отрыв глаза, ты видел перед собой непроницаемую тьму. Маска для релаксации фирмы Mindfold – так полностью называлось это высокотехнологичное изобретение; по словам Мэри, маску специально разработал и создал с этой целью художник-психоделист Алекс Грей.
Как только Мэри поставила первую песню – скучную, невыразительную композицию в духе нью-эйдж, исполняемую певцом по имени Тьерри Давид (позже я узнал, что он трижды номинировался на премию в категории «Лучший альбом в жанре чилл-н-грув»), – меня тут же занесло в какой-то ночной урбанистический ландшафт, сильно смахивавший на те, которые создает компьютерная программа. И опять звук породил пространство («В начале была нота», – помню, подумал я с глубоким чувством), и электронная музыка Тьерри (или то, что я принимал за таковую) вызывала в моем воображении обезлюдевший футуристический город, причем каждая нота формировала еще один мягкий черный сталактит или сталагмит, которые все вместе напоминали горельефный звуконепроницаемый материал, используемый обычно для обивки стен в звукозаписывающих студиях. (Черный пенопласт, образующий этот рельефный ландшафт, был, как я понял позже, тем же самым материалом, которым были выложены мои наглазники.) Я без усилий двигался через этот цифровой ночной пейзаж, словно находился в какой-то антиутопии, созданной в рамках видеоигры. Хотя это место не внушало особого страха и даже обладало определенной, пусть и несколько сглаженной красотой, мне было крайне неприятно находиться здесь и я бы хотел оказаться где-нибудь еще, но проходили часы, как мне казалось, даже вечность, а исхода не предвиделось. Я сказал Мэри, что мне не по душе электронная музыка, и попросил ее поставить что-нибудь другое, но, хотя с новой музыкой тональность чувства изменилась, я по-прежнему безвылазно сидел в этом лишенном солнца компьютерном мире. Почему, ну почему я не могу из него выбраться? И оказаться на природе? Поскольку я всегда недолюбливал видеоигры, эта ситуация, это изгнание из Эдемского сада казались мне жестокими: ни тебе растений, ни людей, ни солнечного света.
Нельзя сказать, чтобы компьютерный мир был вообще неинтересен для исследователя вроде меня. Я с глубоким трепетом наблюдал за тем, как музыкальные звуки один за другим прямо на моих глазах превращались в осязаемые формы. Навязчивая музыка была главным божеством этого места, его творящей силой. Даже композиция в духе нью-эйдж, больше подходящая для спа-салонов, обладала способностью творить в пространстве фрактальные узоры, и это пространство ширилось, росло, разветвлялось и множилось до бесконечности. Странно, но все, находившееся в поле моего зрения, было окрашено в черный цвет, хотя даже в переплетении множества различных теней оно было легко различимо. Я свободно носился по этому миру, созданному математическими алгоритмами, и сам этот факт придавал ему какую-то чужеродную, лишенную жизни красоту. Но что это за мир? Чей он? Только не мой! И я начал задаваться вопросом: в чьем же мозге я нахожусь? (Пожалуйста, только не в мозге Тьерри Давида!)
«Вся эта ситуация может легко принять ужасающий оборот», – пришла мне в голову мысль, и вместе с ней во мне начало нарастать смутное чувство тревоги. Припомнив «предполетные инструкции», я сказал себе: «Делать нечего. Отбрось все тревоги и отдайся на милость ситуации. Расслабься и плыви по течению». Это совершенно не походило на то, что мне пришлось пережить в прошлые разы, где я более или менее чувствовал себя капитаном своего корабля и мог управлять своим вниманием, направляя его то туда, то сюда и меняя по своей воле проводящий психический канал. Эта же ситуация больше походила на то, как если бы меня усадили намертво в переднюю машину на космических «американских горках», привели в движение, и теперь в каждый отдельный момент только ее прихотливая стремительная траектория решала, что именно появится в поле моего сознания.
В сущности, эта метафора не совсем точна: все, что мне нужно было сделать, – это убрать наглазники, и реальность (или, по крайней мере, то, что ее создавало) сразу бы перестроилась. Что я, собственно, и сделал – не столько для того, чтобы убедиться, что этот мир по-прежнему существует, сколько из-за того, что мне жутко захотелось в туалет.
Солнечный свет и краски дня ударили мне в глаза, и я жадно впитывал их взглядом, обозревая комнату в поисках хорошо знакомых мне признаков нецифровой реальности – стен, окон, растений. Но все они предстали перед мной в новом аспекте – раскрашенные светом. Слава богу, я быстро догадался надеть очки, и они хотя бы отчасти придали окружению домашний вид, но только отчасти: предметы все равно продолжали усеивать пространство брызгами света. Я осторожно поднялся с матраса, сначала на колени, затем, чуть покачиваясь, на ноги. Мэри взяла меня за локоть, как обычно берут стариков, и вместе мы совершили небольшое путешествие по комнате, направляясь в ванную. Я избегал смотреть на нее, боясь, что прочту на ее лице нечто неприятное для себя или, наоборот, выдам нечто сокровенное своим. У двери в ванную она наконец отпустила мой локоть.
В ванной моим глазам предстало сверкающее буйство света. Я взял душ, поставил его в наклонном положении, и эта изгибающаяся аркой струя воды показалась мне самым прекрасным из всего, что я когда-либо видел, – водопадом алмазов, каскадом низвергавшихся в поддон, дробя поверхность воды миллионами звенящих частичек света. Казалось, это длилось целую вечность. Остановив поток алмазов, я подошел к раковине и ополоснул лицо водой, стараясь не смотреть на свое отражение в зеркале, что чисто психологически казалось мне несколько рискованным. Все еще покачиваясь, я вернулся назад и улегся на матрас.
Мягким, вкрадчивым голосом Мэри спросила, не хочу ли я добавки. Я сказал, что хочу, и принял сидячее положение. Мэри сидела на корточках рядом со мной, и когда я, наконец, поглядел ей в лицо, то увидел, что она вдруг превратилась в Марию Сабину, ту самую мексиканскую curandera, которая 60 лет тому назад в грязном подвале в Хуатла-де-Хименес дала Гордону Уоссону дозу псилоцибина. Черные волосы обрамляли ее скуластое лицо с натянутой, словно пергамент, кожей, казавшееся древним, словно обветренным ветрами времени, а тело прикрывало простое белое крестьянское платье. Я взял из ее морщинистой коричневой руки сухой гриб, сунул его в рот и, отвернувшись, начал жевать. «Пожалуй, лучше не говорить Мэри об этой метаморфозе», – подумал я. (Позже, однако, я все равно рассказал, и Мэри, выслушав мой рассказал, залилась румянцем: Мария Сабина была ее кумиром.)
Но, прежде чем надеть наглазники и вернуться в уютную тьму, мне нужно было кое-что сделать, а именно: провести над собой один небольшой эксперимент, о чем я заранее предупредил Мэри. Я не был уверен, что в моем нынешнем состоянии это мне удастся, но, как я уже убедился, даже на пике странствий можно было в течение нескольких секунд привести себя в подобие нормального состояния.
У меня на ноутбуке имелся один коротенький клип, где была заснята вращающаяся в пространстве маска лица (клип обычно используют во время психологического теста, носящего название «бинокулярная инверсия иллюзии глубины»). Когда маска вращается в пространстве, поочередно поворачиваясь то своей выпуклой, то вогнутой поверхностью, происходит нечто удивительное: ее вогнутая сторона предстает взгляду как выпуклая. Этот трюк проделывает наше сознание, точнее – наш ум, который находится во власти иллюзии, что все поверхности выпуклые, поэтому он автоматически корректирует кажущуюся ошибку – если только, как сказал мне один нейрофизиолог, человек не находится под влиянием психоделика.
Автоматическая коррекция – сущностное свойство нашего восприятия, которое (это обычно характерно для здравого, рассудочного ума взрослого человека) в той же степени основывается на обусловленных образованием догадках и предположениях, как и на необработанных данных, поставляемых органами чувств. К тому времени, когда ребенок становится взрослым, его ум настолько хорошо приноравливается к окружающей реальности, что не только приучается наблюдать за ней и исследовать ею, но и учится делать вполне обоснованные предсказания относительно самой этой реальности, что позволяет нам оптимизировать расход энергии (психической и прочей), а стало быть, способствует нашему выживанию. Поэтому наш ум, не удосуживаясь выстраивать с нуля новое представление, основанное на необработанных данных, поставляемых органами чувств, сразу же переходит к разумному умозаключению, взяв для затравки лишь небольшую толику этих данных и полностью опираясь на свой прошлый опыт. Наш мозг – это машина предсказаний, оптимизируемая нашим жизненным опытом, и когда речь заходит о лицах, многовековой опыт ему подсказывает: лица всегда выпуклые, а не полые, поэтому полая маска, должно быть, является той вполне предсказуемой ошибкой, которую необходимо исправить.
Поэтому эти так называемые байесовские выводы (названные по имени Томаса Байеса, английского математика и философа XVIII века, создавшего математическую теорию вероятности, на которой и основываются эти психические предсказания) исправно служат нам большую часть времени, ускоряя процесс восприятия с целью экономии усилий и энергии, но они с таким же успехом могут и обмануть нас, заманив в ловушку предвзятых и заведомо лживых образов реальности, как это происходит в случае с вращающейся маской.
Однако, как оказывается, байесовский принцип срабатывает далеко не всегда: некоторые люди (шизофреники, например, или, если верить некоторым нейрофизиологам, те, кто принимает большие дозы психоделиков) не «видят» реальность в свете, обусловленном предсказуемыми выкладками. (К их числу относятся и малые дети, которые еще не наработали базу данных, необходимую для обоснованных предсказаний.) Но здесь возникает один весьма интересный вопрос: возможно ли, что восприятие шизофреников, людей, сидящих на психоделиках, и детей (по крайней мере, в некоторых случаях) более точно, то есть менее обусловлено ожиданием и потому более близко к реальности, чем восприятие трезво- и здравомыслящих взрослых людей?
Прежде чем начать сеанс, я прокрутил этот клип, записанный на моем ноутбуке. Маска, вертевшаяся на экране, серая на черном фоне, несомненно являлась продуктом компьютерной анимации и удивительно удачно сочеталась с визуальным стилем того компьютерного мира, в котором я побывал. (На следующий день, во время нашего с Мэри общения ради лучшей притирки, она предположила, что, возможно, именно этот образ маски и создал весь этот компьютерный мир в моем воображении и завлек меня туда. Мол, более лучшей демонстрации влияния установки и обстановки и придумать трудно.) Так вот, по мере того как маска поворачивалась и ее выпуклая сторона заменялась полой, последняя тоже представала моему взгляду как выпуклая, но этот процесс происходил несколько медленнее, чем раньше, до того как я съел гриб. Очевидно, байесовский принцип все еще доминировал в моем мозге. Что ж, придется повторить эксперимент чуть позже.
Когда я лег на матрас, прикрыв глаза наглазниками, то, к своему немалому удивлению, вновь оказался в компьютерном мире, но на этот раз в нем что-то изменилось, и эта метаморфоза, несомненно, была обусловлена действием добавочной дозы. Если раньше ландшафт, по которому я странствовал, казался мне частью меня самого и всю сцену я воспринимал тоже с точки зрения меня самого, так что в целом мое отношение к происходящему не искажалось (сюда можно отнести весьма критичное отношение к музыке, например, или опасения, что вот-вот появятся демоны), то теперь мое привычное «я» и все воспринимаемое им начало рассыпаться прямо на моих глазах, сначала медленно, а затем все более и более ускоряясь, пока раз! – и не рассыпалось совсем.
«Я» теперь обратилось в стопку квадратных бумажек размером с канцелярские, обычно используемые для записей и закладок, и все они под порывами ветра разлетались по сторонам. Но нынешнее «я», участвующее в этой кажущейся катастрофе, не обнаруживало никакого желания гоняться за этими листочками, чтобы водворить их на место и там самым восстановить мое былое «я». Вообще никакого желания. Кем бы я сейчас ни был, меня устраивало все, что бы ни случилось. Неужели эго больше нет? Что ж, прекрасно; в сущности, отсутствие эго – самая естественная вещь в мире. А потом я взглянул на ландшафт и снова увидел себя в нем – как мазок краски, как масло, покрывающее широкие просторы мира тонким слоем субстанции, в которой я признал себя самого.
Но что это за «я», которое сумело так тонко вписаться в сцену растворения? Хороший вопрос. Во всяком случае, это точно не я. Более точно это состояние трудно выразить. Ограниченность нашего языка создает здесь немалую проблему, ведь чтобы дать полное представление того разделения или раскола, которое представилось моему взору с позиции моего «я», мне понадобилось бы совершенно новое местоимение первого лица, потому как то, что наблюдало за это сценой, представляло собой некое наблюдающее око или некий способ осознания, полностью отличавшийся от привычного мне «я»; в сущности, я бы хорошенько подумал, прежде чем решился бы использовать понятие «я» для описания преобладавшего у меня осознания – так оно отличалось от моей обычной персоны. Если то «я» всегда было неким субъектом, заключенным в рамки тела, то это «я», казалось, совсем не было ограничено какими бы то ни было рамками тела, хотя я и имел доступ к его перспективе. Эта перспектива была в высшей степени беспристрастной, нейтральной по всем вопросам ее интерпретации и совершенно невозмутимой даже перед лицом того, что по всем статьям должно было обернуться для меня абсолютной личной катастрофой. И тем не менее «личное» было стерто, было уничтожено. Все, чем я когда-то был и что называл самим собой, все это «я», шесть десятилетий пребывавшее в стадии становления, теперь растворилось и рассеялось по всей сцене. То, что всегда было мыслящим, чувствующим, воспринимающим субъектом, пребывавшим здесь, теперь стало объектом, находившимся где-то там. Я стал краской!
Суверенного эго со всем его боевым снаряжением и всеми его страхами, с его обращенными в прошлое обидами и устремленными в будущее тревогами, – этого эго больше не было, и некому было оплакивать его кончину. И тем не менее что-то от него все же оставалось, и этим «что-то» было голое бестелесное осознание, которое с благосклонным безразличием взирало на сцену разрушения своего «я». Я тоже присутствовал в этой реальности, но как нечто совсем другое, нежели мое «я». И хотя не было никакого «я», которое могло бы чувствовать, присутствовал, однако, некий чувственный тон, спокойный, удовлетворенный, ничем не обремененный. Это была жизнь после смерти эго – новость сама по себе очень важная.
Когда я возвращаюсь мыслями к этой части моего запредельного опыта, я порой задаюсь вопросом: а не было ли это длительное осознание тем самым «Свободным Умом», с которым соприкоснулся Олдос Хаксли во время своего мескалинового трипа в 1953 году? Хаксли так и не объяснил, что именно он имел в виду под этим понятием, отметив только, что «Свободному Уму принадлежит вся полнота осознания», но он, скорей всего, стремился выразить некую универсальную, неделимую форму сознания, совершенно не связанную с конкретным мозгом. Другие называют эту реальность космическим сознанием, Сверхдушой или Универсальным Разумом. Считается, что она не существует вне нашего мозга, являя собой некое свойство Вселенной, такое же, как свет или сила притяжения. То есть это нечто всепроникающее. И нечто конститутивное. Некоторые индивидуумы в определенное время получают доступ к этому осознанию, что дает им возможность постигать реальность, по крайней мере какое-то время, в совершенном свете.
Однако ничто в пережитом мною не навело меня на мысль о том, что новая форма сознания возникла вне меня; более правдоподобным, а стало быть, и более логичным кажется предположение, что она была продуктом моего мозга, так же как и эго, которое она вытеснила. Тем не менее само по себе это поразительно, и я воспринимаю как замечательный дар тот факт, что мы можем освобождаться от очень многого – желаний, страхов и защитных механизмов, возведенных в процессе жизни, – избегая полного уничтожения. Возможно, буддистам, трансценденталистам или людям, искушенным в медитации, это и не покажется чем-то неожиданным, но для меня, всегда ощущавшего себя полностью идентичным со своим эго, это было что-то неожиданное и новое. Неужели это некая новая почва, на которой можно крепко утвердить свои стопы? Впервые с того момента, как я затеял весь этот проект, я начал понимать, что именно пытались донести до меня те онкологические больные, что добровольно участвовали в испытаниях, связанных с предсмертной тревогой: как это здорово, что психоделический трип подарил им новый взгляд на жизнь, благодаря которому даже самое худшее, во что может ввергнуть нас жизнь, включая и смерть, можно расценивать объективно и принимать хладнокровно.
Собственно говоря, это понимание пришло ко мне чуть позже, на последнем этапе моего псилоцибинового трипа, когда мое странствие приняло несколько мрачный оборот. Проведя неизвестное количество часов в компьютерном мире – потому как там я полностью утратил чувство времени, – я вдруг вновь почувствовал желание вернуться в реальность и сходить в туалет. Процедура повторилась: Мэри за локоть, как старика, препроводила меня в ванную и оставила там, чтобы я с помощь душа произвел на свет божий еще один зрелищный дождь сверкающих алмазов. Но на сей раз я отважился взглянуть на себя в зеркало. Оттуда глянул на меня не я сам, а человеческий череп, обтянутый тончайшим слоем бледной кожи, тугой как барабан. Ванна была украшена мексиканским фольклорным орнаментом, и вид головы (черепа) мгновенно вызвал в моей памяти воспоминание о Дне поминовения усопших. В этом мертвенно-бледном черепе с его глубокими глазницами и молниевидными венозными ответвлениями, зигзагообразно спускающимися по виску с одной из сторон, я признал свой собственный череп – и одновременно череп моего умершего деда.
Это было неожиданное открытие: выходит, не только с отцом, но и с Бобом, отцом моего отца, то есть с дедом, у меня много общего. А ведь, в сущности, я любил его как раз за то, что он был так не похож на меня – или кого-то другого, с кем я был знаком. Боб был неимоверно солнечным и, на первый взгляд, простым и незамысловатым человеком, неспособным думать плохо о других людях или видеть в мире зло. (Его жена, Харриет, наоборот, была полной его противоположностью и щедро компенсировала щедрость его духа.) Боб практически всю свою жизнь торговал спиртными напитками, совершая еженедельные обходы ночных клубов на Таймс-сквер от имени компании, которой, как знали все, кроме него, владела мафия. Достигнув того же возраста, в котором теперь нахожусь я, он ушел на пенсию и стал художником, рисовавшим примитивные, но невообразимо наивные пейзажи и красочные абстракции; один из них я привез с собой, захватив заодно и акварель Джудит, и теперь они украшали комнату Мэри. Боб был невероятно счастливым, лишенным всякого страха человеком, дожившим до 97 лет, причем с каждым годом его картины становились все более красочными, абстрактными и свободными от каких-либо изысков.
Видеть его живое отражение к зеркале было немного жутковато. Посетив его как-то в доме для престарелых, размещавшемся на самом краю пустыни Колорадо (это было за несколько лет до его смерти), я увидел перед собой худого, кожа да кости, но еще вполне энергичного и подтянутого мужчину (у него вошло в привычку каждый день стоять на голове, чем он и занимался до тех пор, пока ему не стукнуло восемьдесят), лежавшего в крошечной, не по размеру, кровати. У него к этому времени отказали мышцы пищевода, отвечавшие за функцию глотания, и он был подключен к зонду для искусственного кормления. Ситуация во всех отношениях была безнадежной, но из множества печальных фактов я по каким-то причинам зациклился на том, что пища никогда больше не коснется его уст и он никогда больше не познает ее вкус.
Я сполоснул холодной водой наше сдвоенное лицо и нетвердой походкой вернулся к Мэри.
Я рискнул взглянуть на нее еще раз и был несказанно вознагражден: на этот раз я увидел пленительную молодую женщину, блондинку, в ослепительном сиянии юности. Мэри была так прекрасна, что я, чтобы не смущать ее своим взглядом, был вынужден отвернуться.
Она дала мне еще один маленький гриб – доведя общее количество до четырех микрограммов – и плитку шоколада. Прежде чем улечься и надеть наглазники, я решил вторично провести опыт с вращающейся маской… и потерпел полный крах, потому как он не подтвердил и не опроверг описанную выше гипотезу. Когда маска начала вращаться, постепенно поворачиваясь своей изнанкой, вся картина вдруг растворилась в серой желеобразной дымке, заполнившей экран моего ноутбука прежде, чем я смог сообразить, какой именно мне представилась изнаночная сторона маски – выпуклой или полой. Слишком много для одного раза. Вот что значит проводить психоделические эксперименты в измененном сознании!
Я надел наглазники и сразу провалился в глубины сознания, оказавшись среди пустынного ландшафта с растрескавшейся от жары, выжженной землей, густо усеянной артефактами и изображениями смерти. Перед моим взором мелькали выбеленные черепа, кости и лица давно умерших людей, тетушек, дядюшек, дедушек и бабушек, друзей, учителей и моего отчима, и вся эта картина сопровождалась звуком голоса, говорившего мне, что я недостаточно горевал по этим усопшим. Что верно, то верно. Я никогда в жизни полностью не признавал чью-либо смерть; что-то всегда мешало этому. Только теперь я смог восполнить упущенное, что я и сделал.
Я смотрел на каждое из этих лиц, одно за другим, с чувством жалости, казавшейся беспредельной, но без всякого страха. Исключением была только моя тетя Рут-Эллен: когда я взглянул на ее лицо, оно, к моему ужасу, начало медленно трансформироваться в лицо Джудит. Рут-Эллен, как и Джудит, тоже была художницей, и у них обеих примерно в одно и то же время был диагностирован рак груди. Рут-Эллен эта болезнь убила, а Джудит пощадила. В таком случае, что делает Джудит среди этих неоплаканных мертвецов? Неужели я тому виной, потому как все время ограждал себя от подобной возможности? Теперь же сердце широко распахнуто, защитные механизмы устранены, и слезы начинают обильно течь по моим щекам.
Я упустил одну очень важную часть моего подпольного трипа – музыкальное сопровождение. Перед тем как пуститься в последнее «путешествие», я попросил Мэри: пожалуйста, не ставь больше эту треклятую спа-музыку, а поставь какую-нибудь классику. Мы остановились на второй сюите Баха для виолончели в исполнении американского виолончелиста китайского происхождения Йо-Йо Ма. Сюита ре-минор – это лаконичная скорбная пьеса, которую я слышал много-много раз, часто на похоронах, но, если честно, до этого момента никогда не слышал по-настоящему.
Хотя слово «слышать» и близко не передает то, что возникло между мной и колебаниями воздуха, приведенными в движение четырьмя струнами виолончели. Никогда прежде никакая музыкальная пьеса не проникала так глубоко в мое сердце, как эта. Даже назвать это «музыкой» значило бы сильно преуменьшить то, что начало наполнять воздух; это было не что иное, как чистый поток человеческого сознания, что-то такое, в чем можно было уловить смысл самой жизни и, если вам это по силам, прочесть последнюю главу жизни. (Сразу же возник вопрос: «Почему же мы при рождении не играем музыку так, как играем ее на похоронах»? И тут же пришел ответ: это произведение насыщено чувствами, рожденными опытом уже прожитой жизни и острым восприятием быстро ушедшего времени, которому ни рождение, ни начало не в состоянии противодействовать.)
Четыре микрограмма волшебных грибов – и я на четыре часа ушел в странствие, где потерял всякую способность отличать объект от субъекта, а потому не мог понять, что осталось от меня, и рассказать, что представляла собой музыка Баха. Не прозрачным глазным яблоком, лишенным эго и единым со всем, что попадало в поле его зрения, как у трансценденталиста Эмерсона, стал я, а прозрачным ухом, не отличимым от потока звуков, наводнявших мое сознание до тех пор, пока в нем не осталось ничего другого, ни одного крошечного сухого уголка, где можно было посадить свое «я» и откуда можно было бы наблюдать за всем происходящим. Открывшись музыке и приняв ее в себя, я стал сначала струнами и смог на себе почувствовать изысканное прикосновение конского волоса, трущегося о мою кожу, а затем стал ветром, пролетающим мимо, мимолетно касающимся уст инструментов и устремляющимся дальше, чтобы встретиться с миром и начать свой одинокий полет во Вселенной. Затем я спустился в гулкий черный пространственный колодец, скрытый внутри виолончели, вибрирующую воздушную оболочку, образованную изгибами его еловой крыши и кленовых стен. Деревянная внутренность виолончели являла собой уста, способные к несравненному красноречию; более того – к выразительному изречению всего, что человек может постичь и вообразить. Но в то же время эта внутренность представляла собой комнату, в которой отрадно заниматься сочинительством, и череп, в котором отрадно мыслить, и всем этим без остатка я был прямо сейчас.
Так я стал виолончелью и плакал в месте с нею те двадцать с лишним минут, пока звучала эта пьеса, которая изменила все. По крайней мере, так мне казалось; теперь, когда ее вибрации утихли, я в этом уже не так уверен. Но в течение тех возвышенных минут, пока звучала сюита Баха для виолончели, она оказала на меня благотворное воздействие, примирив меня со смертью – смертью людей, близких мне и промелькнувших перед моим взором: смертью Боба и Рут-Эллен, смертью отца Джудит и многих других, а также с грядущими смертями, в том числе и моей собственной, которая уже не за горами. Растворение и потеря себя в музыке были своего рода подготовкой к тому, что меня ждет, – потере себя. Освободившись от привязи своего «я» и соскользнув в теплые воды мирской красоты – под ней я имею в виду одухотворенную музыку Баха и ту виртуозную ласку смычком четырех струн, подвешенных над воздушным колодцем, которую продемонстрировал Йо-Йо Ма, – я чувствовал себя так, словно вырвался на волю и стал недосягаем для страданий и сожалений.
Таким был мой псилоцибиновый трип, который я постарался воспроизвести настолько достоверно, насколько это в моих силах. Однако, читая написанное мной, не могу не признать, что мной в полную силу начинают овладевать сомнения: «Болван, ты же находился под действием наркотиков!» И это правда: вы можете спокойно положить этот мой опыт в подходящую коробку и выбросить его вон, чтобы никогда больше к нему не возвращаться. Не сомневаюсь, что именно такова судьба бесчисленных психоделических трипов: проделавшие их или не знали, что с ними делать, или просто не видели в них никакого смысла. И хотя верно то, что именно химическое соединение отправило меня в это странствие по дебрям сознания, но столь же верно и то, что все виденное и пережитое мной я действительно видел и пережил: все эти события, совершавшиеся в моем сознании, суть психологические факты, которые не были ни невесомыми, ни мимолетными. В отличие от большинства снов, исчезающих бесследно, следы, оставленные этим опытом, останутся всегда доступными и неизгладимыми.
На следующий день после окончания грибного трипа я был рад возможности вновь побывать в гостях у Мэри, чтобы посвятить несколько часов совместному «усвоению опыта». Я надеялся, что, рассказав ей о пережитом во время трипа и выслушав ее мысли по этому поводу, я смогу осмыслить случившееся или найти в нем для себя некий скрытый смысл. То, что вы прочитали, есть благой результат этой работы, потому как сразу после возращения из странствия по мирам своего сознания я был смущен и сбит с толку гораздо больше, чем сейчас. То, что сейчас выглядит как вполне связное и разумно выстроенное повествование, высвечивающее определенные темы, начиналось как мешанина разрозненных образов и осколков смысла. Попытка выразить словами увиденное, которое в тот момент было, по сути дела, невыразимым, а затем составить из этих слов предложения и целый рассказ – все это неизбежно выливается в некий акт насилия. Но какая-либо альтернатива здесь в буквальном смысле немыслима.
Мэри уже успела разобрать алтарь, но мы сидели на тех же стульях и за тем же столом друг напротив друга. Итак, прошли сутки, и чему же я научился? Тому, что нет никаких причин чего-либо бояться: монстры, спящие в моем сознании, не пробудились и не набросились на меня. Это был глубоко укоренившийся страх, посещавший меня время от времени на протяжении нескольких десятилетий до того ужасного мгновения в номере отеля в Сиэтле, когда, оставшись в одиночестве и до одури накурившись конопли, я вынужден был собрать в кулак всю свою волю, чтобы сдержаться и не совершить что-либо страшно безумное и необратимое. Но здесь, в этой комнате, я позволил себе полностью расслабиться, потерял всякую бдительность – и ничего страшного не случилось. Змея безумия, которая, как я боялся, поджидала меня где-то на пути, так и не высунулась и не утянула меня за собой. Значит ли это, что она вообще не существует? Значит ли это, что я психологически устойчивей, чем мне казалось? Возможно, именно в этом и заключался смысл эпизода с Бобом: может быть, я походил на него больше, чем думал, но был не настолько глубок или сложен, как мне хотелось бы думать. (Интересно, можно ли признание своей ограниченности расценивать как глубокое прозрение?) Мэри не была в этом уверена. «Каждый раз ты привносишь в свои странствия разное „я“, – сказала она. – Вполне возможно, что в следующий раз пробудятся и спящие демоны».
За то, что я пережил процесс растворения своего эго без всякой борьбы, не запаниковав и не раскиснув, я должен, видимо, благодарить судьбу, но еще более ценным для меня было открытие, что существует другой ракурс, другая точка наблюдения – менее невротическая и более благодатная, – из которой открывается взгляд на ту же реальность. «Уже одно это кажется вполне достойной ценой за доступ туда», – сказала Мэри, и я не мог не согласиться с ней. Итак, сутки спустя мое прежнее эго вновь было в былой форме и вновь исправно несло патрульную службу; так что же хорошего, если смотреть в долгосрочной перспективе, было в этом соблазнительном проблеске, открывшем мне более возвышенную перспективу? Мэри предположила, что, познав вкус иного, более свободного и менее защищенного бытия, я на практике смогу научиться тому, как обуздывать агрессивные поползновения моего эго в качестве его реакции на людей и события.
– Теперь у вас есть знание, как можно реагировать по-другому – или не реагировать вообще, – сказала Мэри. – Этот опыт следует развивать, и медитация – один из способов добиться этого.
Думаю, именно эта иная перспектива и позволила тем добровольцам, с которыми мне довелось беседовать (а их было немало), преодолеть свои страхи, тревоги или, как в случае с курильщиками, свои пристрастия. Временно освободившись из-под власти эго, с его безумно рефлексивными реакциями и его концепцией ущемленного личного интереса, мы сможем познать крайнюю форму того, что Китс назвал «отрицательной способностью», – способность существовать среди сомнений и тайн, не стремясь рефлексивно к ясности и определенности. Чтобы выпестовать эту форму сознания, доведенного до исключительной степени бескорыстия (в буквальном смысле!), нам требуется выйти за рамки собственной субъективности или, что то же самое, расширить ее круг настолько, чтобы он, помимо нас, включал в себя других людей и, прежде всего, всю природу. Теперь я понял, каким образом психоделики могут помочь нам сделать этот шаг от первого лица единственного числа к множественному и еще дальше. Под их воздействием чувство нашей взаимосвязанности – та самая банальность – ощущается как реальность и становится плотью. Хотя химические соединения способны поддерживать эту перспективу не более чем несколько часов, этого времени вполне достаточно, чтобы дать нам возможность увидеть, как с ней работать и как ее развивать. И, возможно, как ею распорядиться.
Я покинул квартиру Мэри в приподнятом настроении, но и с чувством того, что меня связывают с чем-то очень драгоценным тонкие, почти на грани разрыва, нити. Мне казалось сомнительным, что я смогу удержать и сохранить эту перспективу не то что до конца жизни, а даже до конца дня, но оно того стоило, чтобы попытаться сделать это.
Третий трип: 5-MеO-DMT (или «Жаба)
Да, 5-метоксидиметилтриптамин – это «жаба», или, если быть более точным, яд обитающей в пустыне Сонора колорадской жабы (Incilius alvarius), который содержит молекулу 5-MeO-DMT, являющуюся одним из самых мощных и быстродействующих наркотических препаратов из всех имеющихся. Нет, об этой молекуле я никогда не слышал. И остается только гадать, почему федеральное правительство сразу не включило 5-MeO-DMT в список контролируемых субстанций и сделало это только в 2001 году.
Возможность покурить «жабу» мне представилась так неожиданно, что у меня почти не было времени, чтобы решить, насколько безумна (или не совсем) эта затея. Однажды мне позвонила женщина, дипломированный психолог, – один из самых надежных агентов, связывавших меня с подпольным миром психоделиков, – и сказала, что хочет познакомить меня со своей мексиканской подругой по имени Росио, психотерапевтом по профессии, которую она представила, как «вероятно, одного из самых ведущих экспертов мира по жабам». (Интересно, какова конкуренция среди претендентов на этот титул?) Росио родом из штата Сонора, что в Северной Мексике, где она уже много лет собирает жаб и «выдаивает» из них яд; она продвигает это «лекарство» как в Мексике, где у него «серый» правовой статус[41], так и в США, где у него этого статуса нет. (Во всяком случае, в официальных бюллетенях он не фигурирует.)
Росио несколько лет работала в столичной клинике для наркоманов, где их лечили с помощью комбинированного средства, состоящего из ибоги, африканского психоделического растения, и 5-MeO-DMT (причем процент успеха был невероятно высоким), а в последние годы она была настоящим Джонни Яблочным Семечком по части жаб, путешествуя по всей Северной Америке с капсулами кристаллизованного яда и испарителем. По мере того как круг моих знакомых психонавтов расширялся, все чаще среди тех, кто пробовал «жабу», встречались люди, которые приобщились к этому препарату с помощью Росио.
Я впервые встретился с Росио за обедом, на который нас пригласила наша общая знакомая, и Росио тогда же рассказала мне о «жабе» и о том, что следует ожидать от этого препарата. Она оказалась маленькой, изящной, модно одетой женщиной 34 лет, с черными волосами до плеч и аккуратно подстриженной челкой, обрамлявшей ее миловидное лицо. У нее была радостная, непринужденная улыбка, от которой на одной щеке появлялась ямочка. Вот уж совсем не то, что я ожидал. Она меньше всего походила на шамана или curandera и больше соответствовала городским представителям этой профессии.
Окончив колледж и проработав несколько лет в Соединенных Штатах, Росио пять лет назад вернулась в Мексику и жила там с родителями, так и не определившись до конца с выбором цели, пока однажды на набрела в просторах Интернета на справочник по жабам, которые, оказывается, обитали по соседству, в местной пустыне. (Ареал их обитания охватывал не только пустыню Сонора, но и тянулся дальше на север, захватывая Аризону.) Девять месяцев в году эти жабы живут под землей, которая защищает их от жары и солнца, но когда наступает сезон зимних дождей, они по ночам выбираются из своих нор на поверхность и предаются оргии обжорства и совокупления. Следуя инструкциям, изложенным в справочнике, Росио надела налобный фонарик и отправилась охотиться на жаб.
– Ловить их совсем нетрудно, – рассказала она. – В лучах света они замирают, так что подходи и бери. – (У этих жаб, бородавчатых существ песочного цвета размером примерно с человеческую ладонь, по обеим сторонам шеи расположены большая железа и железы поменьше – на лапах.) – Подносишь к шее зеркало, чтобы поймать струю, мягко надавливаешь на железу, вот и все.
Жабе, по-видимому, ничуть не хуже оттого, что ее «доят». В течение ночи яд на поверхности зеркала высыхает и превращается в слоистые кристаллы цвета коричневого сахара. В естественном виде яд жабы очень токсичен: она пользуется им как средством защиты, когда чувствует, что ее жизни угрожает опасность. Но, когда кристаллы испаряются, токсины разрушаются, оставляя вместо себя 5-MeO-DMT. Росио выпаривает кристаллы в стеклянной трубке прямо на глазах клиента; последний вдыхает пары и «улетает» еще до того, как успевает их выдохнуть.
– Жаба действует быстро, и поначалу ее действие кажется невероятно мощным, – говорит Росио. (Я заметил, что она персонифицирует жабу с ее ядом и очень редко пользуется его молекулярным названием.) – Причем одни сохраняют полное самообладание и спокойствие, а другие кричат и молотят руками, особенно когда жаба их травмирует, на что она вполне способна. Некоторых даже рвет. Но проходит двадцать или тридцать минут, действие яда прекращается – и вы опять в порядке.
Оказавшись перед лицом столь важного выбора, я решил довериться своему инстинкту, который подсказал мне, что нужно узнать об этом соединении как можно больше, поэтому тем же вечером Росио прислала мне по электронной почте несколько статей на эту тему. Но добыча оказалась невелика. В отличие от большинства других психоделиков, которые пристально изучают ученые по всему миру и которые во многих случаях были в ходу у местного населения сотни, если не тысячи лет, «жаба» известна западным ученым только с 1992 года. Именно в этом году Эндрю Вайль и Уэйд Дэвис опубликовали работу, названную ими «Еще один обитатель Нового Света – психоактивная жаба». На мысль заняться поисками столь фантастического существа их навели многочисленные изображения лягушек в искусстве древних майя. Но единственная психоактивная жаба, которую им удалось отыскать, живет к северу от майянской цивилизации и достаточно далеко от ее очагов. Вполне возможно, что жабы просто являлись символом торговли, которую вели майя с другими народами; во всяком случае нет никаких доказательств того, что практика курения яда жаб имеет древнюю традицию. Однако 5-MeO-DMT выделяют не только жабы, но и некоторые южноамериканские растения, и ряд племен, живущих в амазонских джунглях, высушивают и растирают эти растения, используя их как нюхательный табак в шаманских ритуалах. У некоторых из племен этот нюхательный табак известен как «солнечное семя».
Короче, я узнал много интересного об этом соединении, но так и не смог найти достоверной медицинской информации ни о его возможных побочных действиях, ни о его опасных взаимодействиях с другими лекарственными веществами – слишком уж мало исследований было проведено в этом направлении. Но чего я нашел в изобилии в Интернете, так это рассказов о «жабных трипах», причем многие из них были просто устрашающими. Узнал я и то, что в городе живет одна женщина (подруга одного моего друга, с которым я пару раз встречался на званых обедах и общих вечеринках), которая пробовала 5-MeO-DMT – не саму «жабу», а синтетический вариант этого активного ингредиента. Я пригласил ее на обед, чтобы выведать у нее кое-какие полезные для себя сведения.
– Это Эверест всех психоделиков, – доверительным и чуть зловещим тоном начала она, положив (видимо, для успокоения) свою руку мне на предплечье. Оливии (так звали эту женщину) было чуть больше пятидесяти лет, у нее было двое детей, а работала она консультантом по вопросам менеджмента; у меня было смутное представление о том, что она, кроме всего прочего, исповедовала какую-то восточную религию, но я понятия не имел о том, что она к тому же и психонавт.
– Вам нужно быть готовым ко всему, – уплетая гренки с сыром, приступила она к душераздирающему описанию своих переживаний. – Меня сразу выбросило в бесконечное царство чистого бытия, в мир, где нет ни людей, ни каких бы то ни было сущностей, а есть только бытие само по себе. Этот мир просто огромен; до этого я и не подозревала, что такое бесконечность. Но этот мир двухмерный, а не трехмерный, и после стремительного взлета я обнаружила, что нахожусь в этом бескрайнем пространстве в качестве звезды. Помню, я еще подумала: «Если это смерть, то такая смерть мне по душе». Это ощущалось как… блаженство. У меня было чувство – нет, даже не чувство, а знание, что здесь абсолютно всё, все реалии сотканы из любви. После того как прошла целая вечность (так только казалось, хотя, вероятно, прошло всего несколько минут), начинаешь приходить в себя и возвращаться в свое тело. У меня мелькнула мысль: «Мне же надо растить детей. На жизнь отведен краткий миг, а на то, чтобы быть мертвой, – бесконечное количество времени».
Я задал ей вопрос, который терзал меня всякий раз, когда кто-нибудь принимался повествовать о своих мистических переживаниях:
– Уверены ли вы в том, что это было подлинно духовное событие, а не просто видение, вызванное наркотическим препаратом? И если уверены, то откуда берется такая уверенность?
– Это вопрос не по существу, – холодно ответила она. – Это то, что мне открылось, и ничего больше.
Вот оно что! Это было то самое ноэтическое чувство, которое Уильям Джеймс охарактеризовал как признак мистического опыта. Я позавидовал уверенности Оливии. И именно эта уверенность, полагаю я, и стала причиной того, что я решил «покурить жабу».
Ночь перед сеансом, как то было вполне предсказуемо, оказалась бессонной. Да, первые два трипа оказались удачными: я вышел из них целым и невредимым и даже был благодарен судьбе за то, что она предоставила мне такую возможность, потому как благодаря им я стал еще более сильным и физически, и психически (так мне представлялось), чем раньше. Но теперь все прежние страхи нахлынули вновь, унося меня под своими парусами через долгую беспокойную ночь. Эверест! Сможет ли мое сердце вынести тяжесть этих первых мучительных мгновений стремительного подъема? Сколь велики шансы на то, что я сойду с ума? Вероятно, очень малы, но и не равны нулю. Итак, будет ли с моей стороны безумием пойти на этот риск или не будет? С другой стороны, думал я, что бы ни произошло, на все уйдет от силы полчаса, не больше. И это плюс. Но ведь все это может растянуться и на полтора часа, и что тогда? И это минус.
Я решил, что к тому времени, когда взойдет солнце, я решу, когда именно отправлюсь к Росио. Я заранее предупредил ее о моих опасениях и тревогах, и она предложила мне прийти к ней пораньше, чтобы я, прежде чем подойдет мой черед, мог посмотреть, как она работает с другим клиентом. Как она и предполагала, это подействовало на меня успокаивающе. Парень передо мной, студент колледжа с очень низким уровнем аффекта, который до этого уже пробовал «жабу», вдохнул в себя дымок из трубки Росио, лег на матрас и погрузился в тридцатиминутный внешне безмятежный сон, во время которого он не выказывал никаких признаков отчаяния, не говоря уже об экзистенциальном страхе. После завершения сеанса он выглядел совершенно нормальным. Если что-то и происходило, то происходило исключительно в его голове, заметил он, но на его теле, судя по всему, это никак не отразилось. Что ж, прекрасно. Смерть или безумие – шансы на это крайне невелики. Так что попробую.
Удобно расположившись на матрасе, я принял сидячее положение, а Росио тем временем положила заранее отмеренное количество кристаллов в прозрачный флакончик и приторочила его к стеклянной трубке. «А теперь, – сказала она, – скажи спасибо жабе и думай о своем намерении». (Что-нибудь насчет того, чему именно должна научить меня «жаба» и как наилучшим образом усвоить этот урок.) Росио зажгла ручную кислородно-бутановую горелку, поместила над пламенем флакончик, затем велела взять в рот конец трубки и короткими затяжками втягивать в себя белый дымок, извивавшийся колечками и заполнявший пространство трубки. «А в конце сделай одну длинную затяжку и держи ее как можно дольше».
Я не помню ни того, как выдохнул из себя этот дым, ни того, как меня уложили на матрас и прикрыли одеялом. Все, что я помню, это как мою голову вмиг наполнил колоссальный прилив энергии, сопровождавшийся каким-то терзающим слух грохотом. Мне едва удалось выдавить из себя два заранее приготовленных слова: «доверяюсь» и «сдаюсь». Эти слова стали моей мантрой, но они показались мне какими-то невероятно жалкими и корявыми, всего лишь клочками бумаги, быстро промелькнувшими и затерявшимися в мощном водовороте накатившего на меня пятибалльного психического шторма. Меня охватил ужас, а затем, подобно одному из тех возведенных на атолле Бикини хлипких деревянных домиков, которым предстояло быть разрушенными и сметенными с лица земли в ходе ядерных испытаний, моего «я» не стало: оно превратилось в облако конфетти под действием взрывной силы, которую я не мог больше вмещать в своей голове, потому как она взорвала и голову тоже, с невиданной быстротой распространяясь ввысь и вширь и вбирая в себя все существующее. Что бы это ни было, но это не галлюцинация. Галлюцинация всегда подразумевает наличие некой реальности, некой точки отсчета и сущности, которая ее рождает. Здесь же ничего этого не было и в помине.
К сожалению, с уничтожением моего «я» владевший мной ужас не исчез. Какая бы часть меня ни отмечала и ни регистрировала переживаемое мной, то самое постэгоистическое осознание, с которым я впервые соприкоснулся при грибном трипе, теперь питало пламя владевшего мною ужаса. В сущности, каждая веха, каждый пробный камень, говорящие нам «я существую», были уничтожены, но я при этом оставался в сознании и даже не терял его. «Неужели именно так выглядит смерть? Может ли такое быть?» – возникла внутри меня мысль, хотя самого мыслителя, который мог бы ее породить, больше уже не существовало.
Какие-либо слова здесь бессмысленны, потому как они ничего не передают. По правде говоря, не было ни пламени, ни взрыва, ни термоядерного урагана; я прибегаю к этим метафорам в надежде создать некое стабильное и всем доступное представление о том, что происходило в моем уме. Это событие не несло в себе каких-либо связных мыслей, оно представляло собой чистое и ужасное в своей наготе чувство. Только позже я задумался над тем, не являлось ли пережитое мной тем, что мистики называют mysterium tremendum – ослепляющей невыносимой тайной (относящейся к Богу или какому-то другому Творцу или Абсолюту), перед которой люди трепещут в благоговейном страхе. Хаксли описал это состояние как страх «быть подавленным, распасться под давлением реальности гораздо большей, чем сознание, и приспособленной большую часть времени жить в уютном мире символов, который никто не в состоянии вместить».
О, вот бы вернуться в этот удобный мир символов!
После этого я постоянно возвращался к одному из двух метафорических образов, и хотя они неизбежно искажают виденное и пережитое мной[42], как, впрочем, это свойственно всем словам, метафорам или символам, но они, по крайней мере, позволяют ухватить хотя бы тень этого опыта и, вероятно, поделиться им. Первый метафорический образ – словно я после запуска ракеты нахожусь снаружи и, обхватив ее ногами, обеими руками цепляюсь за нее, в то время как быстро нарастающая сила гравитации плющит мою плоть, растягивая мое лицо в напряженную гримасу, а цилиндрический корпус ракеты в это время несется, поднимаясь все выше и выше через слои облаков, экспоненциально набирая скорость и высоту, и фюзеляж весь содрогается в пароксизме самоуничтожения, напрягаясь в стремлении освободиться из-под власти Земли, а трение, возникающее из-за соприкосновения с разреженным воздухом, вызывает оглушительный рев.
Да, что-то вроде этого.
Другой метафорический образ – это «большой взрыв», но взрыв в обратном направлении, от знакомого нам мира до точки, в которой не было еще ничего, ни времени, ни пространства, ни материи, а была лишь чистая, ничем не ограниченная энергия, которая являла собой все бытие, прежде чем некое несовершенство, некая рябь на гладкой поверхности в виде волны заставила эту вселенскую бездну энергии облечься в одежды времени, пространства и материи. Стремительно несясь назад во времени через 14 миллиардов лет, я видел, как измерения реальности исчезали одно за другим, пока не осталось ничего, даже бытия. Только всепоглощающий грохот.
Это было просто ужасно.
И затем вдруг это превращение всего в ничто, в чистую силу и энергию, меняет свой курс. Один за другим элементы нашей Вселенной начинают восстанавливаться: первыми возвращаются такие измерения, как время и пространство, одарив мой все еще раздробленный на конфетти мозг удобными координатами места; вот это где! А затем я вновь облачился в свое привычное «я», всунув себя в него, как ноги в старые тапочки, и вскоре после этого почувствовал, как нечто, распознанное мной как мое тело, начало вновь собираться воедино и обретать формы. Реальность, как фильм, раскручивалась теперь в обратную сторону, создавая впечатление, как будто все листья, которые термоядерный взрыв сорвал с великого древа жизни и рассеял по четырем ветрам, неожиданно начали возвращаться назад, подлетать к знакомым ветвям реальности и прикрепляться к ним. Короче говоря, восстанавливался привычный порядок вещей, включая и меня самого. Я был живой!
Вхождение и возвращение в знакомую реальность произошли быстрей, чем я ожидал. Пережив душераздирающую агонию на старте, я, став невесомым, ожидал, что буду выведен на орбиту и вставлен в звездную ткань небосвода в виде благословенной звезды. Увы, но мой полет, подобно полету первых астронавтов на Меркурий, так и остался суборбитальным: описав дугу, которая в своей высшей точке лишь запечатлела легкий поцелуй на безмятежности бескрайнего пространства Вселенной, я снова опустился на Землю.
И вот, почувствовав, что я опять стал самим собой, восстановив сначала свое «я», а затем и свое тело, – чтобы убедиться в его достоверности, я начал елозить под одеялом, похлопывая себя руками по бедрам, – я испытал столь сильное экстатическое состояние счастья, какого не припомню в своей жизни. Но этот экстаз не был чем-то sui generis, то есть уникальным, – нисколько. Скорее эта была равная по силе реакция на испытанный мной ужас, не столько дар Божий, сколько прилив радости и удовольствия, вызванный уходом нестерпимой боли. И охватившее меня чувство облегчения было таким сильным и глубоким, что казалось поистине космическим.
Убедившись, что тело восстановило свои формы, я вдруг почувствовал необъяснимый порыв приподнять ноги, согнув их в коленях, и как только я их приподнял, что-то сдавило меня между ног, но сдавило легко, без напряжения, не вызывая ни раздражения, ни боли. Это был не кто иной, как я сам – новорожденный малыш, младенец. И это не казалось странным, а, наоборот, вполне уместным: умерев, я теперь рождаюсь опять. Но как только я внимательнее пригляделся к этому новорожденному существу, оно плавно превратилось в Айзека, моего сына. И я, помнится, в тот миг подумал: «Какое это счастье! Как удивительно, когда отец ощущает ту неразрывную физическую близость с ребенком, которую обычно ощущает только мать». Какое бы пространство ни разделяло меня с моим сыном, оно вдруг захлопнулось, исчезло, и я почувствовал, как по моим щекам текут горячие слезы благодарности.
А затем пришло и само чувство благодарности, нахлынувшее на меня ошеломляющей волной. Благодарности за что? За то, что я опять существую, за то, что вместе со мной существуют Айзек и Джудит, но также и за то, что существует нечто гораздо более основательное, фундаментальное: впервые в жизни я почувствовал благодарность за сам факт наличия бытия, за то, что вообще существует что бы то ни было. Причем сам этот факт воспринимался не как факт, не как что-то данное, а как совершенное чудо, как нечто, к чему я решил никогда больше не относиться как к само собой разумеющемуся факту. Все обычно благодарят за то, что они «живы», но кто откажется сказать спасибо за тот голый костяк, тот замысел, что предшествовал «оживлению»? Я ведь только что вернулся оттуда, где нет и намека на бытие, и теперь поклялся никогда не забывать о том, какой это дар (и какая тайна), когда там, где не было ничего, появляется что-то.
Я снова вошел в хорошо знакомое и более привычное для меня психическое пространство, по которому я по-прежнему странствовал и где мог собрать воедино свои мысли и управлять ими. (На их качество я не жалуюсь.) Прежде чем я вдохнул в легкие дым и выпал из этой реальности, Росио попросила меня, как она просит всех, курящих «жабу», внести свою лепту в «дело мира», то есть подыскать в ходе странствий какую-то идею или какое-то решение, которые я мог бы захватить с собой и с пользой применить в своей жизни. Моей лептой, решил я, будет вопрос, связанный с чистым бытием и его противоположностью (или тем, что я за таковую принимал) – «деланием». Я поразмыслил над этой двойственностью, которая представлялась мне очень важной, и пришел к выводу, что я в своей жизни слишком много внимания уделяю последнему аспекту и недостаточно первому.
Действительно, очень многие предпочитают делание, поскольку через него они приходят к чему-то сделанному, свершенному, но разве чистое бытие не представляет собой столь же огромную ценность и не приносит столь же большую психическую пользу? Разве не созерцание предшествует действию? Я решил, что буду в тишине упражняться в познании и усвоении бытия – бытия как сосуществования с другими людьми, какими я их нахожу (несовершенными), и со своим несовершенным «я», – чтобы насладиться всем, что существует и что дается мне в этот самый момент, не пытаясь его изменить или даже описать. (Хаксли под действием мескалина был одержим тем же самым желанием: «Если бы кто-то всегда видел нечто подобное, он бы никогда не захотел ничего другого».) Даже сейчас, уносимый этим благодатным созерцательным потоком, я вынужден был противиться настырному желанию пристать к берегу и рассказать Росио о своем грандиозном прорыве. «Нет, ни за что! Пусть это просто пребудет с тобой», – вынужден я был напомнить самому себе.
К этой двойственности и неприязни к бытию, понял я, меня привела словесная схватка с Джудит, которая состоялась прошлым вечером. Джудит сетовала на свою жизнь и на то, что ей многое в этой жизни не нравится, а я, вместо того чтобы просто посочувствовать ей, сказать, что я ее понимаю, ее и ее дилемму, тут же принялся перечислять практические вещи, с помощью которых она могла бы спастись от мучительной ситуации. Но это было совсем не то, чего она хотела и что ей требовалось, и она рассердилась. Теперь-то я вижу совершенно ясно, почему моя попытка прийти ей на помощь больше навредила ей, чем помогла.
«Больше существуй и меньше делай» – именно такой оказалось моя лепта в «дело мира». Но как только я облек мысль в слова, я понял, что здесь есть одна проблема, причем большая проблема, потому как разве не является сам акт принятия решения о более благосклонном отношении к бытию некой формой делания? Разве это не является предательством по отношению к самой идее? Истинный знаток бытия никогда бы не помыслил принимать решения! Короче, я запутался в философском гордиевом узле, выстроил парадокс или сочинил коан, который был не в состоянии распутать, поскольку не был достаточно умен или просветлен для этого. Поэтому то, что начиналось как одно из самых потрясающих переживаний в моей жизни, кончилось полчаса спустя ничем, оставив на моем лице лишь слабое подобие улыбки.
Даже теперь, много месяцев спустя, я не могу сказать со всей определенностью, что мне дал этот последний трип. Его сокрушительное сюжетное развитие – этот ужасный кульминационный момент, быстро сменившийся такой сладостной развязкой, – нарушило связную форму рассказа или путешествия. В нем отсутствовали начало, середина и конец, которые были во всех моих предшествующих странствиях и на которые мы обычно ориентируемся, когда пытаемся осмыслить пережитое. Это и та умопомрачительная скорость, с которой развивался этот сюжет, не позволили извлечь из него много информации или знаний, за исключением психоделической (и ставшей уже классикой) банальной истины о важности бытия как такового. (Спустя несколько дней после моего «жабного трипа» я наткнулся в компьютере на старое электронное письмо, которое мне прислал когда-то Джеймс Фадиман; оно, как ни странно, заканчивалось словами, которые, если подумать, вполне можно расположить в виде ритмичных стихотворных строк: «Что бы вы ни делали, надеюсь, / от этого оступитесь и впредь / к этому не прикоснетесь вовсе».)
«Усвоение опыта» оказалось весьма поверхностным: мне пришлось самому разгадывать уроки, преподанные «жабой», какими бы они ни были. Можно ли пережитое мной назвать духовным или мистическим опытом и был ли он таковым? Или же то, что происходило в моем сознании, было лишь побочным явлением действия этих странных молекул? (Или и тем и другим?) В моей памяти всплыли слова, сказанные Оливией: «Это вопрос не по существу. Это то, что мне открылось, и ничего больше». Что, если и мне что-то открылось? Но что?
Не уверенный, с чего именно нужно начинать, я все же понимал, что лучше всего будет сравнить пережитое мной с тем, что переживали другие добровольцы, участвовавшие в исследованиях, проводившихся в медицинском центре Хопкинса и Нью-Йоркском университете. Поэтому я тоже решил заполнить «Анкету установления мистического опыта»[43] (ее обычно заполняют участники исследований после каждого проведенного с ними сеанса), посчитав, что из нее-то я наверняка узнаю, подпадает ли пережитое мной под этот критерий или нет.
Анкета предлагает оценить по частоте и количеству тридцать психических явлений – мысли, образы, чувства, которые психологами и философами рассматриваются как типичный мистический опыт. (Вопросы анкеты основаны на трудах Уильяма Джеймса, У. T. Стейса и Уолтера Панке.) «Опираясь на совокупность всего пережитого вами во время сеанса, вспомните и оцените по степени значимости (частоте и количеству раз) следующие явления», используя шестибалльную шкалу оценок от нуля до пяти. (Нуль означает «ни разу», а пять – многократность, то есть «чаще, чем все другие явления».)
Некоторые пункты оценивать было легко: «Потеря чувства времени». М-м, 5 баллов. «Чувство изумления». Ага! Еще 5 баллов. «Чувство, что пережитое невозможно адекватно выразить словами». Н-да. Снова 5 баллов. «Приобретение глубоких знаний, добытых на интуитивном уровне». Гм. Полагаю, мысль о значимости бытия за таковые сойдет. На сколько же баллов она тянет? Может быть, на три? А вот как оценить это положение: «Чувство, что вы приобщились к вечности или бесконечности»? Да, есть над чем призадуматься. В данном случае языковой эквивалент подразумевает нечто более позитивное, чем то, что мне было дано испытать на уровне чувства, когда время исчезло и меня охватил ужас. «Нет», – решил я, то есть нуль. «Чувство слияния личного „я“ с большим целым»; этот пункт просто идеально выражает чувство моего слияния с ядерным взрывом. Хотя это скорее ощущалось как расщепление моего «я», нежели как слияние, но так уж и быть, поставлю 4 балла.
А что делать вот с этим? «Уверенность, что вы встретились с Высшей Реальностью (в смысле, что вы были способны „увидеть“ и „понять“, что действительно для вас реально на каком-то этапе вашего опыта)». Ну что ж, я действительно вернулся из своих странствий с некоторыми убеждениями (одно из них, в частности, касается существования и делания), но их вряд ли назовешь встречей с Высшей Реальностью, какова бы она ни была. Несколько следующих пунктов тоже вызвали у меня желание вскинуть в отчаянии руки: «Чувство, что вы пережили нечто глубоко сакральное или священное» («нет») или «Озарение, что „все суть едино“» («да», но не в лучшем смысле этого слова; в разгар всепоглощающего психического шторма, мне ничего так не хватало, как дифференциации и множественности). Пытаясь оценить ряд других подобных пунктов, я чувствовал, что анкета все дальше и дальше уводит меня в направлении, где я неизбежно должен буду прийти к выводу, что все это совершенно не соответствует тому, что я чувствовал.
Но когда я подсчитал количество баллов, то удивился: я набрал 61 балл, на один больше, чем то количество, которым обозначен порог «полноценного» мистического опыта. Я таки перевалил через него. Так это и был мистический опыт? Честно говоря, я ожидал чего-то другого. На мой взгляд, мой мистический опыт таковым совершенно не выглядел и не ощущался. Поэтому я заключил, что «Анкета установления мистического опыта» – ветхая сеть, малопригодная для такого улова, как мои откровения, навеянные «жабой». Это даже не улов, а психологический прилов, решил я, и его, вероятно, лучше просто выбросить вон.
Однако, спросил я себя, не связано ли как-то мое недовольство анкетой с сущностной природой – высокой интенсивностью и причудливостью форм – самой «жабы» и ее воздействием на человека, для чего, в конце концов, она и не предназначена вовсе. Ибо, когда я заполнил ту же анкету, чтобы оценить свой псилоцибиновый трип, «смычка» между вопросами анкеты и сущностной природой псилоцибина оказалась намного лучше, и оценивать явления было намного проще. Если хорошенько поразмыслить над сюитой для виолончели, например, то я мог бы с легким сердцем подтвердить «слияние [моего] личного „я“ с большим целым», так же как и «чувство, что [я] пережил нечто глубоко сакральное или священное», достиг «некой духовной высоты» и даже «познал чувство единства с Высшей Реальностью». Да, да, да и еще раз да – при условии, что мое усиленное выпячивание этих важных прилагательных не подразумевает под собой веры в сверхъестественную реальность.
Мой псилоцибиновый трип под наблюдением Мэри потянул, согласно той же «Анкете установления мистического опыта», на 66 баллов. Не знаю, почему, но количество набранных баллов вызвало во мне чувство глупого самодовольства. (Ну вот, упражнялся в познании бытия, а пришел все к тому же, к деланию.) Но ведь именно этот опыт и был моей целью; по крайней мере, если верить ученым, то мистический опыт у меня все же был. Тем не менее вера в Бога, или в космическое сознание, или в нечто магическое от этого не стала мне ближе, да и сам я не приблизился к тому, к чему этот опыт, как я необоснованно ожидал (или надеялся?), мог бы меня привести.
Не шло даже речи о том, что со мной случилось нечто совершенно неведомое и глубокое – нечто, что я был бы готов определить термином «духовное», пусть даже со знаком сноски. Видимо, духовность, как мне всегда казалось, подразумевает такую веру или такое убеждение, из которых, предположительно, проистекает все духовное, но мне таковых не дано было познать. И теперь я задавался вопросом: всегда ли, непременно ли это так?
Только в результате всех моих трипов мне удалось разгадать этот долго терзавший меня парадокс, и произошло это, когда я беседовал с Дайной Бейзер, больной раком (она находилась под наблюдением врачей в больнице Нью-Йоркского университета), которая начинала и закончила свой псилоцибиновый трип убежденной атеисткой. В кульминационный момент «путешествия», когда у нее исчез страх смерти, Бейзер, по ее словам, прямо-таки «купалась в лучах Божьей любви», и тем не менее, вернувшись оттуда, она осталась при своих атеистических убеждениях. Как могут эти две враждующие идеи уживаться в одном мозге? Думаю, я теперь понимаю как. Да, тот поток любви, в котором она купалась, был невыразимо мощным, но он при этом никак не соотносился с какой-либо изначальной причиной, ни индивидуальной, ни мирской, и потому был чисто беспричинным, безвозмездным – некой формой благодати. Так как же передать величие этого дара? «Бог», возможно, единственное большое, если не великое, слово в языке, и именно к нему и прибегла Дайна Бейзер.
Частично проблема оценки моего собственного опыта, с которой я имел дело, была связана и с другим большим и значимым словом – «мистический», прилагаемым к опыту, выходящему за рамки обычного сознания или даже за рамки науки. Здесь уже отдает чем-то сверхъестественным. Думаю, однако, было бы неправильно отказываться от этого термина хотя бы только потому, что великие умы человечества на протяжении тысячелетий проделали огромную работу, чтобы отыскать подобные слова для выражения и осмысления этого экстраординарного человеческого опыта. Читая заветы и откровения этих умов, мы находим поразительную общность в их описаниях, пусть даже мы, люди мирские, совершенно не в состоянии понять, о чем в этом мире (или вне его) они говорят.
По словам схоластов, ученых-мистиков, эти общие свойства в целом распространяются на такие аспекты, как видение единства, в котором все явления, все реалии, включая и «я», объединены между собой (что выражается фразой «все едино»); как чувство несомненности относительно воспринятого человеком («мне открылось знание»); как чувства радости, блаженства и удовлетворения; как трансцендентность категорий, на которые мы опираемся при организации мира, таких, как время, пространство, «я» и прочие; как чувство того, что все понятое, постигнутое каким-то образом свято («то, что более глубоко перемешано» со смыслом, по словам Вордсворта) и часто парадоксально (пока «я» отсутствует, осознание пребывает). И последнее – это убеждение, что этот опыт невыразим, хотя тысячи слов тужатся в попытке выразить его силу. (Да простится мне это выражение!)
Раньше, до начала моих трипов, слова и фразы вроде этих оставляли меня равнодушным; они казались мне совершенно темными, бессмысленными, в большинстве своем неким квазирелигиозным фетишем. Сейчас же они живописуют распознаваемую реальность. И точно так же, если раньше некоторые мистические отрывки из книг казались мне такими заумными, преувеличенными или абстрактными, что я читал их (если вообще читал) скорее снисходительно, чем с упоением, то сейчас я могу читать их бегло и с интересом, как некий подвид журналистики. Привожу ниже три примера из литературы XIX века, но точно такие же можно найти и в литературе всех веков.
Ральф Уолдо Эмерсон, пересекая унылые заснеженные просторы Новой Англии, пишет в эссе «Природа»:
«Вот я стою на голой земле – голову мне овевает бодрящий воздух, она поднята высоко в бесконечное пространство, – и всё низкое себялюбие исчезает. Я становлюсь прозрачным глазным яблоком; я делаюсь ничем; я вижу всё; токи Вселенского Бытия проходят сквозь меня; я часть Бога или Его частица».
[Перевод А. Зверева]
А вот строки Уолта Уитмена, взятые из первого (более короткого и более мистического) издания «Листьев травы»:
Тотчас возникли и простерлись вокруг меня покой и мудрость,
которые выше земного рассудка,
И я знаю, что Божья рука есть обещание моей,
И я знаю, что Божий дух есть брат моего,
И что все мужчины, когда бы они ни родились, тоже мои братья,
И женщины – мои сестры и любовницы,
И что основа всего сущего – любовь.
[ «Песня о себе». Перевод К. Чуковского]
А вот отрывок из письма Альфреда Теннисона, где он описывает «транс в бодрствующем состоянии», в который он впадал время от времени в годы детства:
«И вдруг, как бы помимо усилий со стороны сознания индивидуальности, сама индивидуальность, казалось, растворилась и исчезла; и это не было состоянием путаницы или замешательства, а состоянием яснейшим из ясных, вернейшим из верных; чем-то вне слов, где смерть казалась до невозможности смехотворной, а потеря личности (если таковая имела место) представлялась не исчезновением, а единственно подлинной жизнью».
Что же изменилось? Только то, что теперь я точно понимаю, о чем говорили эти писатели и поэты: они говорили о своем мистическом опыте, как бы он ни был ими достигнут и как бы ими ни интерпретировался. Ранее инертные, безжизненные, теперь их слова испускали лучи новых отношений; или, по крайней мере, теперь я был в состоянии их воспринимать. Такие излучения всегда присутствовали в нашем мире, перетекая в человечество через литературу и религию, но, подобно электромагнитным волнам, они не могли быть расшифрованы и поняты без своего рода приемника. Именно таким приемником я и стал. Такая фраза, как «бескрайнее бытие», которую когда-то я мог запросто пропустить как в высшей степени абстрактную и гиперболичную, теперь передавала мне нечто специфичное и даже хорошо знакомое. Короче говоря, дверь в мир человеческого духовного опыта, которая была закрыта для меня в течение 60 лет[44], теперь широко распахнулась.
Но заслужил ли я право войти в эту дверь, заслужил ли право вмешаться в разговор? Я ничего не знаю о мистическом опыте Эмерсона (а равно Уитмена или Теннисона) и не знаю, как они его обрели, но своим опытом я всецело обязан химическому соединению. Но разве это не обман? Вероятно нет: похоже на то, что все психические переживания, даже самые, казалось бы, «трансцендентные», завязаны на химические вещества мозга. Насколько важна и действенна генеалогия этих веществ? Оказывается, мир природы и мозг человека наполняют одни и те же молекулы, которые связывают нас воедино в один обширный водосбор триптаминов. Разве эти экзогенные молекулы менее чудесны, чем прочие? (Особенно когда они передаются нам через грибы, или растения, или жабу!) Не стоит забывать: на свете есть множество культур, где признание того факта, что визионеры получают вдохновение от природы, что оно есть дар других существ и созданий, делает их откровения более, а не менее значимыми.
Что касается моей собственной интерпретации пережитого – моего собственного официально удостоверенного мистического опыта, – то я все еще над ней работаю, нахожусь, так сказать, в поиске нужных слов. При этом я легко и без проблем пользуюсь прилагательным «духовный» при описании того, что я увидел и почувствовал, употребляя его в привычном, а не в сверхъестественном смысле. «Духовные» (во множественном числе), на мой взгляд, очень хорошо описывает ряд мощных психических феноменов, возникающих в тот момент, когда голос эго замолкает или немеет. Даже если отбросить все остальное, мои трипы показали, что между нами и новыми поразительными измерениями – будь то миры вне нас или миры нашего сознания – стоит эта некогда столь хорошо знакомая и, если поразмыслить, такая странная психическая конструкция. Кроме того, трипы показали, что именно стараются донести до нашего сознания буддисты (и чего я до сей поры не понимал): что доля сознания неизмеримо больше, чем доля эго, в чем мы могли бы убедиться, если бы последнее умолкло хоть на миг. Его исчезновения (или трансцендентности) не стоит бояться; в сущности, это состояние – необходимое условие для любого духовного прогресса.
Но эго, этот внутренний неврастеник, настаивающий на том, чтобы психическое шоу продолжалось и он было его ведущим, – сущность коварная и без борьбы не уступит свою власть. Считая себя незаменимым, оно будет бороться против ущемления своих прав, причем это может случиться и до, и в середине трипа. Подозреваю, что именно этим мое эго и занималось все те бессонные ночи, которые предшествовали каждому из моих «путешествий», стремясь убедить меня в том, что я рискую всем, тогда как в действительности если я что и ставил под угрозу, так это его, эго, суверенитет. Когда Хаксли говорит о «редукционном клапане» сознания – способности как удалять из сферы нашего сознательного восприятия, так и впускать в нее впечатления мира, – на самом деле он говорит об эго. Этот надменный, бдительный страж пропускает только узенькую полосу частот окружающей реальности, «тот скудный ручеек сознания, который поможет нам остаться в живых». Такая функция очень даже хороша, особенно при выполнении всех тех действий, которые требует и которые ценит естественный отбор: двигаться вперед по жизни, нравиться, любить и быть любимым, питаться, заниматься любовью и так далее. Эго – суровый, неумолимый редактор: то и дело подкидывая нам задания, он следит за тем, чтобы мы не отвлекались от текущей работы, в чем бы она ни заключалась: в регулировании доступа к воспоминаниям и сильным эмоциям, идущим изнутри, или к мировым новостям, поступающим снаружи.
Какие бы веяния мира ни пропускал этот страж, он стремится их объективировать, потому как эго всегда хочет сохранить и приберечь дары субъективности только для себя. Вот почему оно отказывается понимать, что вне его существует целый мир душ и духов, под которыми я просто разумею другие (не наши собственные) субъективности. Только когда псилоцибин подавил или утихомирил голос моего эго, я смог почувствовать и осознать, что у растений в моем саду тоже есть дух. (Говоря словами Ричарда Мориса Бака, выдающегося канадского психиатра и мистика XIX века, «я увидел, что Вселенная состоит не из мертвой материи, а, напротив, из живой Всесущности».) «Экология» и «коэволюция» – это научные термины для одних и тех же явлений: каждый вид есть субъект, воздействующий на другие субъекты. Но когда эта концепция требует облечь чувство плотью, когда чувство становится «более глубоко перемешано» со смыслом, как это случилось во время моего первого псилоцибинового трипа, тогда я счастлив назвать это духовным опытом. То же относится и к моим психоделическим слияниям: с сюитой Баха для виолончели, с моим сыном, с Бобом, моим дедом, и так далее – всех этих духов я воскресил, удержал и принял в себя, причем каждый раз это сопровождалось целым потоком чувств.
Вполне вероятно, что духовный опыт – это просто нечто, случившееся в пространстве и открывшее мое сознание, когда «все низкое себялюбие исчезает». Чудеса (и страхи), от которых мы обычно защищены, вливаются в наше осознание, и тогда удаленные от нас края спектра, обычно невидимые для нас, вдруг становятся доступны нашим чувствам и органам восприятия. Пока эго спит, ум резвится, одаряя нас неожиданными поворотами мысли и лучами новых отношений. Пропасть, отделяющая «я» от мира, эта ничейная земля, которую в будничные часы эго столь бдительно патрулирует, вдруг исчезает, и это дает нам возможность почувствовать себя менее изолированными и более связанными друг с другом, «частью и частицей» какого-то большего единства. Как бы мы ни называли это единство – Природой, Великим Умом или Богом, – это не так уж и важно. Важно, что в горниле этого слияния смерть теряет свое жало.
Глава пятая
Неврология: мозг и психоделики
Так что же произошло в моем мозге?
В каждый из описанных выше трипов меня отправила некая молекула, и я возвратился из них, одолеваемый жгучим любопытством: что же может поведать мне химия о сознании как таковом и какими откровениями о взаимосвязи мозга и ума может она меня порадовать. Каким образом, проглотив, в виде таблетки или дыма, какое-то химическое соединение, произведенное грибом или жабой (или химиком), вдруг открываешь в себе новое состояние сознания с возможностью менять взгляд на вещи, причем не только во время трипа, но и долго после того, как эта молекула улетучилась из тела?
Собственно говоря, речь идет о трех разных молекулах – псилоцибине, ЛСД и 5-MeO-DMT, – но даже бросив случайный взгляд на их структуру (я это говорю как человек, имевший в средней школе двойку по химии), сразу видишь сходство между ними. Все три молекулы – это триптамины. Триптамин же – это особое органическое соединение (производное индола, если быть точным), отличающееся наличием в нем двух связанных колец, одно из них с шестью атомами, а другое – с пятью. Живая природа буквально кишит триптаминами; они имеются в растениях, грибах и животных, где они обычно действуют как сигнальные молекулы между клетками. Самый известный триптамин из находящихся в человеческом теле – это серотонин, который на языке химиков называется 5-гидрокситриптамин. Далеко не случайно, что эта молекула имеет сильное сходство с молекулами психоделиков.
Серотонин скорее известен как нейромедиатор, вернее, как один из нейромедиаторов, однако многое относительно него еще остается для нас тайной. Известно, например, что он связан примерно с десятком и более различных рецепторов, расположенных не только во многих частях головного мозга, но и по всему телу, причем значительное их число представлено в пищеварительном тракте. Серотонин задействован в очень многих процессах – например, иногда он возбуждает нейроны, а иногда подавляет их, – но его конкретная роль в том или ином процессе зависит от типа рассматриваемого рецептора и его местоположения. В каком-то смысле он подобен слову, смысл или значение которого может радикально меняться в зависимости от контекста или даже его позиции в предложении.
Та группа триптаминов, которые мы называем «классическими психоделиками», имеет химическое сродство с одной конкретной разновидностью рецепторов серотонина, называемой 5-HT2A. Эти рецепторы в большом количестве расположены в головном мозге человека, в его самом верхнем и, с точки зрения эволюции, самом позднем слое. Если говорить в целом, то психоделики настолько схожи с серотонином, что они спокойно могут прикрепляться к этому рецепторному участку, активируя его таким образом для выполнения различных действий.
Любопытно, но ЛСД имеет даже большее сродство – большую «клейкость» – с рецептором 5-HT2A, чем серотонин, являя пример того, что симулякр в химическом отношении иногда выглядит более убедительным, чем сам оригинал. Это навело некоторых химиков на мысль, что человеческое тело, должно быть, производит какое-то другое, более подходящее химическое соединение – вероятно, какой-нибудь эндогенный психоделик, выделяющийся в определенных условиях, например во время сна, – причем производит с вполне конкретной целью активировать рецептор 5-HT2A. Одним из кандидатов на эту роль является психоделическая молекула ДMT (диметилтриптамина) – вещества, которое было обнаружено в ничтожном количестве в шишковидной железе крыс.
С 1950-х годов исследования серотонина и ЛСД были тесно взаимосвязаны; в сущности, именно открытие того обстоятельства, что ЛСД способен воздействовать на сознание даже в микроскопических дозах, и дало толчок в эти годы развитию новой области нейрохимии, что привело к разработке антидепрессантов СИОЗС (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина). Но только в 1998 году швейцарский исследователь Франц Волленвейдер, один из пионеров психоделической нейрофизиологии, доказал, что психоделики, вроде ЛСД и псилоцибина, воздействуют на человеческий мозг путем создания связей с рецепторами 5-HT2A. Он продемонстрировал это, давая своим подопечным так называемый кетансерин, наркотик, который воздействует на рецепторы 5-HT2A, блокируя их; когда же он давал им псилоцибин, ничего не происходило.
Но, сколь бы ни было значимо открытие Волленвейдера, это всего лишь маленький шажок на длинном (и извилистом) пути от психоделической химии к психоделическому сознанию. Возможно, что рецептор 5-HT2A служит своего рода замком на двери, ведущей в сознание, замком, который как раз и открывают эти три молекулы, но как, каким образом это химическое отпирание ведет в конечном счете к тому, что я почувствовал и испытал? Как оно приводит к растворению моего эго, например, и устранению различий между субъектом и объектом? Или к превращению прямо на моих глазах (точнее, перед моим мысленным взором) Мэри в Марию Сабину? Говоря иначе, что может (если вообще может) сказать нам химия мозга о «феноменологии» психоделического опыта?
Все эти вопросы, разумеется, связаны с внутренним содержимым сознания, которое (по крайней мере до сих пор) ускользало от дотошных инструментов, используемых на службе нейрофизиологии. Под сознанием я имею в виду не просто «сознательность» – ту базовую чувственность, осведомленность об изменениях в окружающей среде, которая присуща живым существам и которую нетрудно установить экспериментальным путем. В узком смысле даже растения «сознательны», хотя крайне сомнительно, что они наделены полноценным сознанием. Как правило, под сознанием нейробиологи, нейрофизиологи, философы и психологи подразумевают то безошибочное ощущение наличия или присутствия у нас некоего «я», которое познает окружающий мир.
Зигмунд Фрейд писал, что «нет ничего другого, в чем бы мы были так уверены, как ощущение нами нашего „я“, собственного эго». Однако нельзя с полной уверенностью сказать, что кто-то еще, особенно другие существа, наделен сознанием, поскольку нет никаких внешних физических доказательств того, что сознание, как мы его воспринимаем, существует. То, в чем мы уверены больше всего, находится за пределами досягаемости нашей науки, но при этом, предположительно, является вернейшим средством познания чего-либо.
Эта дилемма оставляет дверь приоткрытой ровно настолько, чтобы писатели и философы могли втиснуться и пройти через нее. Классический эксперимент, позволяющий установить, обладают ли другие существа сознанием или нет, был предложен американским философом Томасом Нагелем в его знаменитой работе 1974 года «Каково быть летучей мышью?». Он утверждает, что если «есть нечто, говорящее о том, каково быть летучей мышью», – некое субъективное измерение для опыта летучей мыши, – тогда мышь действительно обладает сознанием. Но, по его предположению, это «нечто» из числа тех свойств или качеств, которые невозможно свести к материальным понятиям. Вообще невозможно.
Прав Нагель или не прав – на данный момент это служит предметом острых споров, ведущихся учеными, изучающими сознание. Часто квинтэссенцию этого вопроса называют «трудной проблемой» или «пробелом в ряду данных»: как объяснить сознание – субъективное качество познания – с точки зрения плоти, то есть с точки зрения физических структур или химии мозга? Сам вопрос предполагает, и большинство ученых (но не все) с этим полностью согласны, что сознание – это продукт деятельности мозга, и если его в конечном счете и удастся объяснить, то лишь как эпифеномен материальных реалий, вроде нейронов и структур мозга, химических соединений и коммуникационных сетей. Это, конечно же, кажется самой подходящей и экономичной гипотезой. Но путь к ее доказательству еще очень долог, и многие нейрофизиологи сомневаются, будет ли она доказана вообще: будет ли нечто столь ускользающее, как субъективный опыт, – то, что ощущается нами как мы, – когда-нибудь сведено до узких рамок и ограничений науки. Этих ученых и философов иногда называют мистами или мистерианцами, и это далеко не комплимент. Некоторые ученые вполне допускают ту возможность, что сознание заполняет собой всю Вселенную, полагая, что к нему нужно относиться так же, как мы относимся к электромагнетизму или гравитации, то есть как к одному из основных строительных кирпичиков, из которых возведена реальность.
Мысль, что психоделики могли бы пролить свет на проблемы сознания, вполне разумна и имеет под собой определенный смысл. Психоделики достаточно сильны, чтобы настолько растрясти ту систему, которую мы называем обычным бодрствующим сознанием, что под действием этой встряски некоторые его фундаментальные свойства могут оказаться на виду. Да, анестетики тоже сотрясают сознание, однако в силу того, что эти препараты заодно и гасят его, подобные сотрясения мало что дают с точки зрения получения необходимых данных. И наоборот, человек, сидящий на психоделиках, постоянно находится в бодрствующем состоянии и потому способен отчитываться в том, что он или она испытывает в реальном времени. Сегодня эти субъективные сведения без труда можно соотнести с различными показателями мозговой активности, используя для этой цели различные способы нейровизуализации – инструменты, которых не было в распоряжении ученых в 1950-е и 1960-е годы, во время первой волны психоделических исследований.
Применяя эти технологии в комбинации с ЛСД и псилоцибином, ряд ученых, работающих в странах Европы и в США, открывают новое окно в глубины сознания, и то, что они там прозревают, обещает изменить наши представления о связях между мозгом и разумом.
Вероятно, самая амбициозная нейрофизиологическая экспедиция, использующая психоделики для составления карты местности человеческого сознания, осуществляется в лабораториях Центра психиатрии в Хаммерсмитском кампусе Имперского колледжа в Западном Лондоне. Недавно выстроенный, этот кампус отличается от других подобных ему сетью зданий, выполненных в футуристическом стиле, но при этом странно подавляющих, которые связаны между собой воздушными тротуарами, обрамленными стеклянными стенами и стеклянными же дверьми; последние бесшумно открываются при предъявлении удостоверения личности, приложенного к электронному глазку-счетчику. Именно здесь, в лаборатории Дэвида Натта, выдающегося английского психофармаколога, с 2009 года работает команда ученых, возглавляемая тридцатилетним нейробиологом по имени Робин Кархарт-Харрис, пытаясь обнаружить «нейронные корреляты», или физические аналоги, психоделических переживаний. Делая добровольцам инъекции ЛСД и псилоцибина, а затем используя различную сканирующую технику – главным образом функциональную магниторезонансную томографию (фМРТ) и магнитоэнцефалографию (МЭГ), позволяющую наблюдать за изменениями в деятельности мозга, – он со своей командой дает нам возможность впервые увидеть то, как выглядит и как протекает на уровне мозга процесс, напоминающий растворение эго, или галлюцинация, возникающая в сознании.
То обстоятельство, что вообще удалось сдвинуть с мертвой точки такой маловероятный и потенциально спорный исследовательский проект, обязано своим существованием одному немаловажному факту: пересечению в одном месте (в Англии) в году 2005-м от Рождества Христова трех самых необычных персонажей (и судеб). Эти люди суть Дэвид Натт, Робин Кархарт-Харрис и Аманда Филдинг, она же графиня Уэмисс и Марч.
Робин Кархарт-Харрис прошел достаточно витиеватый путь, прежде чем попал в психофармакологическую лабораторию Дэвида Натта, потому как перед этим он окончил полный учебный курс по психоанализу. В наши дни психоанализ являет собой теорию, которую лишь очень немногие нейрофизиологи принимают всерьез, тогда как большинство считает, что это просто набор не подлежащих проверке убеждений, а не наука. Кархарт-Харрис придерживался иной точки зрения. С головой погрузившись в сочинения Фрейда и Юнга, он, с одной стороны, был очарован теорией психоанализа, а с другой, разочарован ею – разочарован как отсутствием в ней научной строгости, так и ограниченностью средств исследования той области, которая считается самым важным аспектом сознания, – области бессознательного.
– Если бы у нас был только один путь, один доступ к бессознательному – через сны и свободные ассоциации, – сказал он мне, когда мы с ним впервые встретились и разговорились, – мы ровным счетом ничего бы не достигли. Бесспорно, должны быть и другие пути.
Однажды он спросил преподавателя, ведущего семинар, что будет, если этим «что-то» окажется наркотик. (Я спросил Робина, на чем основывалась его догадка – на личном опыте или на знании результатов исследований, но он дал ясно понять, что не желает обсуждать этот предмет.) Преподаватель посоветовал ему прочесть книгу Станислава Грофа «Области человеческого бессознательного: данные исследования ЛСД».
– Я пошел в библиотеку, взял книгу и прочел ее от корки до корки. И был потрясен до глубины души. Это определило курс всей моей дальнейшей жизни.
Кархарт-Харрис, стройный, подтянутый и вечно куда-то торопящийся молодой человек с аккуратно подстриженной бородкой и большими голубыми глазами, смотрящими на вас почти не мигая, разработал план, на осуществление которого ему понадобилось несколько лет, а именно: используя психоделики и современные технологии сканирования мозга, возвести под зданием психоанализа прочный фундамент науки. «Еще Фрейд говорил, что сны – это королевская дорога к бессознательному», – напомнил он. – А психоделики могли бы превратить ее в сверхскоростное шоссе». Кархарт-Харрис держит себя скромно, даже смиренно, не давая никакого повода подозревать его в тщеславии или дерзости амбиций. Он любит цитировать знаменитую и довольно смелую фразу Грофа, что для понимания сознания психоделики будут тем же, чем телескоп был для астрономии или микроскоп для биологии.
В 2005 году Кархарт-Харрис получил степень магистра в области психоанализа и начал обдумывать свой переход в нейробиологию – к психоделикам. Он начал опрашивать всех, кого только мог, занимался целенаправленным поиском в Интернете и в конечном счете вышел на Дэвида Натта и Аманду Филдинг, двух человек, которых мог бы заинтересовать его проект и которые были в состоянии помочь ему. Вначале он сблизился с Амандой Филдинг, которая в 1998 году основала так называемый Фонд Бекли, ставивший перед собой цель исследовать воздействие на мозг психоактивных веществ и лоббировать реформу политики в отношении наркотиков. Фонд назван в честь Бекли-парка в Оксфордшире, обширного поместья XIV века в стиле Тюдоров, где Аманда выросла и куда в 2005 году пригласила Кархарт-Харриса на обед. (Во время моего недавнего визита в Бекли я насчитал две башни и три рва с водой.)
Аманда Филдинг (она родилась в 1943 году) эксцентрична постольку, поскольку может быть эксцентричной дама, воспитанная в среде английской аристократии. (Ее род принадлежит к династии Габсбургов, а сама она ведет наследственную линию от одного из двух незаконнорожденных отпрысков Карла II.) В университете она изучала сравнительную религию и мистицизм, и тогда же у нее возник устойчивый интерес к измененным состояниям сознания и особенно к той роли, которую играет в мозге кровоток: по ее убеждению, он был нарушен в тот момент, когда вид Homo sapiens научился стоять и ходить прямо. ЛСД, считает Филдинг, усиливает когнитивные функции и способствует достижению более высоких состояний сознания за счет усиления кровообращения в мозге. Но этого же результата можно достичь и другим путем – посредством такой древней практики, как трепанация черепа. На мой взгляд, эта тема заслуживает небольшого экскурса.
Под трепанацией подразумевают просверливание в черепе неглубокого отверстия, что, как предполагают, значительно улучшает кровообращение мозга, а заодно препятствует сращению черепных костей, которое происходит в детские годы. Трепанация на протяжении многих веков считалась вполне обычной врачебной процедурой, если судить по количеству черепов древних людей с продолбленными или просверленными в них аккуратными отверстиями. Глубоко убежденная, что именно трепанация помогала достигать высших состояний сознания, Филдинг стала искать человека, который мог бы сделать эту операцию на ее черепе. Когда стало ясно, что ни один профессиональный врач добровольно не пойдет на это, она в 1979 году сделала трепанацию черепа самой себе, просверлив во лбу маленькую дырочку электрической дрелью. (Этот процесс она засняла в коротком, но наводящем ужас фильме «Сердцебиение в мозге».) Удовлетворенная результатом, Филдинг дважды выставляла свою кандидатуру на выборах в парламент под лозунгом «Трепанация во имя здоровья нации».
Но хотя Аманда Филдинг и эксцентрична, ее ни в коей мере нельзя назвать безответственным человеком. Ее работа и в области изучения свойств наркотиков, и в области реформы политики в отношении наркотиков отличается серьезностью, продуманностью стратегических линий и продуктивностью. В последние годы ее интерес сместился от трепанации к психоделикам, их потенциалу и способности улучшать деятельность мозга. В жизни она использует ЛСД как своего рода «тоник для мозга», ежедневно принимая небольшую дозу, которая, по ее словам, воздействует «на то чудное местечко, где творчество и энтузиазм возрастают, а контроль сохраняется». (Однажды, рассказала мне Аманда, она приняла дозу «тоника» в количестве 150 микрограммов, то есть значительно превышающую ее обычную ежедневную дозу и более чем достаточную для того, чтобы отправить большинство людей, включая и меня, в полноценный «кислотный трип». Но поскольку частое употребление ЛСД вызывает привыкание к препарату, то вполне возможно, что для некоторых людей эти 150 микрограммов «все равно что еще одна искра к и без того искрящемуся сознанию».) Когда мы завели разговор о психоделической науке, я нашел, что Аманда Филдинг обезоруживающе честна и откровенна касательно той ноши, которой она эту науку обременяет, имея в виду саму себя: «Я наркоманка. Я живу в этом большом доме. И у меня дыра в голове. Полагаю, это говорит не в мою пользу».
Таким образом, когда в 2005 году к ней на обед в Бекли-парк приехал амбициозный молодой ученый по имени Робин Кархарт-Харрис и поделился с ней своей дерзкой мечтой объединить исследования ЛСД и Фрейда, Филдинг сразу же разглядела потенциал этого проекта, как и возможность на практике проверить свои теории о мозговом кровообращении. Она дала понять Кархарт-Харрису, что ее фонд готов финансировать эти исследования и посоветовала ему связаться с Дэвидом Наттом (он преподавал в то время в Бристольском университете), ее союзником в кампании по реформе политики в отношении наркотиков.
На свой лад Дэвид Натт является в Англии такой же знаменитостью, что и Аманда Филдинг. Натт, большой, веселый мужчина лет шестидесяти, с усами и громким заразительным смехом, сделался знаменитостью в 2009 году. Именно в этом году министр внутренних дел уволил его из правительственного Консультативного совета по вопросам злоупотребления наркотиками, председателем которого он был. В обязанности совета входило консультировать правительство по вопросу запрещенных наркотиков, исходя из их опасности для отдельных лиц и для общества. Натт, известный эксперт в области наркозависимости и специалист-нарколог, специализировавшийся на так называемых бензодиазепинах (к ним, например, принадлежит валиум), допустил роковую политическую ошибку, давая чисто эмпирическую оценку опасности различных психоактивных веществ, как легальных, так и нелегальных. В своих оценках он опирался на опыт собственных исследований, и потому любому, кто к нему обращался с данным вопросом, открыто говорил, что алкоголь более опасен, чем конопля, и что «экстази» более безопасен, чем верховая езда на лошади.
– Но уволили меня, – рассказал он мне, когда мы встретились с ним в его офисе в отеле Imperial, – из-за нескольких фраз, которые я произнес в одной утренней программе на телевидении. Когда меня спросили: «Вы же несерьезно говорите о том, что ЛСД менее вреден, чем алкоголь, разве не так?» – я ответил: «Разумеется, серьезно!»[45].
Робин Кархарт-Харрис встретился с Дэвидом Наттом в 2005 году. Он приехал к нему в Бристоль в надежде начать изучать под его руководством психоделики и науку сновидений; стараясь быть стратегом, он упомянул о возможности финансирования их исследований фондом Аманды Филдинг. Вспоминая их беседу, Кархарт-Харрис говорит, что Натт был категоричен в своем отказе:
– Он сказал мне: «Идея, которую вы хотите реализовать, неправдоподобна, притянута за уши, у вас нет никакого опыта работы в нейробиологии, так что все это абсолютно нереально». Но я сказал ему, что готов рискнуть всем.
Впечатленный решимостью молодого человека, Натт предложил ему:
– Знаете что? Для начала напишите под моим руководством докторскую диссертацию. Мы начнем с чего-нибудь простого, – (этим «простым» стало воздействие МДМА на систему серотонина), – а затем, позже, мы, может быть, перейдем к психоделикам.
Этим «позже» стал 2009 год, когда Кархарт-Харрис, вооруженный докторской степенью и уже работая в лаборатории Натта, финансируемой фондом Аманды Филдинг, получил (от Национальной службы здравоохранения и министерства внутренних дел) добро на изучение свойств псилоцибина и его воздействия на мозг. (ЛСД добавится лишь через несколько лет.) В качестве первого добровольца, предложившего свои услуги, выступил сам Кархарт-Харрис.
– Если уж собираешься давать наркотик людям и затем помещать их в сканирующее устройство, то, я думаю, самым честным будет начать именно с себя, – заявил он. – А Натту я сказал: «По темпераменту я человек неспокойный и психологически, возможно, нахожусь не в лучшей форме», поэтому Натт стал меня отговаривать; к тому же он считал, что участие в эксперименте может существенно исказить мою объективность.
В конце концов первым добровольцем стал один из их коллег: ему сделали инъекцию псилоцибина, а затем поместили в функциональный магниторезонансный томограф, чтобы сканировать его галлюцинирующий мозг.
В качестве рабочей Кархарт-Харрис взял гипотезу, что мозг субъектов при галлюцинациях будет проявлять повышенную активность, особенно сильную в центрах, отвечающих за эмоции. «Я считал, что это будет напоминать картину мозга в состоянии сновидений», – сказал он мне. Дело в том, что к этому времени Франц Волленвейдер, использовавший в своих исследованиях различную сканирующую технику, уже опубликовал данные, свидетельствовавшие о том, что психоделики в самом деле стимулируют работу мозга, особенно в лобных долях. (Область, отвечающая за исполнительные и другие высшие когнитивные функции.) Но когда Кархарт-Харрис получил на руки первые результаты, он был изрядно удивлен:
– Мы увидели снижение интенсивности кровотока. – (Скорость кровотока является одним из индикаторов общего состояния и деятельности мозга; именно ее измеряют с помощью фМРТ). – Неужели мы допустили ошибку? Было от чего схватиться за голову!