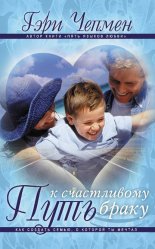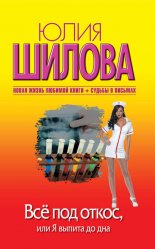Мир иной. Что психоделика может рассказать о сознании, смерти, страстях, депрессии и трансцендентности Поллан Майкл

Я встретился с Келманом (в ту пору ему было под девяносто) в маленькой, тесно обставленной мебелью квартирке (одной из множества в специальном доме для престарелых супружеских пар, выстроенном в Вест-Кембридже), где он жил вместе с женой. Келман не выказал ни малейших признаков вражды или злобы по отношению к Лири, но при этом был весьма невысокого мнения о нем как о преподавателе и ученом; он тоже считал, что Лири разочаровался в науке задолго до того, как в его жизнь вошли психоделики. По мнению Келмана, еще до приобщения к псилоцибину «он был уже на полпути к безрассудству и вопиющим крайностям».
Приобщение Лири к псилоцибину (оно состоялось у бассейна в Мексике летом 1960 года) произошло через три года после того, как Гордон Уиссон опубликовал в журнале Life статью о «грибах, вызывающих странные видения», грибах, преобразовавших и самого Лири, и всю его жизнь. Однажды вечером его страсть к познанию человеческого разума вдруг воспламенилась – и повлекла за собой взрыв.
«За те четыре часа, что я провел у бассейна в Куэрнаваке, я узнал о разуме, мозге и его структуре больше, чем за все предшествующие пятнадцать лет, в течение которых я добросовестно подвизался в качестве психолога, – пишет он в своих мемуарах «Мои воспоминания» (1983). – Я узнал, что мозг – недостаточно используемый биокомпьютер… и что обычное сознание – всего лишь капля в океане разумности. Что сознание и разум можно систематически расширять. Что мозг можно перепрограммировать».
Лири вернулся из своих галлюцинаторных странствий, движимый неодолимым желанием «ринуться назад и рассказать об этом всем и каждому», как он вспоминает в других своих мемуарах, «Верховный жрец», вышедших в 1968 году. А затем следует несколько фраз, которые он, судя по всему, произносит пророческим голосом и которые предвосхищают всю будущую траекторию жизни Тимоти Лири:
«Внемлите! Проснитесь! Вы – Бог! Вы носите в себе Божественный план, вписанный священными письменами в ваши клетки. Слушайте! Причаститесь этому таинству! И вы узрите! Вам будет дано откровение! И это изменит вашу жизнь!»
Но первые год или два в Гарварде Лири усердно или, точнее, привычно занимался наукой. Вернувшись в Кембридж, он той же осенью завербовал себе в помощники Ричарда Алперта, подающего большие надежды молодого доцента, который к тому же был наследником огромного состояния, нажитого его отцом, владельцем железных дорог, и, заручившись молчаливым одобрением заведующего кафедрой, Дэвида Макклелланда, втроем они приступили к осуществлению псилоцибинового проекта, под который облюбовали себе подсобное помещение (в нем хранились швабры и метлы) на факультете социально-правовых отношений в доме № 5 на Дивинити-авеню. (Я специально пошел взглянуть на этот дом, но оказалось, что его давно уже снесли и выстроили на его месте длинное кирпичное здание Центра научных исследований.) Лири, прирожденный коммерсант, убедил руководство университета, что проводимые им исследования неукоснительно следуют традиции Уильяма Джеймса, который еще в начале века изучал в Гарварде состояния измененного сознания и опыт мистических откровений. Руководство дало добро, но поставило одно условие: если уж Лири и Алперт собираются испытывать новые препараты на студентах, то пусть делают это на аспирантах, а не на студентах-выпускниках. И вскоре в перечне курсов и семинаров Гарвардского университета появился новый семинар с интригующим названием.
Эксперимент по расширению сознания
На семинаре будет сделан обзор литературы, посвященной внутренне и внешне индуцированным изменениям сознания. Будут рассмотрены основные элементы мистического опыта с привлечением межкультурного подхода. Участники семинара примут участие в экспериментах по расширению сознания, а на самом семинаре главное внимание будет уделяться систематическому анализу проблем методологии в этой научной сфере. Семинар рассчитан только на духовно продвинутых аспирантов. Допуск производится после собеседования с руководителем.
Семинар с таким названием и содержанием оказался невероятно популярным.
За три года своего существования псилоцибиновый проект, на удивление, не дал каких-либо существенных результатов, по крайней мере с точки зрения науки. В ходе первых экспериментов с псилоцибином Лири и Алперт привлекали к участию в них людей всех категорий, включая домохозяек, музыкантов, художников, ученых, писателей, друзей-психологов и аспирантов, которые затем заполняли опросники, делясь своими впечатлениями об увиденном и пережитом. Согласно предварительному отчету о проделанной работе, носившему название «Американцы и грибы в их естественной среде», большинство переживаний, выпавших на долю участников, были в целом сугубо положительными и судьбоносными.
«Естественная среда» – очень точное выражение, потому как сеансы проводились не в учебных зданиях университета, а в уютных гостиных, при свечах и под музыкальное сопровождение, так что случайный наблюдатель, доведись ему попасть на них, счел бы их скорее вечеринками, а не экспериментами, особенно потому, что в них обычно участвовали и сами экспериментаторы. (Лири и Алперт героически принимали большущие количества псилоцибина, а позже и ЛСД.) Лири, Алперт и их аспиранты действительно старались, по крайней мере вначале, записывать впечатления о своих псилоцибиновых трипах и писать отчеты о впечатлениях других людей, потому как чувствовали себя пионерами-первопроходцами, исследующими неведомые границы сознания, чего за предыдущее десятилетие работы по изучению психоделического ландшафта никто никогда не делал. «Мы были сами по себе, – писал Лири, впрочем не очень искренно. – В западной литературе почти нет ни путеводителей, ни карт, ни текстов, хотя бы даже признающих существование измененных состояний сознания».
Однако, имея довольно-таки богатый опыт в области полевых исследований, Лири все же удосужился написать небольшой теоретический труд, где рассматривалась идея «установки» и «обстановки» и где эти понятия впервые в литературе использовались в своем истинном значении и в должном контексте. Эти практичные термины, если нe сами понятия, которые они обозначают (а слава за их открытие по праву принадлежит Хаббарду), вполне хорошо отражают тот существенный вклад, который внес Лири в психоделическую науку. Те несколько работ, которые успели опубликовать Лири и Алперт за первые годы работы в Гарварде, стоят того, чтобы их прочитать, потому как они хорошо написаны, дают наглядную картину этнографии психоделического опыта и служат примерами текстов, в которых прослеживаются первые наметки пробуждения новой чувствительности.
Опираясь на ту идею, что судьбоносные озарения участников псилоцибинового проекта вполне могут найти широкое применение в социальной сфере, Лири и один из его аспирантов, Ральф Мецнер, задумали в 1961 году еще более амбициозный проект – эксперимент в Конкордской тюрьме, имевший целью доказать, что таящийся в псилоцибине потенциал, ведущий к изменению личности, может быть использован для снижения рецидивизма у закоренелых преступников. То, что этот смелый эксперимент вообще сдвинулся с мертвой точки, служит наглядным свидетельством как личного обаяния Лири, так и его коммерческих качеств, потому как подписаться и дать согласие на его проведение должен был не только тюремный психиатр, но и весь штат надзирателей.
Идея заключалась в том, чтобы сравнить уровни рецидивизма у двух групп заключенных, находящихся в тюрьме строгого режима, расположенной в городке Конкорд, штат Массачусетс. В ходе сеансов, проводившихся в самой тюрьме, первой группе, состоявшей из 32 человек, давался псилоцибин, и такую же дозу псилоцибина принимал вместе с ними человек из команды Лири – не из чувства сострадания к заключенным, как объяснил Лири, а чтобы они не чувствовали себя подопытными морскими свинками[30]. Еще один человек из команды Лири был сторонним наблюдателем: он следил за проведением сеанса и делал заметки. Второй группе заключенных препарат вообще не давался, как не применялось к ним и никаких специальных методов воздействия. Но что самое существенное: за людьми из этих двух групп в течение многих месяцев после их освобождения велось наблюдение.
Вскоре Лири сообщил о сногсшибательных результатах: через 10 месяцев после освобождения только 25 % реципиентов, принимавших псилоцибин, вновь угодили в тюрьму, тогда как в контрольной группе число угодивших в тюрьму превысило 80 %. Но когда Рик Доблин из МАПС (Международной ассоциации по предотвращению самоубийств) десять лет спустя скрупулезно воспроизвел Конкордский эксперимент, рассмотрев результаты по каждому субъекту, он пришел к выводу, что Лири сильно преувеличил статистические данные; в сущности, по уровню рецидивизма обе группы ничем существенно не отличались друг от друга. (Интересно, что даже в то время методологические недостатки исследований побудили Дэвида Макклелланда, заведующего кафедрой, написать Мецнеру язвительную записку.) Проанализировав научную работу, проделанную Лири, Сидни Коэн, сам психоделический исследователь, заключил, что «это были такого рода исследования, от которых ученых бросало в дрожь».
Куда более ощутимую роль Лири сыграл в другом, более заслуживающем доверия исследовании, проведенном весной 1962 года, – в Бостонском эксперименте, описанном в первой главе. В отличие от Конкордского эксперимента «чудо в Маршской часовне», как стали называть Бостонский эксперимент, безоговорочно удовлетворяло всем условиям полностью контролируемого психологического опыта двойным слепым методом. Ни самим исследователям, ни их подопечным – 22 студентам – не говорили, кто из них получил настоящий препарат, а кто – плацебо, и эта мера оказалась весьма действенной. Конечно, и Бостонский эксперимент был далеко не идеален; например, Панке утаил тот факт, что один из участников настолько возбудился под действием псилоцибина, что ему пришлось дать успокоительное. И все же главный вывод, к которому пришел Панке: что псилоцибин вполне способен вызвать у человека мистические озарения, «ничем не отличающиеся от тех (если не сказать: идентичные с теми), что описаны в литературе», – по-прежнему остается незыблемым, не говоря уже о том, что он вдохновил нынешнюю волну исследований, особенно тех, что велись в медицинском центре Джонса Хопкинса, где они были вновь воспроизведены (грубо говоря) в 2006 году.
Но главная заслуга в проведении Бостонского эксперимента по справедливости принадлежит Уолтеру Панке, а не Тимоти Лири, который с самого начала критически относился к его разработкам и даже однажды заявил, обращаясь к Панке, что возиться с контрольной группой, или плацебо-группой, – пустая трата времени. «Из этого опыта мы вынесли и усвоили одну вещь, – писал Лири по прошествии нескольких лет, – а именно: с нашей стороны было глупостью проводить опыт с психоделиками двойным слепым методом. Достаточно пяти минут – и уже никто никого не обманет».
К этому времени Лири во многом потерял интерес к науке и научной деятельности, потому как готовился к другого рода деятельности – торговле «психологической игрой», за что и был прозван «игровым гуру». (Вероятно, самая привлекательная черта характера Лири в том, что он не принимал себя всерьез, даже как гуру.) Ему давно стало ясно, что духовное и культурное значение псилоцибина и ЛСД значительно перевешивает любой терапевтический метод, применяемый к человеку. Как Хаббарда, Хаксли и Озмонда до него, психоделики убедили также и Лири в том, что они не только обладают целительной силой, благотворно воздействующей на человека, но и способны изменить само общество и спасти человечество, поэтому его миссия – служить этой цели, то есть стать пророком и нести это знание в массы. Создавалось такое впечатление, будто не он, а сами химические соединения разработали блестящую схему своего распространения, завладев мозгом этого харизматичного человека с мессианскими наклонностями.
«В Гарварде мы много размышляли о недавней истории, – пишет Лири об этом периоде своей жизни, – наивно полагая, что то было время (после узколобых и ностальгических пятидесятых) нетрадиционных замыслов и видений, и ясно при этом сознавая, что Америка покончила с прежней философией и теперь отчаянно нуждается в новой, эмпирической и вполне осязаемой метафизике». Необходимый фон для этих идей сформировали атомная бомба и холодная война, которые значительно ускорили сам проект, обеспечив ему дополнительные субсидии.
Переходу Лири от науки к евангелизму немало содейст-вовали также и некоторые деятели культуры из числа тех, кого он приобщил к психоделикам. Так, в декабре 1960 года на сеансе, проводившемся у него дома, в Ньютоне, побывал (и получил свою дозу псилоцибина) поэт-битник Ален Гинз-бург, человек, которому для роли визионера-пророка совсем не требовался химический стимул: он бы и так ее прекрасно исполнил. К концу своего экстатического странствия по внутренним мирам Гинзбург, спотыкаясь, спустился с лестницы, сорвал с себя всю одежду и заявил, что намерен голым гулять по улицам Ньютона, проповедуя всем и каждому новое евангелие.
«Мы будем учить людей любви, а не ненависти, – заявил он, – потому как отныне учреждаем новое движение в поддержку мира и любви». Не скрою, в его словах прямо-таки чувствуется только что вылупившийся из яйца и еще не обсохший желторотый юнец 1960-х годов. Когда Лири попробовал убедить Гинзбурга не выходить из дому (на дворе все-таки стоял декабрь), поэт подскочил к телефону и начал дозваниваться до лидеров мировых держав, Кеннеди, Хрущева и Мао Цзэдуна, пытаясь свести их вместе, чтобы они пришли к согласию и договорились об устранении существующих противоречий. В конце концов ему удалось дозвониться только до своего друга, писателя Джека Керуака, которого он почему-то назвал Богом («это же БООООГ») и которому настоятельно советовал отведать волшебных грибов.
И не только ему, но и всем другим.
Гинзбург был убежден, что Лири как человек (и к тому же гарвардский профессор) идеально подходит для того, чтобы возглавить новый крестовый поход – психоделический. Для Гинзбурга тот факт, что «колыбелью» нового пророка служит Гарвардский университет, альма-матер только что избранного президента, был свидетельством разыгрывающейся на глазах «исторической комедии», где был «только он, единственный и неповторимый доктор Лири, уважаемый человек, мирянин, взваливший на себя бремя Мессии». Слова знаменитого поэта не пропали втуне, а упали благодатным семенем на плодородную, обильно политую и унавоженную почву эго Тимоти Лири. (Одно из множества парадоксальных воздействий психоделиков на сознание человека заключается в том, что они содействуют растворению его эго; но в ряде случаев и у некоторых людей это приводит к непомерному раздуванию их эго и завышению самооценки. Якобы приобщенный к великой тайне Вселенной, реципиент, то есть получатель этого знания, поневоле чувствует себя особенным человеком, выбранным для великих свершений.)
Хаксли, Хаббард и Озмонд разделяли это владевшее Лири чувство исторической миссии, но у них были совершенно другие представления о том, как наилучшим образом ее осуществить. Все трое были склонны к спиритизму, более ориентированному не на спрос, а на предложение: сначала ты должен стать частью элиты, а уж потом позаботиться о том, чтобы новое сознание просочилось в массы, которые, возможно, вовсе еще не готовы к восприятию такого потрясающего опыта. Для них негласным образцом служили элевсинские мистерии, во время которых греческая элита собиралась в тайном месте, принимала священный kykeon и всю ночь предавалась мистическим откровениям. Но Лири и Гинзбург, оба суровой американской закваски, были полны решимости демократизировать духовидческий опыт, сделать запредельное доступным для всех и каждого, причем прямо сейчас. Разумеется, это великое благо стало возможным только благодаря психоделикам: впервые осуществить это на деле позволило развитие техники. Годы спустя гарвардский профессор, психиатр Лестер Гринспун отразил этот явление в книге «Новый взгляд на психоделические наркотики», написанной им в соавторстве с Джеймсом Бакаларом: «Благодаря психоделикам для массового туризма стали доступны психические территории, которые прежде исследовали лишь немногочисленные отряды бесстрашных авантюристов, в основном религиозных мистиков». Или поэтов-духовидцев, таких как Уильям Блейк, Уолт Уитмен и Ален Гинзбург. Теперь же с помощью плоской круглой таблетки или квадратной «промокашки» любой мог воочию почувствовать и испытать то, что до них пытались донести Блейк и Уитмен.
Но эта новая, духовная форма массового туризма поначалу не пользовалась особым успехом, потому как широко не тиражировалась и не имела шумной рекламы. Радикальный перелом произошел весной 1962 года, когда весть о спорах, разгоревшихся вокруг псилоцибинового проекта, попала в газеты, перекочевав туда из гарвардской студенческой газеты Crimson. Гарвард есть Гарвард, а Лири есть Лири; история быстро просочилась в американскую прессу, сделав профессора психологии национальной знаменитостью, но при этом ускорив его (и Алперта) отчисление из университета; мало того, разразившийся скандал, с одной стороны, предвосхитил, а с другой, помог разжечь негативную реакцию, обращенную против наркотиков, в результате чего в скором времени была приостановлена или полностью свернута большая часть исследований.
Коллеги Лири и Алперта практически с самого начала были весьма критически настроены к псилоцибиновому проекту. Еще в 1961 году Дэвид Макклелланд поднял в своей записке вопросы как об отсутствии должного контроля и медицинского наблюдения в исследованиях Лири и Алперта, проводившихся, как мы помним, в «естественной среде», так и о том, что исследователи настаивали на приеме препаратов вместе с подопечными, которых насчитывались сотни. («Как часто индивидуум должен принимать псилоцибин?» – спрашивает он, адресуясь к Лири и Алперту.) Макклелланд также пенял этим двум исследователям на их «философскую наивность».
«Имеется немало отчетов о пережитом людьми глубоком мистическом опыте, – пишет он, – но главная особенность всех этих отчетов – удивление человека собственной непостижимой глубиной». На следующий год, подробно разбирая Конкордский эксперимент Ральфа Мецнера, Макклелланд обвинил аспиранта в «недостаточной объективности и тщательности анализа приведенных данных. Вам известно, к каким выводам необходимо прийти… и данные вы используете таким образом, чтобы подкрепить ими уже известную вам истину». Несомненно, что популярность псилоцибинового проекта как среди студентов факультета, так и среди его немногочисленной клики раздражала преподавателей факультета, которым пришлось сражаться с Лири и Алпертом за самые драгоценные научные ресурсы – талантливых аспирантов.
Но весь этот «сор» до поры до времени так и оставался в стенах дома № 5 на Дивинити-авеню – вплоть до марта 1962 года. Именно в марте Макклелланд по просьбе Херба Келмана объявил о собрании студентов и преподавателей факультета по вопросу, касающемуся дальнейшей судьбы псилоцибинового проекта и связанных с ним проблем. Келман попросил об этом, потому что до него дошли слухи, будто вокруг Лири и Алперта создается некий культ и будто некоторых студентов чуть ли не насильно вынуждают участвовать в сеансах и принимать препарат.
В самом начале собрания Келман попросил слова и сказал: «Мне жаль, что я не могу отнестись к происходящему как к простому расхождению во мнениях, столь нередкому среди ученых, но эта работа, на мой взгляд, подрывает ценности академического сообщества. Всю программу окружает анти-интеллектуальная атмосфера. Ее акцент делается на чистом опыте, а не на оглашении результатов. С сожалением вынужден заявить, что доктор Лири и доктор Алперт весьма легкомысленно относятся к этим экспериментам, особенно учитывая то воздействие, которое препараты могут оказывать на субъектов. Что меня беспокоит больше всего, – заключил свою речь Келман, – меня и других, кто обращается ко мне, так это то, что галлюциногенные и психические воздействия этих препаратов используются для формирования на факультете своего рода „внутренней“ секты. На тех, кто предпочитает стоять в стороне от этого процесса, навешивают ярлык „консерваторов“. Не мне вам говорить, что подобные вещи не должны поощряться на нашем факультете».
Таким образом, психоделики разделили надвое один из гарвардских факультетов, так же как в скором времени они разделят и культуру.
Алперт страстно отреагировал на речь Келмана, заявив, что работа ведется в «истинных традициях Уильяма Джеймса», негласного бога факультета психологии, и что своей критикой Келман посягает на святая святых – академическую свободу. Лири занял более миролюбивую позицию, согласившись на ряд разумных ограничений, от которых, на его взгляд, особого вреда не будет. В результате все разошлись по домам, считая, что дело закрыто и конфликт улажен.
Но, как оказалось, ненадолго – до следующего утра.
Зал собраний был так набит преподавателями и студентами, что никто не обратил внимания на присутствие там ничем не примечательного студента по имени Роберт Эллис Смит, одного из редакторов газеты Crimson и ее бессменного автора, который что-то яростно чиркал в своем блокноте. На следующий день весть о научной распре была вынесена на первую страницу Crimson под заглавием: «Психологи расходятся во мнении о ценностях исследований псилоцибина». А уже на следующий день эту историю подхватила газета Boston Herald, печатный орган Херста, украсив ее еще более броским, если не более точным, заголовком: «Гарвард борется с галлюциногенным наркотиком – 350 студентов принимают таблетки». Так завершилась эта история, а с ней и академическая карьера Тимоти Лири, известного тем, что он всегда был рад ошарашить журналиста какой-нибудь изысканной сногсшибательной цитатой. Одну из них он выдал как раз после того, как администрация университета вынудила его пополнять запасы псилоцибиновых таблеток компании Sandoz под контролем Санитарной службы США: «Психоделики сеют панику и вызывают временное помешательство лишь у тех, кто никогда их не принимал».
В конце года Лири и Алперт пришли к выводу, что «сила этих материалов слишком велика и что сами они вызывают слишком много споров, чтобы можно было заниматься их исследованием в университетской обстановке». В письме в газету Crimson они заявили, что теперь заняты созданием фонда, который будет носить название Международный фонд внутренней свободы (МФВС), так что впредь все исследования будут проводиться именно под его эгидой, а не эгидой Гарварда. Кроме того, они резко раскритиковали новые ограничения, налагаемые на психоделические исследования не только в Гарварде, но и повсюду федеральным правительством: в кильватере недавней трагедии с талидомидом, когда этот новый транквилизатор, который обычно давали беременным женщинам по утрам как средство от тошноты, стал причиной ужасных дефектов у новорожденных младенцев, конгресс США уполномочил Управление по санитарному надзору регулировать норму экспериментальных лекарственных препаратов. «Впервые в истории Америки, – возмущались создатели МФВС в специальном воззвании, – и впервые в истории западного мира со времен инквизиции появилось и существует научное подполье». «В следующем десятилетии, – предсказывали они, – главным вопросом, вынесенным на повестку дня в сфере гражданских свобод, будет вопрос о контроле и расширении сознания».
«Кто контролирует ваш мозг? – спрашивали они в письме, адресованном газете Crimson, то есть студентам. – Кто определяет объем и пределы вашего сознания? Если вы хотите исследовать свою нервную систему, расширить свое сознание, кто должен определять, что можно, а что нельзя и почему?»
О психоделиках часто говорят, что в 1960-х годах они «вырвались на свободу из стен лаборатории», но было бы куда правильнее сказать, что их перебросили через стену лаборатории, причем никто не делал этого с такой сноровкой и быстротой, как Тимоти Лири и Ричард Алперт в конце 1962 года. «Мы наигрались в научные игры и покончили с этим», – заявил Макклелланду Лири, когда той осенью он вернулся в Кембридж. Отныне Лири и Алперт играли в другую игру – игру под названием «культурная революция».
Многочисленное североамериканское сообщество психоделических исследователей со страхом и тревогой отреагировало на провокации Лири. Лири в это время поддерживал регулярные контакты с группами на Восточном побережье и в Канаде, обмениваясь письмами и визитами, причем довольно частыми, со своими далекими коллегами. (Так, например, в 1960 или 1961 году они с Алпертом нанесли визит Столяроффу и посетили основанный им фонд. «Думаю, они считали, что мы слишком уж нетерпимы в вопросах морали», – смеясь, сказал мне Дон Аллен.) Вскоре после прибытия в Гарвард Лири познакомился с Хаксли, который вел один семестр в Массачусетском технологическом институте. Хаксли прямо-таки влюбился в жуликоватого профессора; он не скрывал, что разделяет его стремления и всячески поддерживает его взгляды на роль психоделиков как средство культурного преобразования, но выражал беспокойство по поводу того, что он движется к цели слишком быстро и слишком уж прямолинейно, зачастую, как говорится, на грани фола[31]. Во время своего последнего визита в Кембридж (Хаксли умрет в Лос-Анджелесе в ноябре 1963 года, в тот же день, что и Джон Ф. Кеннеди) Хаксли не мог отделаться от чувства, что Лири «несет заведомую чепуху… чем я весьма обеспокоен. Обеспокоен не его безрассудством, поскольку он абсолютно в здравом уме, а его перспективами в этом мире».
Вскоре после того, как Лири объявил о создании Международного фонда внутренней свободы, Хамфри Озмонд приехал к нему в Кембридж, чтобы попытаться образумить его. Его и Абрама Хоффера очень беспокоило то обстоятельство, что Лири проталкивает свои препараты в массы за рамками и вне контекста клинических исследований и что это проталкивание таит в себе угрозу, потому как провоцирует правительство на ответные действия и может положить конец их собственным исследованиям. Озмонд придирался к Лири и за то, что тот работает без психофармаколога, и за то, что обращается с этими «мощными химическими составами как с безобидными игрушками». Движимый надеждой отделить серьезные исследования от безответственного подхода к их результатам и обеспокоенный тем, что контркультура придает негативный смысл еще недавно абсолютно нейтральному понятию «психоделик», Озмонд попытался ввести в обиход новое понятие: «психоделетик». Нет нужды говорить, что оно так и не прижилось.
– Тебе следует серьезно отнестись к этим возражениям, а не отмахиваться от них, прикрываясь своей космической улыбкой, – вразумлял его Озмонд. Но в ответ – все то же самое: нестираемая улыбка на лице Лири! Несмотря на все свои старания, Озмонд так ничего и не добился – кроме этой улыбки.
Майрон Столярофф тоже не остался в стороне и написал Лири резкое письмо, где назвал МФВС «фондом сумасшедших» и напророчил, что его крах не за горами: он «посеет хаос среди всех, кто занимается исследованием ЛСД для блага нации… Тим, я убежден, что тебя ждут очень серьезные трудности, если ты планируешь и дальше идти тем же курсом, о котором ты мне писал, причем ты навлечешь большие трудности не только на себя, но и на всех нас, и тем самым нанесешь непоправимый ущерб делу изучения психоделиков в целом».
Но в чем именно заключался план МФВС? Лири с радостью заявил об этом во всеуслышание: познакомить с «сильнодействующими психоделиками» как можно больше американцев, чтобы разом изменить «единый мозг страны». Он сделал математические вычисления и на их основании пришел к выводу, что «критическим числом, способным вынести мозг американскому обществу, является четыре миллиона пользователей ЛСД» и что «случится это до 1969 года».
Как показала жизнь, вычисления Лири были не такими уж эфемерными. Хотя число пользователей ЛСД к 1969 году только приближалось к двум миллионам, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы вынести мозг американскому обществу, оставив страну в состоянии полной прострации.
Но самым решительным и непреклонным образом на планы Лири, касающиеся всемирной психической революции, откликнулся Эл Хаббард, которого связывали с профессором довольно непростые отношения. Они встретились вскоре после возвращения Лири в Гарвард, куда Хаббард прибыл на своем «роллс-ройсе» с запасом ЛСД, который он надеялся обменять у Лири на псилоцибин.
«Он заявился в своей пресловутой униформе, – вспоминает Лири, – распространяя вокруг себя невероятную атмосферу таинственности и красочности… Умеет же он впечатлять, дерьмо собачье!» Что ж, в верности суждений Лири не откажешь: по этой части он был мастак. Хаббард «начал щеголять именами друзей и знакомых, да такими, что и поверить трудно… заявив, что он дружит с самим Папой. Что меня впечатлило больше всего, так это то, что, с одной стороны, он выглядит как мелкий торговец-мошенник, а с другой, водит знакомство с самыми потрясающими людьми мира, которые его всячески поддерживают».
Но легендарное обаяние Лири на Хаббарда никогда особо не действовало, потому как последний, человек сугубо консервативный и набожный, был глубоко чужд и блеску публичной славы, и нарождающейся контркультуре. «Когда мы впервые встретились, Тим мне понравился, – скажет Хаббард многие годы спустя, – но я десятки раз предупреждал его», чтобы он держался подальше от неприятностей и прессы. «Он казался человеком, движимым добрыми намерениями, но затем перегнул палку… и оказался совершенно невыносимым». Как и многие его коллеги, Хаббард резко осуждал методы Лири, действовавшего по принципу «не попробуешь – не узнаешь», особенно его готовность обходиться без такого важного для психоделических сеансов лица, как умелый и хорошо обученный «поводырь». Вполне возможно, что на его отношение к Лири повлияли также и его обширные связи в правоохранительных органах и разведке, которые давно взяли на заметку мятежного профессора.
По словам Озмонда, антипатия Капитана к Лири с особой силой дала о себе знать во время психоделического сеанса (они оба в нем участвовали), состоявшегося как раз в этот период нарастающих противоречий. «Эл был прямо-таки одержим мыслью, что ему следует пристрелить Тимоти, и когда я начал вразумлять его, доказывая, что это очень плохая идея… у меня было очень неспокойно на душе, потому как мне казалось, что он может пристрелить и меня».
Вероятно, Хаббард был прав, посчитав в конце концов, что никакая пуля теперь не остановит Тимоти Лири. Оставалось лишь надеяться на лучшее. Ту же мысль выразил и Столярофф в конце своего письма к Лири, написав: «Полагаю, все же есть, пусть и небольшая, надежда на то, что если ты возьмешь себя в руки, то сможешь себя сдержать».
К весне 1963 года Лири одной ногой стоял уже вне Гарварда, без всякой причины пропуская занятия и объявив о своем намерении в конце учебного года, когда истечет срок действия его контракта, уйти из университета. С Алпертом дело обстояло несколько иначе: он получил место преподавателя на педагогическом факультете и планировал остаться в Гарварде – пока в Crimson не появилась еще одна разоблачающая статья, после которой уволили их обоих. Эту статью написал аспирант по имени Эндрю Вайль.
Вайля привел в Гарвард страстный интерес к психоделикам, который у него проснулся еще в средней школе после того, как он прочел книгу Хаксли «Двери восприятия», а когда он узнал о псилоцибиновом проекте, то всеми правдами и неправдами проложил себе путь к дверям профессора Лири и прямо заявил, что хотел бы участвовать в этом проекте.
Лири ответил, что, согласно университетским правилам, к исследованию препаратов допускаются только аспиранты. Однако, желая как-то помочь молодому человеку, он рассказал Вайлю о компании в Техасе, которая может выслать мескалин по почте (в то время он был еще легальным) – его надо лишь заказать, что Вайль тут же и сделал, купив все необходимые канцелярские принадлежности в университетской лавке. Очарованный потенциалом психоделиков, Вайль сразу же включился в работу и помог в формировании группы аспирантов для опытов с мескалином. Но быть частью клуба для избранных, во главе которого стояли Лири и Алперт, он, разумеется, не мог, потому как не имел необходимой степени, поэтому, прослышав осенью 1962 года о том, что Ричард Алперт втайне снабжает препаратами обычных студентов, он возмутился, отправился к редактору газеты Crimson и предложил провести расследование.
В качестве наводчиков и осведомителей Вайль выбрал тех из своих сокурсников, которых Алперт подсадил на психоделики в нарушение университетских правил. (Позднее он напишет, что «студенты и прочие использовали галлюциногены для приманки и гетеросексуалов, и гомосексуалов».) Но возникли две проблемы, решить которые было далеко не просто: во-первых, никто из студентов, получавших (предположительно) препараты от Алперта, не захотел говорить об этом при включенном магнитофоне, а во-вторых, юристы, через чьи руки, во избежание всякого рода эксцессов, проходили все номера Crimson, предупредили о нежелательности печатания непроверенных, а стало быть, клеветнических обвинений в отношении профессоров. Они посоветовали Вайлю передать всю имеющуюся информацию на рассмотрение администрации университета: мол, после этого он сможет спокойно написать статью о том, какие меры принимает администрация в ответ на эти обвинения, тем самым уведя газету из-под прямого удара, а ее редактора – от юридической ответственности. Но Вайлю не это было нужно: чтобы достичь цели, ему нужны были студенты.
Он поехал в Нью-Йорк и встретился там с отцом одного из них – известным ювелиром с Пятой авеню Гарри Уинстоном, предложив ему сделку. Алперт передает эту историю так: «Он приехал к Гарри Уинстону и сказал: „Ваш сын Ронни получает наркотики от одного из преподавателей факультета. Если ваш сын сознается в этом, мы не станем упоминать его имя и в статье оно не будет фигурировать“. В результате молодой Ронни пришел к декану и, будучи спрошен, не получал ли он наркотики от доктора Алперта, сознался в своей провинности, присовокупив к своему признанию совершенно неожиданную фразу: „Да, сэр, получал. И это был самый поучительный урок из всех, что мне давали в Гарварде“»[32].
Вот что интересно: Алперт и Лири – единственные гарвардские профессора, которых уволили в ХХ веке. (Хотя формально Лири не был уволен, ему просто не выплачивали зарплату те несколько месяцев, что оставались до окончания контракта.) Эта история приобрела национальный масштаб, втянув миллионы американцев в ту полемику, которая разразилась вокруг этих экзотических препаратов. Благодаря ей Эндрю Вайль снискал даже определенную славу: журнал Look заказал ему статью о ведущейся полемике, и эта статья только добавила жару. Описывая психоделическую сцену Гарварда как бы глазами стороннего человека, Вайль упоминает некую «группу студентов… проводивших секретные исследования мескалина», не упоминая, однако, что именно он основал эту группу и был одним из ее членов.
Достаточно сказать, что сам Эндрю Вайль никогда особо этой славой не гордился, и когда недавно я спросил его об этом эпизоде в его жизни, он признался, что его с тех пор постоянно мучит совесть и что он не раз пытался загладить свою вину перед Лири и Рамом Дассом. (Через два года после исключения из Гарварда Алперт предпринял путешествие в Индию в поисках новых духовных знаний, откуда он вернулся уже как Рам Дасс.) Лири охотно принял извинения Вайля (видимо, этот человек вообще не способен долго таить обиду), но Рам Дасс не разговаривал с Вайлем целых два года, что того сильно печалило. Услышав, что Рам Дасс в 1997 году перенес инсульт, Вайль отправился к нему на Гавайи, чтобы попросить прощения. Наконец смягчившись, Рам Дасс сказал Вайлю, что все сложилось как нельзя лучше и свое увольнение он теперь рассматривает как благо: «Если бы ты не сделал того, что сделал, то Рама Дасса как такового сейчас просто не было бы».
В этот тягостный для Тимоти Лири и Ричарда Алперта час исключения их из Гарвардского университета мы, пожалуй, их покинем, хотя на этом их долгие и необычные скитания по американской культуре не закончились и перед ними по-прежнему лежал столь же долгий и необычный путь. Оба пустились в длительные психоделические гастроли, давая по пути (вместе со своими бывшими студентами и приверженцами) многочисленные представления, в результате чего Международный фонд внутренней свободы (который позже преобразовался в Лигу духовных открытий) в их лице перебрался из Кембриджа в мексиканский город Ситуатанехо, где и обосновался, пока мексиканское правительство (под давлением США) не выкинуло их оттуда, после чего они ненадолго переехали на остров Доминика в Карибском море, но были выброшены и оттуда, пока наконец не осели на несколько лет в 64-комнатном особняке в Миллбруке, Нью-Йорк, владельцем которого был богатый меценат и покровитель по имени Билли Хичкок.
Лири с головой окунулся в нарождающуюся контркультуру, и вскоре его пригласили (вместе с Аленом Гинзбургом) выступить на фестивале хиппи Human Be-In в Сан-Франциско (он состоялся в парке «Золотые ворота» в январе 1967 года), куда стеклись порядка 25 тысяч юношей и девушек, которые, слушая молодежных проповедников, возвещавших наступление новой эры, совершали тем временем свои «кислотные трипы» под действием ЛСД, который продавался без всяких ограничений. Бывший профессор, который по этому случаю сменил свой элегантный костюм фирмы «Братья Брукс» на белые одежды и «ожерелье любви» – бусы (и цветы, которыми он украсил свои седеющие волосы), призывал толпу праздношатающихся «хиппи» (этот термин ввел в обиход в том же году обозреватель местной газеты Херб Каэн): «Включись, настройся, выпадай». Этот девиз – по его собственным словам, он его придумал, стоя под душем, а годы спустя заявил, что его ему «подарил» Маршалл Маклухан, – будет преследовать Лири всю оставшуюся жизнь и по всему миру, навлекая на него презрение родителей и политиков.
Но история Лири с годами становится все более странной и печальной. Вскоре после его отъезда из Кембриджа правительство, встревоженное его растущим влиянием на американскую молодежь, развернуло против него кампанию травли, которая достигла своей кульминации в 1966 году в Ларедо, американском городке, расположенном на границе с Мексикой: он ехал со своей семьей в Мексику, намереваясь провести там отпуск, когда таможенники, досматривавшие его машину на границе, «обнаружили» в ней небольшое количество марихуаны. Лири провел несколько лет в тюрьме, пытаясь оправдаться и снять с себя обвинения федерального правительства в торговле марихуаной, и еще несколько лет в бегах – в качестве беженца от международного правосудия. Этот статус он приобрел после дерзкого побега из Калифорнийской тюрьмы, который устроила революционно настроенная радикальная группа, именовавшая себя «Метеорологами» (Weathermen). Им удалось переправить Лири в Алжир, где его под свою опеку взял Элдридж Кливер, один из основателей Партии черных пантер, учредивший там перевалочную базу для своих операций. Но покровительство Кливера оказалось не таким уж и приятным: «пантеры» отобрали у Лири паспорт и держали его у себя в качестве заложника. Лири снова сбежал, на сей раз в Швейцарию (где он нашел роскошное убежище в шале торговца оружием), затем (после того как американское правительство все-таки уговорило швейцарское арестовать его и посадить в тюрьму) в Вену, оттуда в Бейрут и потом в Кабул; там его наконец схватили федеральные агенты и под строжайшим надзором препроводили в американскую тюрьму, где он какое-то время просидел под стражей в одиночной камере. Но эти преследования только укрепляли в нем чувство собственного предназначения.
Его жизнь в 1960-е годы представляет собой невероятную трагикомедию, наполненную залами суда и тюрьмами (всего он отсидел в двадцати девяти), но также воспоминаниями, речами и выступлениями на телевидении, избирательной кампанией по выборам губернатора Калифорнии (для которой Джон Леннон написал, а «Биттлз» исполнили программную песню Get Together) и успешным, если не сказать патетическим, циклом лекций, который он читал в колледже вместе с Джорджем Гордоном Лидди. Да-да, тем самым «взломщиком» уотергейтского дела, который в своей предыдущей ипостаси в качестве помощника прокурора округа Датчесс пытался изловить и упечь его за решетку в Миллбруке. Несмотря на все эти испытания, Лири остался невероятным оптимистом, не выказывавшим ни малейшего признака гнева, или, если верить бесчисленным фотоснимкам и кадрам кинохроники, не забывавшим мудрый совет, некогда данный ему Маршаллом Маклуханом, – улыбаться, несмотря ни на что.
Тем временем в 1965 году бывший партнер Лири по психоделическим исследованиям, Ричард Алперт, отправился на Восток, где в течение ряда лет совершал куда более спокойную духовную одиссею. По ее завершении он, как Рам Дасс и автор бестселлера «Здесь и сейчас» (1971), оставил в американской культуре заметный след, проторив один из главных путей, следуя которым восточная религия вторглась в контркультуру, наложив отпечаток на весь так называемый Нью-Эйдж. 1960-е годы ознаменовали период духовного возрождения в Америке, и Рам Дасс в какой-то мере был одним из его инициаторов.
Не остался в стороне и Лири. Его постгарвардские «выкрутасы» в немалой степени внесли свой посильный вклад в ту моральную панику, которая погребла под собой психоделики и привела к запрету всех исследований в этом направлении. Лири, сам того, возможно, не желая, стал плакатным героем не только из-за наркотиков, но и в силу популярности той идеи, что значительную часть «ДНК молодежной контркультуры» можно записать с помощью трех букв: ЛСД. Начиная с того памятного псилоцибинового трипа в декабре 1960 года, который совершил в его доме в Ньютоне Ален Гинзбург, Лири установил прочную связь между психоделиками и контркультурой, связь, которая никогда не прерывалась, что, безусловно, послужило одной из причин того, почему психоделики в конечном счете стали рассматривать как угрозу истеблишменту. (Да и могло ли быть иначе? Представьте, что было бы, если бы культурная самобытность наркотиков была сформирована, скажем, католиками-консерваторами вроде Эла Хаббарда. Трудно себе даже представить подобную контр-историю!)
Тем более не могли помочь Лири его постоянные провокационные заявления, которыми он любил бросаться, вроде: «ЛСД еще более ужасен, чем бомба» или «Дети, принимающие ЛСД, не будут воевать в ваших войнах. И не войдут в ваши корпорации». Это были не просто пустые слова: в середине 1960-х годов десятки тысяч американских подростков действительно выпали из русла общественной жизни, бросив школы и заполонив улицы Хейт-Эшбери и Ист-Виллидж[33]. А молодые люди призывного возраста отказывались идти во Вьетнам. Воля к борьбе и авторитет власти были сильно подорваны. И новые необычные наркотики, странным образом изменявшие людей, их принимавших, бесспорно, были как-то с этим связаны. Об этом же говорил и Тимоти Лири.
Но этот переворот почти наверняка случился бы и без Тимоти Лири. Да, несомненно, он был единственный, через кого психоделики просачивались в американскую культуру, и единственный, кто пользовался столь недоброй славой, но далеко не единственный, кто вершил психоделическую политику. В 1960 году, том самом году, когда Лири приобщился к псилоцибину и дал ход своему исследовательскому проекту, романист Кен Кизи опробовал на себе ЛСД и совершил под его влиянием столь умопомрачительный «кислотный трип», что по возвращении из него решил нести в массы не только «психоделическое слово», но и сами психоделики, возвещая о них, как говорится, во весь голос.
Один из ироничных поворотов судьбы, которыми так богата история психоделиков, заключается в том, что Кизи приобщился к ЛСД исключительно благодаря исследовательской программе, проводившейся под контролем правительства в госпитале для ветеранов в Менло-Парке, где ему заплатили 75 долларов за то, чтобы он опробовал этот экспериментальный препарат. Чего не знал Кизи, так это того, что его первая «прогулка в неведомое» была куплена и оплачена Центральным разведывательным управлением, которое спонсировало исследования в Менло-Парке, являвшиеся частью программы «MK-Ультра», с помощью которой Управление вот уже целое десятилетие пыталось понять, можно ли превратить ЛСД в оружие и насколько он эффективен в качестве такового.
Увы, но в лице Кена Кизи ЦРУ сделало ставку не на того человека. Он быстро разобрался, что к чему, организовал психоделическую общину и вместе с группой «Веселых Проказников» начал устраивать то, что сам он метко назвал «восстанием подопытных свинок», то есть серию так называемых «кислотных тестов», в ходе которых он с приятелями раздавал тысячам молодых людей из района залива дозы ЛСД в надежде изменить сознание всего поколения. В той же мере, в какой Кен Кизи и его «проказники» формировали новый дух времени и были ответственны за него, в той же мере было ответственно за него и ЦРУ, потому как культурный переворот, как мы в целом характеризуем мятежные 1960-е годы, начался именно с провала того эксперимента по контролю над разумом, который проводило ЦРУ.
Оглядываясь назад, можно, пожалуй, сказать, что недоброжелательная реакция психоделического истеблишмента была неизбежной с того самого момента, когда Хамфри Озмонд, Эл Хаббард и Олдос Хаксли выдвинули в 1956–1957 годах новую парадигму для психоделической терапии. Для сравнения скажем, что прежние теоретические модели вполне классически подходили к этим препаратам, привычно стараясь уместить их в уже существующие рамки психиатрии и не особо нарушая сложившийся порядок вещей. «Психомиметики» прекрасно соответствовали тому стандартному пониманию психических заболеваний, какое сложилось у поколений психиатров (мол, действие препаратов имитирует уже знакомые психозы), поэтому «психолитики», по их мнению, можно было спокойно внедрять в теорию и практику психоанализа как полезное дополнение к терапевтическим беседам. В целом же идея психоделической терапии бросала куда более жесткий вызов и самой сфере психиатрии, и профессии психиатра. Бесконечные еженедельные сеансы в традиционной терапии заменялись в новом виде терапии одним сеансом (при условии приема большой дозы препарата), направленным на достижение своего рода конверсионного опыта, при котором требовалось кардинально переосмыслить обычные роли пациента и психотерапевта.
Психиатрам-академикам не по душе были те духовные ловушки, которые таила в себе психоделическая терапия. Чарльз Гроб, психиатр из Колумбийского университета, сыгравший важную роль в деле возрождения психоделических исследований, в своей статье, посвященной истории психоделиков (она вышла в свет в 1998 году), писал, что «размывая границы между религией и наукой, болезнью и здоровьем, врачевателем и страждущим, психоделическая модель вводит нас в мир прикладного мистицизма» – мир, в который психиатрия, все более сближавшаяся с биохимией в вопросе понимания психики, не рисковала вступить. Кроме того, с ее особым отношением к установке и обстановке – тем, что Гроб называет «дополнительными критическими фармакологическими переменными», – психоделическая терапия была слишком уж близка к шаманизму. потому как так называемые «мозгоправы» (сленговое словечко для психиатров, сразу вызывающее в памяти образ племенных знахарей в набедренных повязках), не вполне уверенные в своем праве называть себя учеными, были еще менее склонны туда вступить. Был и еще один неблагоприятный фактор, возникший вследствие скандала с талидомидом, а именно: рост плацебо-контролируемых двойных исследований, используемый в качестве «золотого стандарта» при тестировании препаратов, – в общем-то стандартнее требование, на которое, однако, психоделические исследователи соглашались с трудом.
В 1963 году ведущие светила в этой профессии начали публиковать в научных журналах редакционные статьи, направленные против исследования психоделиков. Рой Гринкер, редактор журнала Archives of General Psychiatry, сурово раскритиковал тех исследователей, кто подмешивает «себе наркотики и… затем очаровывается мистическим галлюцинаторным состоянием», тем самым делая себя «малопригодным в качестве компетентных исследователей». В статье, опубликованной в следующем году в журнале Американской медицинской ассоциации, Гринкер обрушился с критикой на исследователей, взявших себе за правило принимать наркотики, тем самым «склоняясь к предвзятым выводам, обусловленным их собственным экстазом». Еще один критик (его статья была опубликована в журнале в 1964 году) подверг критике ненаучную «ауру магии», которой были окружены новые препараты. (Тот факт, что некоторые психоделические терапевты, Бетти Эйснер например, отмечали как праздничное введение «в психиатрию трансцендентального начала» и выказывали большой интерес к паранормальным явлениям, не принимался во внимание.)
Но хотя имеется немалая доля истины в том, что исследователи и в самом деле часто склоняются к предвзятым выводам, обусловленным всем пережитым ими под влиянием психоделиков, очевидная альтернатива – воздержание – тоже создавала свои трудности и препятствия, в результате чего самыми громкими и авторитетными голосами в развернувшихся в 1960-е годы вокруг психоделиков дебатах были голоса людей, которые знали о них меньше всего. С точки зрения психиатров, не имевших личного опыта соприкосновения с психоделиками, их воздействие сводились к тому, что поведение людей больше напоминало психоз, нежели пребывание в трансцендентном состоянии. Поэтому психотомиметическая парадигма вновь была возвращена, на этот раз с явным желанием отомстить.
После того как в 1962–1963 годах некоторое количество «контрабандного ЛСД» выплеснулось на улицы и люди, корчившиеся в муках ужаса от «неудачных прогулок в потусторонние миры», начали появляться в отделениях неотложной помощи и психбольницах, господствующая психиатрия была вынуждена отказаться от психоделических исследований. ЛСД теперь рассматривали скорее как причину психических заболеваний, нежели как панацею. В 1965 году в госпиталь Белвью на Манхэттене поступили 65 человек с так называемыми «индуцированными ЛСД психозами». Если принимать в расчет, что СМИ в тот момент полным ходом разжигали пламя психоделической паники, то не удивительно, что городские мифы о коварстве ЛСД распространялись быстрее, чем сами факты[34]. То же самое нередко происходит и с мнимыми научными открытиями. После проведения ряда опытов, получивших широкую огласку благодаря статье, опубликованной в журнале Science, некий исследователь утверждал, что ЛСД способен вызывать повреждения в хромосомах, что потенциально может привести к врожденным дефектам. Но когда впоследствии этот вывод был опровергнут как неверный (в том же журнале Science), на это опровержение практически никто не обратил внимания. Оно не соответствовало новому публичному имиджу ЛСД как опасной угрозе для общества.
И все же нельзя отрицать тот факт, что в середине 1960-х годов в отделения срочной помощи стали поступать в большом количестве люди с ярко выраженными симптомами паранойи, мании, кататонии, острой нервозности, так же как и «кислотных воспоминаний» – внезапного рецидива указанных симптомов по прошествии многих дней или даже недель после принятия ЛСД. У некоторых из них действительно наблюдались случаи настоящих приступов психоза, особенно у молодых людей, предрасположенных к шизофрении: «прогулка в неведомое», которую они совершили под действием ЛСД, действительно может привести в действие первый психотический приступ, а иногда его и приводит. (Следует заметить, что таким пусковым устройством могут служить вообще любые травматические переживания, включая развод родителей или любую стрессовую ситуацию, даже поступление в аспирантуру.) Но во многих других случаях врачи, не имеющие большого опыта обращения с психоделиками, по ошибке принимают паническую реакцию за полноценный психоз. Что только ухудшает положение дел.
Эндрю Вайль, в ту пору (1968 год) еще молодой врач, работавший на добровольных началах в бесплатной клинике Хейт-Эшбери, перевидал немало пациентов, для кого «прогулка в неведомое» закончилась печально, и разработал эффективную панацею для их «лечения». «Я тщательно осматривал пациента и, придя к выводу, что имею дело с панической реакцией, говорил ему или ей: „Прощу прощения. Мне нужно выйти на минутку в соседнюю комнату: там у меня очень серьезный больной“. После чего им сразу же становилось намного лучше».
Риски, связанные с употреблением ЛСД и других психоделиков, широко и бурно обсуждались на протяжении всех 1960-х годов как среди ученых, так и в прессе. В подтверждение своей правоты их сторонники и противники по обе стороны дебатов обычно приводили или довольно неприглядные, но непроверенные доказательства, или вовсе анекдотичные случаи, не отражавшие реальную действительность; исключением был один лишь Сидни Коэн, который всегда подходил к проблеме разумно, непредвзято и, чтобы решить ее, предпринимал целое расследование. Начиная с 1960 года он опубликовал серию статей, в которых привел данные исследований, вызывавшие у него все более растущее беспокойство. Для первой работы он воспользовался материалами 44 исследователей, изучавших психоделики, собрав данные о пяти тысячах человек, принимавших ЛСД или мескалин, и просмотрев в общей сложности 25 тысяч случаев. Среди них, убедился он, можно было квалифицировать как достоверные только два случая самоубийства (очень низкий уровень для столь значительной группы пациентов психиатрических больниц), несколько случаев вполне очевидных панических реакций и «ни одного свидетельства о длительных и серьезных физических побочных эффектах». На основании этого он пришел к выводу, что, когда психоделики принимаются под присмотром квалифицированных терапевтов и исследователей, осложнения возникают «на удивление редко» и что ЛСД и мескалин совершенно «неопасны».
Лири и другие ученые часто приводили выдержки из этой работы Коэна (она была опубликована в 1960 году) как вполне очевидное доказательство реабилитации психоделиков. Но уже в следующей статье, опубликованной в 1962 году в журнале Американской медицинской ассоциации, Коэн привел новые и «тревожные» данные. Оказывается, случайное и бесконтрольное использование ЛСД безответственными терапевтами вне стен и обстановки клиники часто приводит к «серьезным осложнениям» и случайным «катастрофическим реакциям». Встревоженный тем, что врачи теряют контроль на препаратом, Коэн предупреждал коллег о том, что «опасность самоубийств, длительных психотических реакций и антиобщественных поступков и действий реально существует». В третьей работе, опубликованной в следующем году в Archives of General Psychiatry, он описал несколько случаев психотических расстройств и попыток самоубийства, а также привел реальный случай, когда мальчик, сын следователя, съев кубик рафинада, обсыпанный порошком (ЛСД), который его отец конфисковал у «толкача», больше месяца не мог избавиться от искажений зрительного восприятия и беспричинной тревоги. Именно эта статья и подвигла Роя Гринкера, редактора журнала, предать анафеме психоделические исследования, что он и сделал в сопроводительном комментарии, хотя сам Коэн продолжал считать, что у психоделиков действительно огромный потенциал, который можно использовать самым рачительным образом, оставайся они в руках ответственных терапевтов. В четвертой статье, опубликованной в 1966 году, Коэн рассказал о других жертвах ЛСД, включая и два случая неожиданной смерти, вызванной этим препаратом, когда один человек утонул, а второй трагически погиб, выбежав на трассу с интенсивным движением с криком «Остановитесь!».
Но сбалансированная оценка рисков и выгод, связанных с психоделиками, была в то время редким исключением, и в результате развязанная учеными-академиками и прессой политика их неприятия привела в 1966 году к бурному всплеску моральной паники. Общее настроение прекрасно отражает ряд заголовков ведущих газет того периода: «Элэсдешник обвиняется в убийстве учителя»; «Подсевший на ЛСД юноша прыгает с железнодорожного моста»; «Эпидемия ЛСД грозит затопить всю Калифорнию»; «Шесть студентов ослепли от ЛСД, глядя на солнце»; «Девочка пяти лет съела белый порошок [ЛСД] и сошла с ума»; «Страшный наркотик деформирует сознание и убивает»; и наконец, «Чудовище среди нас: наркотик под названием ЛСД». Даже журнал Life, девять лет тому назад поместивший на своих страницах восторженную статью Гордона Уоссона о псилоцибине и тем способствовавший пробуждению у публики горячего интереса к психоделикам, – даже Life присоединился к хору голосов, осыпающих психоделики проклятиями, опубликовав эмоционально-взвинченную историю, озаглавленную: «ЛСД: психический наркотик вышел из-под контроля и несет угрозу всему миру». И что с того, что совсем недавно издатель журнала и его жена сами принимали (под руководством Сидни Коэна) этот «наркотик» и расхваливали его как средство, с помощью которого можно зарядиться положительными впечатлениями и эмоциями? Да ничего. Теперь этим занимаются дети, а раз так, то он «вышел из-под контроля». Проиллюстрированная рисунками, на которых обезумевшие люди прячутся по углам, история предостерегала читателей, что «путешествие под действием ЛСД – это не всегда поездка туда и обратно», а скорее «одноразовая поездка – в сумасшедший дом, тюрьму или могилу»[35]. Как писала в 1965 году Клер Бут Люс в письме к Сидни Коэну, «ЛСД стал вашим чудовищем, вашим Франкенштейном».
Другим сильнодействующим препаратам, таким, например, как опиаты, которые потенциально тоже являются объектом злоупотреблений, удалось-таки отстоять свою самобытную идентичность в качестве законного средства медицины. Почему же это не удалось психоделикам? История Тимоти Лири, самого известного исследователя психоделиков, не позволяет с достаточной уверенностью утверждать, что можно было бы провести четкую грань между использованием психоделиков в научных и рекреационных целях и охранять ее в неприкосновенности, как границу. Этот человек намеренно – и, безусловно, с большой радостью – стер все границы. Но «личность» психоделика, вероятно, так или иначе имела существенное отношение к стиранию таких различий (как имели к ним отношение и личности людей вроде Тимоти Лири) или к недостаткам в их исследованиях.
Если что и обрекло на провал первую волну психоделических исследований, так это иррациональное изобилие их потенциала, обусловленного самими препаратами, – им и тем фактом, что эти химические соединения являются для нас сегодня тем, что мы назвали бы революционной технологией. Люди, работавшие с этими молекулами, не могли не прийти к выводу – подобно студенту-богослову, бегущему по Коммонуэлс-авеню, – что в вашем распоряжении вдруг оказалась магическая весть, наделенная силой изменить не только индивидуумов, но и весь мир. Если ограничить эти мощные молекулы стенами лаборатории или использовать их только на благо больных людей, то такое их применение было бы трудно оправдать, коль скоро с их помощью можно было бы многое сделать для всех людей, в том числе и для самих исследователей.
Возможно, неосторожность и безрассудство Лири заставляли его более щепетильных в вопросах нравственности коллег ежиться от страха, однако большинство из них разделяли вместе с ним эту безрассудность и, более того, даже пришли к более или менее тем же самым выводам о потенциале психоделиков; просто они, говоря о них на публике, были более рассудительными, чем он.
Кто из первого поколения психоделических исследователей оспорил бы вот это обращение, заимствованное из анналов классической безрассудности Лири, которое он произнес примерно в 1963 году: «Не сделайте ошибки: действие препаратов, способных расширять сознание, изменит все наши представления о природе человека, о человеческом потенциале и существовании. Игра вот-вот изменит свои правила, леди и джентльмены. Человек вот-вот найдет применение той сказочной электрической сети, которую он вмещает в своем черепе. Нынешним социальным учреждениям лучше бы как следует подготовиться к этим переменам. Увы, но на пути мощного прилива, назревающего уже два миллиарда лет, стоят наши любимые концепции. Словесная плотина вот-вот рухнет. Удирайте или же готовьте свой интеллектуальный плот к тому, чтобы сесть на него и плыть по течению»[36].
Так что, вероятно, истинный грех Лири состоял в том, что он не чурался убеждений – ни своих, ни чьих-либо еще в сообществе психоделических исследователей – и черпал в них смелость и мужество. Часто приходится слышать, что политический скандал разражается тогда, когда кто-то, имеющий власть и силу, ненамеренно разглашает истину. Лири слишком часто хотел сказать вслух (сказать любому, кто находился в пределах его слышимости) то, во что все остальные безусловно верили, но почли за лучшее молчать, чем откровенно об этом говорить или писать. Одно дело, когда используешь препараты для лечения больных и неприспособленных к жизни – общество в этом случае будет поощрять любые усилия, направленные на то, чтобы помочь своенравному индивидууму соответствовать его нормам, – и совсем другое дело, когда используешь их на то, чтобы лечить само общество, словно болен не человек, а именно оно, и на то, чтобы превращать явно здоровых людей в своенравных индивидуумов.
Как бы то ни было, но факт остается фактом: в силу самой ли природы первого поколения исследователей или в силу того, как сложился их опыт общения с психоделиками, но последние предстали глазам западного мира как нечто столь глубоко пагубное, что у различных западных сообществ не оставалось иного выхода, как их отвергнуть. ЛСД и в самом деле оказался кислотой, растворявшей практически все, с чем он соприкасался, начиная с иерархических подразделений психики (суперэго, эго и бессознательное), от них переходя к различным властным структурам общества и заканчивая всеми мыслимыми и немыслимыми границами – границами между пациентом и терапевтом, болезнью и здоровьем, «я» и тем, другим, субъектом и объектом, духовным и материальным. Если все эти границы являются проявлениями упорядоченности и уравновешенности, то есть чертами Аполлона, характерными для всей западной цивилизации, ведомой импульсом к утверждению различий, двойственностей и иерархий и к защите их, то психоделики, напротив, знаменуют неуправляемую силу Диониса, которая беспечно сметает прочь все эти подразделения.
Разумеется, далеко не факт, чтобы силы, высвобождаемые этими химическими соединениями, обязательно оставались неуправляемыми. Даже самую сильную кислоту при умелом обращении с нею можно использовать как инструмент для достижения важных целей. Да и что, собственно, представляет собой рассказ о первой волне исследователей, как не историю поиска соответствующего «сосуда» для этих сильнодействующих соединений? За десятилетия работы исследователи опробовали несколько различных возможностей, по-разному их называя: психомиметики, психолитики, психоделики и, немного позже, энтеогены. Ни одна из них не оказалась совершенной, но каждая олицетворяла различный подход в умении регулировать силу этих компонентов, и каждая предлагала ряд методик по их использованию, равно как и теоретическую базу. Если где и разошлись пути Лири и возглавляемой им контркультуры с путями первого поколения исследователей, так это именно в вопросах отношения к «сосуду», потому как Лири и иже с ним считали, что психоделики не нуждаются в каком бы то ни было «сосуде» – ни в медицинском, ни в религиозном, ни в научном – и что неконтролируемый подход к ним по принципу «сделай сам» сам по себе прекрасен. Да, он сопряжен с риском, как оказалось, и не застрахован от ошибок, но как бы мы установили это, если бы не экспериментировали? До 1943 года наше общество никогда не имело в своем распоряжении столь сильнодействующих препаратов, воздействующих на ум и изменяющих сознание.
Другие общества давно, плодотворно и успешно «сотрудничали» с психоделиками, и примеры этого сотрудничества, знай мы о них и обрати на них внимание, могли бы избавить нас от множества проблем и трудностей. Но, вероятно, тот факт, что мы рассматриваем эти общества как примитивные и отсталые, не дал нам возможности учиться у них. А мы могли бы научиться очень многому, и в первую голову тому, что эти мощные лекарственные средства очень опасны – и для индивидуума, и для общества, – если их не поместить в прочный социальный сосуд, то есть в жесткие рамки ритуалов и правил (протоколы), которые бы регулировали их эксплуатацию, при обязательном участии «проводника» – человека, которого мы обычно называем шаманом. Психоделическая терапия – метод Хаббарда – ощупью шла к прозападной версии этого идеала, поэтому так называемый прозападный шаманизм лучше всего соответствует этому протоколу. Молодым американцам 1960-х годов, которым были внове и сами психоделики, и даваемые ими ощущения и которые воспитывались совсем в других традициях, сама идея привлечения к этому процессу «мудрых старейшин», вероятно, показалась бы сумасбродной и не имела бы шансов на успех. Но именно в этом, на мой взгляд, и состоит главный урок проводившихся в 1960-е годы экспериментов с психоделиками – в понимании необходимости найти подходящий контекст, или сосуд, для этих мощных соединений и даваемых ими ощущений.
Говоря о границах, нельзя не сказать и о том, что в 1960-х годах психоделики проложили по крайней мере одну из них, причем такую резкую и четкую, какой еще не было на нашей памяти; речь идет о границе между поколениями. Сказать что-то определенное по поводу того, каким образом и какой именно вклад внесли психоделики в контркультуру 1960-х, довольно нелегко, потому как здесь участвовали и многие другие силы. С психоделиками или без них, но контркультура, несомненно, все равно бы возникла, просто война во Вьетнаме и призыв в армию если и не ускорили ее приход, то сделали его более чем вероятным. Но та форма, в которую отлилась контркультура, и ее различные стили – музыка, искусство, литература, дизайн и общественные отношения, – несомненно, были бы совершенно другими, не будь этих молекул. Психоделики внесли также посильный вклад и в политику 1960-х, в ее атмосферу и настроение, которые, по мнению Тодда Гитлина, лучше всего характеризует словечко «будто», – ощущение, будто теперь все доступно, будто в жизни не осталось ничего неоскверненного, будто можно начисто стереть саму историю (вспомните кислоту!) и начать создавать мир заново, с нуля.
Но в той мере, в какой потрясения 1960-х годов были результатом необычайно резкого раскола между поколениями, в той же, если не в большей мере вина – или, наоборот, честь – за возникновение этого раскола, этой «бреши» между поколениями лежит именно на психоделиках. потому как в какой еще период истории молодежь западного общества совершала очищающий обряд посвящения, с которым предшествующее поколение было бы совершенно незнакомо? Традиционно обряд посвящения символизирует преемственность поколений, когда молодежь, вступающая в жизнь, как бы проходит через препятствия и врата, воздвигнутые старшим поколением, чтобы перейти на другую сторону и занять свое место в обществе взрослых людей. Но не так обстояло дело с психоделиками и психоделическим посвящением в 1960-е, когда молодые паломники, пускавшиеся в необычное путешествие, в результате, по его завершении, оказывались среди психических ландшафтов, совершенно неведомых их родителям. То, что это уже больше не повторится, служит поводом надеяться на то, что следующая глава истории психоделиков будет не столь противоречивой.
Возможно, именно в этом и заключается нетленная лепта, внесенная Лири: воспламенив или взбурлив целое поколение – поколение, которое годы спустя примет на себя бразды правления всеми нашими учреждениями, – он помог создать те условия, которые привели к возобновлению психоделических исследований.
В конце 1966 года вся затея с новой наукой психоделикой провалилась и все исследования были полностью остановлены. В апреле того же года компания Sandoz, надеясь спасти свою репутацию и выйти чистой из скандала, разразившегося вокруг того препарата, который Альберт Хофман назвал «проблемным ребенком», изъяла из оборота ЛСД-25, передав остававшиеся его запасы правительству США и закрыв большинство из тех 70 исследовательских программ, которые осуществлялись под ее контролем.
В мае того же года в сенате проходили слушания по вопросу об ЛСД, в ходе которых Тимоти Лири и Сидни Коэн давали показания. Оба отважно пытались восстановить психоделические исследования в правах, доказывая, что необходимо отделять законное использование ЛСД от его использования на черном рынке – границей, которую правительство ныне решительно вознамерилось стереть. К своему удивлению, самого сочувственного слушателя они нашли в лице сенатора Роберта Ф. Кеннеди, чья жена Этель, по слухам, успешно прошла курс лечения с помощью ЛСД в Голливудской больнице в Ванкувере, одном из аванпостов Эла Хаббарда. С пристрастием допрашивая руководство Управления по санитарному надзору о его планах закрыть многие из оставшихся исследовательских проектов, Кеннеди задал каверзный вопрос: «Если они [эти проекты] были перспективными шесть месяцев тому назад, почему же теперь они не перспективны?» Если психоделики запретят и вытеснят из сферы медицины по причине их незаконного там использования, сказал Кеннеди, то это будет «потеря для всей нации. Вероятно, мы упустили из виду тот факт, что они, если их использовать должным образом, могут быть очень, очень полезными в нашем обществе».
Но Кеннеди своим выступлением ничего не достиг. И, вероятно, тому виной Лири и сами психоделики, снискавшие к тому времени такую репутацию, что о проведении какого бы то ни было различия уже не приходилось говорить. В октябре примерно 60 исследователей, работавших в разных местах на территории Соединенных Штатов, получили письма из Управления по санитарному надзору с приказом прекратить работу.
Психолог Джеймс Фадиман, проводивший в Международном фонде прогрессивных исследований (МФПИ) в Менло-Парке эксперименты о влиянии психоделиков на творческие способности человека, помнит тот день очень хорошо. Письмо с приказом из Управления по санитарному надзору пришло как раз в тот момент, когда четверо его подопечных уже приняли дозу ЛСД и сеанс начался. Когда он, распростершись на полу в смежной комнате, читал письмо, «четверо молодых людей лежали, уносясь сознанием неведомо куда». «Полагаю, вы не будете иметь ничего против, если мы получим это письмо завтра», – сказал он своим коллегам. И на следующий день исследовательская программа, осуществлявшаяся МФПИ, практически вместе со всеми другими подобными программами, проводившимися в Соединенных Штатах, была свернута.
Из этой «чистки» вышло целым и невредимым только одно учреждение: Научно-исследовательский центр в Спринг-Гров, штат Мэриленд, где работали такие выдающиеся исследователи, как Станислав Гроф, Билл Ричардс, Ричард Йенсен и – до своей смерти в 1971 году – Уолтер Панке (инициатор Бостонского эксперимента). Они все так же продолжали работать, исследуя потенциал псилоцибина и ЛСД и изучая возможность их применения для лечения алкоголизма, шизофрении и, среди всего прочего, экзистенциального кризиса у онкологических больных. До сих пор остается загадкой, почему же не свернули эту довольно обширную исследовательскую программу, которая продолжала осуществляться вплоть до 1976 года, когда десятки других были свернуты. Некоторые исследователи, которым повезло не так, как их коллегам из Спринг-Гров, считают: мол, причина этого в том, что центр разрабатывал методы психоделической терапии для весьма влиятельных людей из Вашингтона, которые либо уже признали ценность такой терапии, либо уповали на определенные результаты, либо хотели сохранить доступ к препаратам. Но бывшие сотрудники центра, с которыми мне довелось разговаривать, считают эти предположения необоснованными. Однако они подтвердили, что директор центра, доктор медицинских наук Альберт Кёрланд, пользовавшийся безукоризненной репутацией среди федеральных служащих, имел в Вашингтоне весьма обширные связи и использовал их для того, чтобы еще целое десятилетие после того, как программы были повсюду закрыты, удерживаться на плаву и – доставать ЛСД, причем не откуда-нибудь, а из правительственных запасов.
Однако ни события 1966-го, ни события 1976 года не смогли положить конец психоделическим исследованиям и психоделической терапии в Америке. Вытесненные в подполье, они неявно и тайно продолжали осуществляться.
Кода
В феврале 1979 года практически все знаковые фигуры первой волны американских психоделических исследований собрались в Лос-Анджелесе, в доме Оскара Джанигера, на «встречу ветеранов». Кто-то принес с собой камеру и сделал видеозапись этой встречи, и хотя качество записи желает оставлять лучшего, однако весь разговор отчетливо слышен. Здесь, в гостиной Джанигера, мы видим таких корифеев, как Хамфри Озмонд, Сидни Коэн, Майрон Столярофф, Уиллис Харман, Тимоти Лири, а рядом с ним на кушетке с явно растерянным видом сидит Капитан, Эл Хаббард. Здесь ему 77 (или 78) лет; Эл приехал из Каса-Гранде, Аризона, где он живет в трейлерном парке. На нем полувоенная форма, но сказать, есть ли у него пистолет или нет, я не могу.
«Ветераны» предаются воспоминаниям, хотя поначалу разговор идет несколько натянуто. Оно и понятно: старые обиды всколыхнулись с новой силой. Но Лири, все такой же удивительно обаятельный и душевно щедрый, пытается всех успокоить. Лучшие дни уже в прошлом; великие проекты, которым они посвятили свою жизнь, лежат в руинах. Однако им удалось достичь чего-то более важного; с этим согласны все, иначе они не собрались бы здесь, не пришли бы на эту встречу.
Сидни Коэн, в пиджаке и при галстуке, каждому задает один и тот же вопрос: «Что все это для тебя значит?» – и тут же пробует на него ответить:
– Это взбудоражило людей, разбило в пух и прах их систему ценностей и координат, причем речь идет о тысячах, возможно даже о миллионах. А раз это так, то, как мне кажется, все было неспроста и на пользу всем.
Из всех людей только Лири спрашивает всю группу:
– Кто-нибудь из находящихся здесь признает, что были сделаны ошибки?
Озмонду (он сидит чуть осклабившись, но при этом, как англичанин, очень вежлив и любезен) не по душе слово «ошибка». Он не стал бы так говорить.
– Я бы спросил иначе… например, не мог бы кто-нибудь из находящихся здесь увидеть другие пути осуществления.
Кто-то (кто именно, я не разобрал) вмешивается:
– Ошибка была, но только одна: никто не дал попробовать это Никсону!
Наконец Майрон Столярофф решается и, повернувшись к Лири, этому слону в комнате, говорит:
– Мы были несколько обеспокоены тем, что ты делал и что только затрудняло проведение законных исследований.
Лири напоминает ему, что, как он уже говорил еще тогда, у него была совсем иная роль в этой игре:
– Давайте будем дальновидными исследователями. Чем больше мы отдаляемся, тем больше оснований у них там, в Спринг-Гров, осуждать нас. – (Ну вот, наконец появляются и ответственные.) – Я просто хочу… и надеюсь, мы все понимаем, что все мы играли именно те роли, которые были для нас предназначены, так что нет никаких там хороших или плохих парней, никакого доверия и никакой вины, вообще ничего…
– Ну… мне кажется, нам нужны люди вроде Тима и Эла, – вставляет свое слово Сидни Коэн, гениально встраиваясь в заданные Лири рамки. – Они абсолютно необходимы, чтобы что-то извлекать, вытаскивать, уносить… причем далеко-далеко – в сущности, для того лишь, чтобы двигать корабль… [менять] положение к лучшему. – И затем обращаясь к Озмонду: – Нам нужны также люди вроде вас, способные все это обдумать и изучить. И в целом мало-помалу делается маленький шажок, совершается едва приметное движение. Так что, как вам известно, я не думаю, что все могло бы получиться лучше, начни все разыгрываться по другому сценарию.
Эл Хаббард напряженно ко всем прислушивается, но ему особо нечего добавить; он просто сидит и вертит на коленях книгу в твердом переплете. В какой-то момент он вдруг заговаривает высоким голосом, заявив, что работа должна продолжаться, а запрещающие законы должны быть преданы анафеме:
– Мы должны просто продолжать свое дело. Пробуждайте людей! Пусть они посмотрят на себя и увидят, какие они. Думаю, старина Картер спокойно бы принял изрядную дозу и ничего бы с ним не случилось!
И Гарольд Браун, министр обороны в правительстве Картера, да и Стэнсфилд Тернер, директор ЦРУ, тоже. Но Хаббард не совсем уверен, что ему хочется сидеть на одной кушетке рядом с Тимоти Лири, и еще меньше, чем другие, он хочет, чтобы прошлое осталось в прошлом, иначе Лири сорвется с крючка, как бы тот ни заботился о нем, Капитане.
– О, Эл! Я обязан тебе всем, – обратился Лири к Хаббарду, источая одну из своих самых очаровательных улыбок. – Галактический центр послал тебя сюда в самый нужный момент.
Хаббард в ответ даже не улыбнулся. И спустя несколько минут вдруг сказал:
– Ты чертовски уверен в том, что действительно внес свою лепту!
Глава четвертая
Травелог: подпольные трипы
Мой план заключался в том, чтобы записаться добровольцем и в качестве такового принять участие в одном из пробных испытаний, проводившихся в медицинском центре Хопкинса или Нью-Йоркском университете. Уж раз я собирался совершить первый в своей жизни психоделический трип под наблюдением психотерапевта – перспектива во всех отношениях просто душераздирающая, – то мне весьма по душе была мысль о том, что я совершу его в компании опытных профессионалов в больнице, по соседству с отделением неотложной помощи. Другое дело, что наземные исследователи больше не работали со «здоровыми, нормальными людьми». А это значит, что если я рассчитываю совершить один из тех трипов, о которых так много наслышан, то мне придется совершить его в подполье. Найду ли я «проводника», который согласится работать с писателем, планирующим опубликовать рассказ о своем путешествии в неведомое? Будет ли мне достаточно комфортно в его присутствии? Смогу ли я ему довериться, и не только довериться, но и доверить ему свою психику? Вся эта затея была чревата неопределенностью и сопряжена с различного рода рисками – законодательным, этическим, психологическим и даже литературным, потому как облечь в слова то, что словами не выразить?
«Любопытство» – это хотя и точное, но довольно холодное слово для выражения той страсти, которой я был одержим. К этому времени мне уже удалось встретиться и побеседовать с десятком людей, совершивших подобные психоделические трипы, и я не мог без внутреннего трепета слушать их рассказы, не спрашивая себя при этом, чем же обернется это «путешествие» для меня самого. Многие из них относили эти трипы к числу двух или трех наиболее глубоких переживаний, выпавших им на протяжении жизни и в ряде случаев кардинально изменивших их самих, причем самым положительным образом и навсегда. Сделаться более «открытым», особенно в этом возрасте, когда психологические привычки проложили в сознании такие глубокие колеи, что они кажутся непреодолимыми, представлялось мне весьма привлекательной перспективой. А кроме того, мне представлялась возможность, пусть и отдаленная, обрести какое-никакое духовное прозрение. Многие люди, с которыми я беседовал, начинали свой духовный путь завзятыми материалистами и атеистами, духовно развитыми не больше меня, и тем не менее на некоторых из них снизошел «мистический опыт», взрастивший в них непоколебимое убеждение в том, что в мире имеется много такого, о чем мы даже не подозреваем, – некая «запредельная реальность», лежащая за этой материальной вселенной и составляющая, как я полагаю, целый особый мир. Я часто думал об одном из онкологических больных, с которым мне довелось беседовать: он был убежденным атеистом и, тем не менее, в итоге был духовно обращен и «купался в лучах Божьей любви».
Однако далеко не все, о чем рассказывали мне эти люди, вызывало во мне желание последовать их примеру и улечься на кушетку. Многих из них псилоцибин, если можно так сказать, переносил в далекое прошлое, так что в ходе странствий в их памяти всплывали эпизоды давно и прочно забытых родовых или младенческих травм. Такие переживания выкручивали их наизнанку, сотрясали до основания, однако являлись для них своего рода катарсисом. Безусловно, что эти «лекарства», как называют препараты, которые они дают своим подопечным, и законопослушные, и подпольные терапевты, мощно сотрясают психику и ускоряют психические процессы, вытаскивая на поверхность всевозможный глубоко подавленный материал, зачастую страшный и уродливый. На самом ли деле мне так уж хотелось отправиться туда? Нет, если быть честным. Должен сказать, что я никогда не был склонен к глубокому или длительному самоанализу. Моя ориентация направлена скорее вперед и вовне, а не назад и вглубь, и в целом я предпочитаю, чтобы глубины моей психики, если только они существуют, оставались бы нетронутыми. (Дел достаточно и здесь, на поверхности; вероятно, именно поэтому я стал журналистом, а не романистом или поэтом.) На мой взгляд, весь материал, скопившийся там, в подвалах подсознания, так и должен там храниться, на что есть немало причин, храниться до тех пор, пока вы не найдете специального человека, способного решить проблему. Зачем же самому добровольно спускаться в эти подвалы и включать там свет?
В целом в глазах окружающих я выгляжу как довольно спокойный, уравновешенный и психически устойчивый человек, и я так давно играю в семье эту роль – как ребенок, как взрослый, как друг в общении с друзьями и как коллега в общении с коллегами – и так вжился в нее, что она стала моей довольно точной характеристикой. При этом частенько – или в предрассветных муках бессонницы, или под действием конопли – я вдруг ощущаю, что одинок и потерян, застигнутый врасплох внезапно накатившим на меня психическим штормом экзистенциального страха, столь мрачным и неистовым, что он грозит опрокинуть мою лодку, а заодно и мою индивидуальность, которой я так доверяю. В такие минуты я начинаю серьезно допускать возможность того, что где-то там, под той уравновешенностью, которую я наружно являю, таится теневое «я», сформированное из мутных, беспорядочных и потенциально безумных сил. Насколько тонка кожа моего здравомыслия? – спрашиваю я себя в такие моменты. Возможно, мы все это спрашиваем. Но действительно ли хочу выяснить это? Рональд Дэвид Лэйнг однажды сказал, что есть три вещи, которых боятся люди: это смерть, им подобные и их собственный разум. Запишите на мой счет два пункта из трех. Но бывают моменты, когда любопытство берет верх над страхом. И для меня такой момент, полагаю, настал.
Под «психоделическим подпольем» я не имею в виду мир теневой экономики, где люди нелегально производят, продают и употребляют психоделические препараты. Я имею в виду лишь специфическое подразделение этого мира, населенное, вероятно, двумя сотнями «проводников», или терапевтов, тщательно и осторожно, в рамках правил, работающих с разнообразными психоделическими субстанциями с намерением лечить больных людей или улучшать их самочувствие, помогая им реализовать свой духовный, творческий или эмоциональный потенциал. Многие из этих «проводников» – дипломированные психотерапевты, поэтому, занимаясь всем этим, они рискуют не только своей свободой, но и своей профессиональной лицензией. Я знаком с одним из них, врачом, а о других только слышал. Кое-кто из этих людей – религиозные деятели: раввины или главы различных конгрегаций; несколько человек называют себя шаманами, а один даже представляется как друид. Прочие – терапевты, прошедшие обучение в альтернативных школах самого различного толка; кого только здесь нет: юнгианцы и райхианцы, гештальт-терапевты и «трансперсональные» психологи, энергетические целители, терапевты, работающие с аурой, голотропным дыханием, телесными практиками, электрошоковой терапией, прошлыми жизнями и семейными плеядами, толкователи сновидений, астрологи и учителя, обучающие навыкам медитации, – короче, колоритнейшее переплетение всех характерных для 1970-х годов альтернативных «модальностей», которые обычно сваливают в одну кучу и выставляют под общей рубрикой «движение за развитие человеческого потенциала», штаб-квартирой коего является уже известный нам Эсален.
Нью-эйджевская терминология порой сбивает с толку и даже кажется немного косной; мне приходилось встречаться с людьми, слушая которых я не мог отделаться от ощущения, что развитие их языка и словарного запаса застопорилось где-то в начале 1970-х годов, в тот самый момент, когда психоделическая терапия ушла в подполье, остановив во времени и развитие субкультуры.
Кое-кого из этих людей мне удалось отследить, причем без особого труда, в Сан-Франциско, в районе залива, месте самой большой в стране концентрации подпольных психотерапевтов. Гуляя по улицам и расспрашивая местных «аборигенов», я скоро обнаружил, что у одного друга есть другой, чей друг ежегодно в свой день рождения ездит в Санта-Круз, где живет один психотерапевт, с которым или под началом которого он совершает псилоцибиновые трипы. Кроме того, я обнаружил, что мембрана, разделяющая надземный и подземный психоделический миры, в определенных местах вполне проницаема; пара человек, с которыми я подружился, когда писал об университетских испытаниях псилоцибина, пожелали свести меня со своими «коллегами», трудившимися в подполье. Встреча с одними людьми повлекла за собой встречу с другими, а потом и с третьими – процесс, который все больше набирал обороты по мере того, как люди откликались на мои намерения и начинали мне доверять. К настоящему времени мне удалось встретиться и побеседовать с пятнадцатью подпольными психотерапевтами и поработать с пятью из них.
Несмотря на риск, сопряженный с такого рода встречами, риск нарваться на осведомителя или агента властных структур, эти люди, к моему удивлению, при встречах со мной всегда были открыты, душевны и отзывчивы. Несмотря на то, что власти до сих пор ничем себя не обнаруживали и, казалось бы, не проявляли особого интереса к людям, практикующим психоделическую терапию, хотя и следили за ними, тем не менее эта деятельность считается незаконной, поэтому общаться с журналистом, не приняв разумных мер предосторожности, довольно опасно. Все терапевты, с которыми я встречался, просили меня не разглашать их имен или мест их обитания и сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить их безопасность. Помня об этом, я изменил не только их имена и места встреч, но и другие характерные признаки в рассказанных ими историях. Однако все эти люди, встреча с которыми ждет вас ниже, не плод моего воображения и не выдумка, а вполне реальные персонажи подпольного психоделического мира Сан-Франциско.
В сущности говоря, практически все подпольные терапевты, с которыми мне довелось встречаться, тем или иным образом отличаются от поколения психоделических терапевтов, работавших на западном побережье и в районе Кеймбриджа в 1950-е и 1960-е годы, когда эта деятельность считалась законной. Действительно, почти каждый, с кем мне приходилось беседовать, начинал линию своей профессиональной преемственности от Тимоти Лири (чаще всего от одного из его аспирантов), от Станислава Грофа, Эла Хаббарда или сан-францисского психолога по имени Лео Зефф (он умер в 1988 году), одного из самых первых подпольных терапевтов и оттого самого известного; по его словам, через «него прошли» (выражение Эла Хаббарда) три тысячи пациентов, а сам он за годы активной работы «воспитал» 150 терапевтов, включая и тех нескольких, с которыми я встречался на западном побережье.
После себя Зефф оставил (анонимно) солидный отчет о проделанной работе, который послужил основой для изданной в 1997 году книги под названием «Начальник секретной службы», где представлен ряд интервью с неким терапевтом по имени Джейкоб, которые брал у него его близкий друг Майрон Столярофф. (В 2004 году семья Зеффа дала Столяроффу разрешение раскрыть подлинное имя этого терапевта, поэтому и сама книга была переиздана под названием «Начальник секретной службы раскрыт».) Судя по интервью, Зефф во многих отношениях, и по подходу и по манере, является типичным представителем тех подпольных терапевтов, с которыми я встречался; он предстает скорее как народный (или хаимский, если использовать еврейское слово, которое так обожал Зефф) персонаж, чем как ренегат, гуру или хиппи. На фотографии, помещенной в книге 2004 года издания, улыбающийся Зефф в больших летных очках и в вязаном жилете, надетом поверх рубашки, выглядит скорее как любимый дядюшка, чем как изгой или мистик. Тем не менее он был и тем, и другим.
В 1961 году, когда Зефф (ему в ту пору было 49 лет), приняв сто микрограммов ЛСД, совершил свой первый «кислотный трип», он был терапевтом юнгианского толка, имевшим частную практику в Окленде. (Вероятно, первым, кто «подсадил его» на ЛСД, используя идиому самого Зеффа, был сам Столярофф.) Терапевт попросил его захватить с собой какой-нибудь предмет личного обихода, очень важный для него, поэтому Зефф принес с собой Тору. После того как ЛСД начал действовать, терапевт, он же «проводник», «положил Тору мне на грудь, и я мгновенно увидел себя сидящим на коленях у Бога. Он и я были одно».
Вскоре Зефф начал использовать различные психоделики и в своей терапевтической практике и быстро обнаружил, что эти лекарственные препараты помогают его пациентам прорваться сквозь возведенные ими психологические барьеры, вынося на поверхность глубоко похороненный в недрах подсознания бессознательный материал, и достичь стадии духовного озарения, причем часто в ходе одного сеанса. Результаты, по словам Столяроффа, были такими «фантастичными», что, когда федеральное правительство в 1970 году включило психоделики в список запрещенных товаров, запретив их использование в любых направлениях и с любыми целями, Зефф моментально принял решение продолжать эту работу подпольно.
Это оказалось непросто.
– Много раз, отходя ко сну, я корчился в сильных муках, а утром просыпался – и вот тут-то как раз на меня и накатывало, – говорил Зефф своему другу. – «Джейкоб [псевдоним Зеффа], – сказал он мне, – скажи ради Бога, чего ты ждешь, подвергая себя воздействию всей это хрени? Нужно оно тебе!» После чего я смотрел на него и говорил: «Посмотри на этих людей. Посмотри, что происходит с ними». И спрашивал: «Стоит оно того?» <…> И неизбежно приходил к одному и тому же выводу: «Да, оно того стоит». <…> Через что бы ни пришлось пройти, это стоит того, чтобы добиться таких результатов!
За время своей долголетней профессиональной деятельности Зефф помог кодифицировать и привести в систему многие протоколы подпольной терапии, введя в обиход систему «соглашений», которые обычно заключают терапевты со своими клиентами, – это касается конфиденциальности мероприятий («строго секретно»), сексуальных контактов («запрещены»), неукоснительного следования указаниям терапевта во время сеанса («абсолютное послушание») и так далее – и разработав множество других церемониальных нюансов, как, например, традиция подавать участникам таблетки в чашке, – «очень важный символ опыта по преобразованию сознания». Зефф также описал причины отхода от обычной терапевтической практики, общие для большинства психоделических терапевтов. Он считал обязательным условием, чтобы терапевты на себе испробовали действие тех препаратов, которые они дают пациентам. (Официальные терапевты на такое не решаются и даже не допускают подобную возможность.) К тому же он был убежден, что терапевты не должны даже пытаться направлять ход психоделического трипа, а тем более манипулировать им, давая возможность подопечным самим идти своим курсом и определять конечные цели. («Оставь их в покое!» – говорит он Майрону.) Терапевтам также вменялось в обязанность сбрасывать с себя маску беспристрастного аналитика, демонстрируя личностные свойства и эмоции и не чураясь выказывать клиенту, проходящему особо сложную стадию путешествия, знаки своего участия, такие, например, как прикосновения и объятия.
Во вступлении к переизданной книге Майрон Столярофф рассказывает о влиянии, которое оказали подпольные терапевты типа Лео Зеффа на всю эту область науки в целом, высказав предположение, что психоделические исследования, которые были возобновлены на законных основаниях в конце 1990-х годов, когда он писал предисловие, «явились результатом неофициальных данных, предоставленных подпольными терапевтами» (вроде Зеффа), так же как и психоделическими исследователями первой волны, работавшими в 1950-х и 1960-х годах. Исследователи, работающие в этом направлении в университетах и современных лабораториях, неохотно признают этот факт, что вполне понятно, однако взаимосвязь и обмен информацией между двумя мирами все же существует, как существуют и люди (их, правда, немного), которые осторожно снуют туда и обратно между этими мирами. Например, для обучения новой когорты психоделических терапевтов, которым предстояло провести пробные испытания психоделиков в лабораторных условиях, были приглашены несколько известных подпольных терапевтов. А когда команда врачей из медицинского центра Хопкинса захотела изучить роль музыки при проведении контролируемых сеансов с псилоцибином, они обратились за помощью к некоторым подпольным терапевтам и изучили их методы работы с музыкой.
Вплоть до 2010 года никто не имел ни малейшего представления о том, сколько подпольных терапевтов в Америке или чем конкретно они занимаются. Именно в этом году Джеймс Фадиман, психолог из Стэнфордского университета, принимавший участие в исследованиях, проводившихся Фондом прогрессивных исследований в Менло-Парке в 1960-е годы, прибыл на конференцию, посвященную развитию психоделической науки в районе залива. Конференция была организована Управлением по контрою за загрязнением атмосферы при поддержке Научно-исследовательского института Хеффтера, Фонда Бекли и Совета по духовным практикам Боба Джесси; все три – это некоммерческие организации, финансировавшие большинство психоделических исследований, проводившихся в то время. На конференцию (она проводилась в конференц-зале гостиницы Holiday Inn в Сан-Хосе, и там же жили участники) приехало более тысячи человек, в их числе несколько десятков ученых (они представили результаты своих исследований, дополняя их показом интерактивных слайдов), изрядное количество терапевтов, представлявших как университетскую среду, так и подполье, и великое множество «психонавтов» – людей всех возрастов, регулярно использующих психоделики в повседневной жизни с той или иной целью: духовной, терапевтической или «рекреационной». (Как постоянно мне напоминал Боб Джесси всякий раз, когда я использовал этот термин, «рекреационный» необязательно подразумевает легкомыслие, небрежность или отсутствие намерения. С чем я совершенно согласен.)
Джеймс Фадиман приехал на конференцию «о путях науки», чтобы прочитать доклад о значении контролируемого энтеогенического трипа. Ему было интересно, много ли среди присутствующих подпольных деятелей, поэтому он в конце доклада объявил, что завтра утром в 8.00 намечено собрание терапевтов.
– Я вытащил себя из постели в семь тридцать, ожидая, что увижу от силы пять человек, а их собралась целая сотня! Меня это потрясло.
Вряд ли у меня достанет смелости назвать эту разрозненную группу далеких друг от друга специалистов коммуной, сообществом, а уж тем более организацией; тем не менее на основании бесед с десятком из них я заключил, что все они профессионалы, которых объединяют сходные взгляды, похожая практика и общий для всех кодекс поведения. Вскоре после встречи в Сан-Хосе в Интернете появилась своеобразная «Википедия» – совместный сайт, где пользователи могли выкладывать документы и совместно разрабатывать новое содержание. (Документы и ссылки с этого сайта Фадиман включил в свою изданную в 2011 году книгу «Справочник психоделического исследователя».) Именно здесь я нашел два особо для меня ценных предмета, а также несколько документов (на тот момент они находились еще в стадии разработки), которые в течение ряда лет нигде не публиковались; с другой стороны, «публичное разоблачение», тот есть упоминание сайта в книге Фадимана привело к тому, что его создатели тут же его закрыли или перенесли в другое место.
Первая находка – проект будущего устава: «Всячески поддерживать категорию глубоких, ценных переживаний, делая ее более доступной для все большего количества людей». Эти переживания фигурируют там под различными наименованиями: то как «объединяющее сознание», то как «недвойственное сознание», а кроме того, там же упоминаются и несколько не связанных с фармакологией практик, позволяющих достичь этих состояний, и среди них, в частности, медитация, техники голотропного дыхания и голодание. «Основным инструментом Терапевтов является здравомысленное использование того класса психоактивных веществ», которые известны под именем «мощных катализаторов духа».
Сайт предлагает будущим терапевтам различные виды документации (которую тут же можно вывести на печать), такие, как разбор юридических вопросов, пресс-коммюнике, этические соглашения и медицинские анкеты. («У нас нет надежной подстраховки, – с сардонической улыбкой сказал мне как-то один терапевт, – поэтому мы очень осторожны».) Здесь же дается ссылка, по которой можно отыскать и открыть «Этический устав духовных терапевтов», где говорится об опасностях, психологическом и физическом риске психоделических трипов, а также подчеркивается, что терапевт несет громадную долю ответственности за здоровье и благополучие клиента. Признавая тот факт, что в ходе «первичных религиозных практик участники могут быть особо восприимчивы к внушению, психической манипуляции и эксплуатации», устав провозглашает, что терапевту вменяется в обязанность рассказывать клиенту обо всех рисках, которым он подвергается во время психоделических странствий, заручаться его согласием, гарантировать конфиденциальность, заботиться о его безопасности и здоровье, «защищать его от… честолюбия» и саморекламы и равно относиться ко всем клиентам «безотносительно их платежеспособности».
Вероятно, самый полезный документ на сайте – это «Руководство для путешественников и терапевтов»[37], где собран краткий свод собранных за полвека знаний и мудрости, касающихся того, как наилучшим образом подготовиться к психоделическому трипу и где даются полезные советы как участникам, так и их «проводникам». Здесь рассматриваются основные положения таких факторов, как установка и обстановка, психическая и физическая подготовка к сеансу, потенциальные взаимодействия препаратов, важность правильного формулирования своих намерений, сообщается, что ждет участника в ходе странствия (даются описания как приятных, так и кошмарных видений), описываются стадии, которые проходит «путешественник», указываются возможные сбои и препятствия, даются советы, как справиться со страхом и кошмарами, подчеркивается исключительная важность «восстановления психических и физических сил» после сеанса, и так далее, и так далее.
Что до меня, то, стоя на пороге подобных откровений, мне было утешительно знать, что подпольное сообщество психоделических терапевтов, состоявшее, на мой взгляд, из плеяды выдающихся индивидуумов, действовавших на свой страх и риск и по собственному разумению, – что это сообщество работало действительно профессионально, опираясь на имеющийся свод накопленных знаний, опыта и традиций, наработанных и полученных ими от пионеров этой отрасли, таких, как Эл Хаббард, Тимоти Лири, Майрон Столярофф, Станислав Гроф и Лео Зефф. У них были свои правила, свои устав и соглашения, а многие элементы их деятельности были более или менее узаконены.
Наткнувшись на этот сайт, я был восхищен и поражен тем, сколь далеко продвинулась культура психоделиков за прошедшие десятилетия. Мне показалось, что в этих документах, пусть и не в явной форме, содержится признание того, что этими сильнодействующими незаконными препаратами можно, конечно же, злоупотреблять (в сущности, так оно и было), но если уж назрела необходимость направить их в более полезное русло, на общее благо, для них требуется некий культурный регламент, куда входили бы протоколы, правила и ритуалы, образующие в совокупности некий аполлонический противовес для отвода их дионисийской силы. Современная медицина, с ее испытаниями, проводящимися под жестким контролем ученых, с ее врачами в белых халатах и ее руководством по диагностике и статистике психических расстройств, предлагает один регламент, а подпольные терапевты – другой.
Тем не менее первые два терапевта, с которыми мне довелось беседовать, не удостоились моего доверия. Возможно потому, что я был новичком в этой области и сильно нервничал в преддверии предстоящего путешествия в неведомое, однако что-то в их разглагольствованиях насторожило меня: в них слышались сигналы тревоги, при звуках которых мне захотелось рвануть в противоположную сторону.
Андрей, румын по происхождению, мужчина лет шестидесяти, имевший за спиной несколько десятилетий психотерапевтической практики, был первым терапевтом, с которым мне посчастливилось разговаривать; мне удалось выйти на него, потому что он когда-то работал с другом друга одного моего друга. Мы встретились в его офисе, располагавшемся в скромном районе, состоявшем сплошь из небольших бунгало и аккуратных газонов в одном из городков на северо-западном побережье Тихого океана. Написанная от руки вывеска на двери извещала о том, что посетителям необходимо разуться и подняться по лестнице, где они попадали в тускло освещенную приемную, одну из стен которой украшал так называемый килим – шерстяной безворсовый ковер.
На столе вместо кипы старых журналов вроде People или Consumer Reports я обнаружил целый алтарь, уставленный священными предметами и артефактами, заимствованными из великого множества культур: здесь были статуэтка Будды, кристалл, воронье крыло, медная чашка для благовоний, веточка шалфея и многое другое. А позади стояли две фотографии в рамках; на одной был снят не известный мне индийский гуру, а на другой – известная мне мексиканская знахарка Мария Сабина.
С такой обескураживающей картиной я, надо сказать, столкнулся не в первый, да и не в последний раз. В сущности говоря, у всех терапевтов, с которыми я встречался, в комнатах, где они работали и принимали клиентов, имелся подобный алтарь, имевший прикладную цель: если помните, клиентов, готовящихся отправиться в психоделический трип, часто просили захватить с собой дорогой для них предмет, который затем жертвовался на алтарь. От чего меня так и подмывало отмахнуться (ибо пестротой это напоминало шведский стол, уставленный цацками Нового Века равных возможностей, к которым я в конце концов начал относиться с большей симпатией), так это от материальных выражений синкретизма, доминировавшего в психоделическом сообществе. Представители это сообщества в любом формальном смысле больше тяготели к духовности, нежели к религии, фокусируясь на общей для всех религий мистической сердцевине («космическом сознании»), которая, по их представлению, составляла основу различных религиозных традиций. Поэтому то, что показалось мне набором разношерстных духовных символов, является по сути различными средствами выражения или толкования все той же непреложной духовной реальности, той «неувядаемой философии», которая, как утверждал Олдос Хаксли, лежит в основе всех религий и к которой психоделики, как предполагается, могут вывести человека напрямую.
Через несколько минут в приемную вошел Андрей, и когда я встал с намерением протянуть ему руку для рукопожатия, он, к полной моей неожиданности, заключил меня в медвежьи объятия. Андрей был крупным мужчиной с копной наспех причесанных седых волос; поверх желтой майки на нем была надета рубашка в голубую клетку, из-под которой выпирал объемистый живот. Он говорил с сильным акцентом и каким-то образом умудрялся казаться одновременно любезным и обескураживающе грубым.
Андрей впервые свел знакомство с ЛСД в возрасте двадцати одного года, вскоре после возвращения из армии; друг прислал ему из Америки дозу порошка, и то, что он пережил под его влиянием, в корне изменило всю его жизнь: «Я вдруг осознал, что мы живем в весьма ограниченном пространстве того, что является жизнью». Осознание этого толкнуло его серьезно заняться изучением восточных религий и западной психологии, которое увенчалось докторской степенью в области психологии, полученной в Бухарестском университете. Когда его духовно-психические изыскания оказались под угрозой срыва из-за того, что им заинтересовались румынские спецслужбы, он «решил, что пришло время сделать свой собственный выбор» и сбежал за границу.
Так Андрей оказался в Сан-Франциско, привлеченный туда слухами о том, что именно там находится «первая аспирантура движения нью-эйдж» – Калифорнийский институт интегральных исследований. Основанный в 1968 году как учреждение, областью специализации которого является «трансперсональная психология», институт представляет собой своеобразную школу терапии с ярко выраженной духовной ориентацией, опирающейся на труды Карла Юнга и Абрахама Маслоу, так же как и на «традиции мудрости» Востока и Запада, включая целительские практики индейцев Северной Америки и шаманизм южноамериканских племен. Многие годы на этом факультете проработал Станислав Гроф, главный пионер в области трансперсональной и психоделической терапии. В результате в 2016 году институт начал предлагать первую в стране программу обучения психоделической терапии с вручением дипломов по ее окончании.
Андрею пришлось, в рамках своей дипломной программы, пройти курс психотерапии и изучить основы знахарства североамериканских индейцев, чем он и занимался сначала в регионе Четырех углов, а затем в районе залива.
– Ого-го! – воскликнул он, вспоминая. – Мне ведь до этого уже пришлось иметь дело с ЛСД, поэтому я знал, что оно [знахарство] жизнеспособно.
Так знахарство стало его призванием.
– Я помогаю людям понять, кто они такие, чтобы они могли жить полной жизнью. Я привык работать с теми, кто ко мне приходит, но некоторые из них, надо сказать, полное дерьмо. Если ты на грани психоза, эта работа может помочь тебе перешагнуть через него. Но чтобы отделаться от него, а затем суметь снова вернуться в привычные границы, нужно сильное эго. Был у меня однажды один трудный клиент, который подал на меня в суд, обвинив в том, что у него, мол, из-за меня началась ломка. После этого я решил, что больше работать с сумасшедшими не буду. И вскоре после того, как я это решил и объявил свое решение Вселенной, они перестали ко мне приходить. – (В эти дни он работал с молодыми людьми из мира технологий.) – Я опаснейший вирус в Кремниевой долине. Они приходят ко мне и спрашивают: «Что ты здесь делаешь? Гоняешься, как заяц, за золотой морковкой в золотой клетке?» Но многие из них идут дальше и занимаются чем-то более осмысленным в своей жизни и саму жизнь делают более осмысленной. [Пережитое] открывает им двери в духовную реальность.
Трудно сказать, что именно помешало мне работать с Андреем, но, как это ни странно, это был не столько нью-эйджевский спиритуализм, сколько его беспечное отношение к процессу, который я все еще считал экзотическим и страшным.
– Я не играю в психотерапевтические игры, – сказал мне Андрей томным голосом, чем-то напоминая толстого парня, стоящего за прилавком отдела деликатесов и заворачивающего мне сандвич. – Все это пустое! В традиционной психологии никто никого не обнимает. А я обнимаю. Я дотрагиваюсь до них. Я даю советы. И заставляю людей стоять с нами в лесу. – (Он работает с клиентами не у себя в офисе, а на природе, в лесах Олимпийского полуострова.) – Но все это под запретом и чревато большим бо-бо. – Он пожал плечами, словно говоря: «Ну и что с того?»
Я поделился с ним моими страхами. Все это ему известно, махнул он рукой.
– Возможно, ты не получишь то, чего хочешь, – сказал он мне, – зато получишь то, что тебе нужно. – Я мысленно поперхнулся. – Самое главное – отдаться на волю процесса, даже если он идет с трудом. Уступи своему страху. Самые большие страхи, донимающие человека, – это страх смерти и страх безумия. Остается только одно – уступить им. Поэтому уступи! Сдайся!
Андрей назвал два самых больших страха, которые владели мной тогда, но уступить им, сдаться… Это проще сказать, чем сделать.
Я понимал, что мне, возможно, нужен терапевт, выказывающий чуть больше чуткости, нежности и терпения, и надеялся встретить такого терапевта, однако я не был до конца уверен, что Андрей с его грубыми манерами мне не подойдет. Он умен, обладает немалым опытом, он готов работать со мной. Но затем он рассказал мне историю, которая решила исход дела.
Однажды он работал с мужчиной моего возраста, который под воздействием псилоцибина вбил себе в голову, что у него был сердечный приступ.
– «Я умираю, – сказал он. – Позвони в службу спасения! Я чувствую это, сердцем чувствую!» Я сказал, чтобы он сдался на милость смерти. Еще святой Франциск говорил, что в смерти обретаешь вечную жизнь. Когда понимаешь, что смерть – это лишь очередной опыт, иная реальность, то и не о чем беспокоиться.
Хорошо, ну а что, если у него действительно был сердечный приступ? Там, в лесах Олимпийского полуострова? Андрей сказал, что один начинающий терапевт, проходивший обучение под его руководством, «как-то спросил меня: „Что делать, если кто-то умрет?“» Не знаю, какого ответа я ждал от Андрея, но его ответ, который он огласил с присущим ему небрежным пожиманием плечами (мол, ну и что с того?), меня просто ошарашил:
– Похорони его вместе с другими мертвецами.
Я сказал Андрею, что буду с ним на связи, и ретировался.
Вскоре я убедился, что психоделическое подполье населено великим множеством подобных колоритных персонажей, к которым я, однако, не испытывал особого доверия и которым не желал бы вверить свое сознание – или, в данном случае, любую часть моего «я». Сразу после встречи с Андреем я имел встречу с еще одним перспективным терапевтом, блестящим психологом лет восьмидесяти, который обучался в Гарварде у самого Тимоти Лири. Его знанию психоделиков можно было позавидовать; количество его грамот и сертификатов впечатляло; его горячо рекомендовали люди, которых я уважал. И тем не менее, когда во время нашего совместного обеда в тибетском ресторанчике недалеко от его офиса он вдруг снял свой галстук-шнурок с серебряной застежкой и повесил его на доску с меню, я начал терять уверенность в том, что это именно тот человек, который мне нужен. Перехватив мой взгляд, он объяснил, что при выборе блюд полагается на энергии, высвобождаемые маятниковым раскачиванием серебряной застежки: мол, это помогает ему выбрать блюдо, полностью согласующееся с пищеварением, свойственным его нраву и темпераменту. Я уже забыл, на какое именно блюдо указал его галстук, но еще до того, как он начал распространяться, что теракт 9 ноября был спланирован нашими же спецслужбами, дескать, все на это указывает, я уже знал, что мои поиски нужного мне терапевта еще далеки от завершения.
Принимать психоделики, когда тебе уже под шестьдесят, совсем не то, что пробавляться ими, когда тебе всего восемнадцать или двадцать лет; существенная разница в том, что когда тебе шестьдесят, ты, скорее всего, обратишься к кардиологу, прежде чем пуститься в рискованное путешествие. То же было и со мной. За год до того, как я решился на эту авантюру, мое сердце, самый надежный советчик, на безотказную работу которого я полностью полагался в таком вопросе, как этот, неожиданно дало о себе знать и впервые в жизни привлекло к себе мое внимание. Сидя за компьютером однажды вечером, я вдруг почувствовал в груди ярко выраженный и безумно синкопированный новый сердечный ритм.
«Мерцательная аритмия» – констатировал врач, внимательно изучив ломаные закорючки на моей электрокардиограмме. Опасность мерцательной аритмии не в том, что она приводит к сердечному приступу, сказал он к моему облегчению (правда, мимолетному), а в том, что она повышает риск паралича. «Мой кардиолог» – вероятно, это печальное выражение теперь уже надолго вошло в мой словарный запас – выписал мне пару медикаментов, успокаивающих сердечные ритмы и понижающих кровяное давление, плюс упаковку детского аспирина (который я должен был принимать ежедневно) для разжижения крови. «Ничего страшного, забудьте об этом», – заявил он напоследок.
Я последовал его совету – во всем, кроме последних слов. Чего-чего, а забыть я не смог и с тех пор постоянно думал о своем сердце. Вся его деятельность, до той поры полностью пребывавшая вне сферы моего осознания, вдруг сделалась предметом моего пристального внимания: всякий раз, когда я думал проверить то, что, как мне казалось, я слышал и чувствовал, именно таковым оно и оказывалось. Понемногу мерцающая аритмия исчезла и больше не возобновлялась, но к этому времени рекогносцировка моего бедного сердца вышла из-под моего контроля, так что и многие месяцы спустя я по-прежнему ежедневно измерял свое кровяное давление и, перед тем как лечь спать, прислушивался к признакам вентрикулярного эксцентриситета или, проще говоря, сбоев в работе желудочков. Прошли месяцы (без всякого паралича или удара), прежде чем я снова стал доверять своему сердцу и предоставил ему работать без надзора за ним с моей стороны. К счастью, постепенно его деятельность пришла в норму и вновь сместилась на периферию моего сознания.
Я рассказываю обо всем этом, чтобы объяснить, почему, прежде чем пуститься в психоделическое странствие, я обратился к кардиологу. Врач-кардиолог был примерно моего возраста, так что слово «псилоцибин», или «ЛСД», или «МДМА» не особенно его шокировало. Я поведал ему о своих намерениях и спросил, не противопоказан ли мне какой-нибудь из этих препаратов, принимая во внимание мои проблемы с сердцем, и нет ли риска, что выписанные им лекарства осложнят процесс взаимодействия с психоделиками. Насчет психоделиков он не особенно беспокоился, ведь действие большинства из них концентрируется лишь на сознании, практически не воздействуя на сердечно-сосудистую систему, но от одного из упомянутых мной препаратов он посоветовал мне отказаться. Это был МДМА, также называемый в народе «экстази» или «Молли», находившийся с середины 1980-х годов, когда он был особенно популярен у тусовочной молодежи, в списке запрещенных медикаментов.
Препарат 3,4-метилендиоксиметамфетамин – это классический психоделик (он воздействует на различные рецепторы мозга, но при этом не вызывает сильных зрительных эффектов), и некоторые из терапевтов, с которыми мне довелось беседовать, заявили, что он является неизменным атрибутом их терапевтической деятельности. Иногда называемый эмфатогеном, МДМА снижает психологическую защиту и помогает выстроить мгновенную связь между пациентом и терапевтом. (Лео Зефф был одним из первых, кто начал использовать МДМА в 1970-х годах, после того тот стал особо популярным, потому как был широко разрекламирован его друзьями – легендарным химиком из района залива Сашей Шульгиным и его женой терапевтом Анной Шульгиной.) Терапевты говорили, что МДМА особенно хорош для «ломки льда» и установления доверительных отношений между клиентом и врачом до начала психоделического трипа. (Один из них сказал: «Он сжимает годы психотерапии до рамок одного вечера».) Но, как свидетельствует его научное название, МДМА – это амфетамин, поэтому он химически все же воздействует на сердце так, как не воздействует ни один другой психоделик. Я был немного разочарован тем, что кардиолог выбраковал МДМА из моего списка, но при этом радовался тому, что он все же дал зеленый свет прочим моим психоделическим планам.
Первый трип: ЛСД
Что касается первого терапевта, на которого пал мой выбор, то ничто в его жизни не характеризует его с благоприятной стороны, по крайней мере на бумаге. Он жил и работал далеко от психоделического, да и терапевтического сообщества, в горах американского Запада, не имел телефонной связи, зато имел собственный генератор, снабжавший его электричеством, качал насосом воду из горных источников, выращивал собственные овощи и поддерживал связь с людьми через весьма капризный спутниковый Интернет. Мне пришлось расстаться с мыслью проводить сеанс где-нибудь поблизости от больницы или госпиталя, то есть в пределах быстрой доставки в отделение неотложной помощи. К тому же сюда примешивался тот факт, что сам я был родом из еврейской семьи, которая однажды отказалась покупать машину на том основании, что она была сделана в Германии, а он был немцем шестидесяти лет, да к тому же сыном нациста: его отец во время Второй мировой войны служил в рядах СС. Теперь вы понимаете, что меня как человека, который много наслышан о роли установки и обстановки и утвердился в важности этих факторов, ни одна из этих частностей его жизни особо сильно не вдохновляла.
Тем не менее я влюбился в Фрица с первого взгляда, как только он вышел из дому, чтобы поприветствовать меня (что он и сделал, широко улыбаясь и заключив меня в теплые объятия, к чему я уже привык), когда я въехал во взятой напрокат машине в его удаленный лагерь. Лагерь напоминал опрятный деревенский хуторок: к хозяйскому дому примыкала пара пристроек поменьше, дальше располагались восьмиугольная юрта и два ярко раскрашенных флигеля, выстроенных на поляне, расчищенной на гребне густо поросшей деревьями горы. Сверяясь с картой, которую мне прислал Фриц (он ее начертил сам, поскольку эта территория была настоящей terra incognita в глобальной системе позиционирования), я проехал несколько миль по грязной, пыльной дороге, пролегавшей через унылый ландшафт, образуемый отвалами земли и строениями заброшенный шахты, и затем начал подниматься по склону вверх, углубившись в темный лес, состоявший из кипарисов и желтых сосен с гладкой корой цвета свежей крови, пространство между которыми было заполнено плотным кустарником, в основном толокнянкой обыкновенной. Короче говоря, я забрался в самую глушь.
Фриц являл собой запутанный клубок противоречий и вместе с тем был очень сердечным и, видимо, счастливым человеком. Густой порослью седых волос, разделенных пробором посередине, и массивной мускулистой фигурой, начавшей немного сдавать под тяжестью годов, он в свои 65 лет сильно напоминал одного европейского киноактера, к счастью, набравшегося изрядной мудрости. Он родился и вырос в Баварии и был сыном запойного алкоголика, который служил в рядах СС и состоял телохранителем при культурном атташе, отвечавшем за постановку опер и других развлекательных мероприятий для немецкой армии, – своего рода нацистское Общество по организации досуга военнослужащих. Позднее, когда отец вернулся с войны контуженым (он сражался под Сталинградом, но чудом выжил), Фриц рос под унылой сенью его несчастий и пораженческих настроений, разделяя чувства стыда и гнева со многими сверстниками, принадлежавшими к послевоенному поколению.
– Когда за мной пришли посыльные из военкомата [чтобы забрать в армию для прохождения воинской службы], – рассказывал он, когда мы тем солнечным вечером сидели за кухонным столом, попивая горячий чай, – я сказал им, чтобы они убирались к чертям собачьим, и они, естественно, бросили меня в тюрьму.
Вынужденный отслужить определенный срок в армии, Фриц дважды представал перед военным трибуналом – один раз за то, что сжег свою военную форму. Он провел много месяцев в одиночном заключении, читая Толстого и Достоевского и замышляя революционный переворот с сидевшим в соседней камере маоистом, с которым он переговаривался через фановую трубу унитаза.
– Самый яркий момент в моей тюремной жизни – это когда я дал охранникам попробовать «оранжевое солнце»[38], присланное мне другом из Калифорнии.
В университете он изучал психологию и там же пристрастился к ЛСД, который он добывал у американских солдат из группы войск, дислоцированный в Германии.
– По сравнению с ЛСД Фрейд просто шутник. Для него биография человека – всё. Ему не нужен был мистический опыт.
От Фрейда Фриц перешел к Юнгу и Вильгельму Райху, которого он называет «своим героем». Заодно он обнаружил, что ЛСД – очень эффективный инструмент, позволявший ему не только исследовать глубины собственной психики, но и еще раз познать чувства гнева и подавленности, пережитые им в юности, а затем освободиться от них.
– После этого света в моей жизни стало куда больше. Что-то изменилось.
Как и в случае со многими терапевтами, с которыми мне приходилось встречаться, мистические озарения, пережитые Фрицем под действием психоделиков, привели его к длительным духовным поискам, увенчавшимся тем, что они «изрядно встряхнули мой линейный эмпирический ум», открыв перед ним перспективу прошлых жизней, а также возможность телепатии, предвидения и «синхронности», переворачивающей с ног на голову все наши представления о пространстве и времени. Немало времени он провел в ашрамах индийских гуру, где был свидетелем странных сцен, ставших прообразом его психоделических трипов. Однажды, уже в Германии, занимаясь любовью с одной немкой (оба практиковали тантризм), он пережил состояние выхода из тела и, зависнув где-то под потолком, наблюдал оттуда за действиями обоих.
– Эти препараты показали мне, что и в самом деле существует нечто невиданное, невероятное. Не думаю, однако, что это что-то магическое или сверхъестественное. Это некая техника сознания, которую мы пока еще не понимаем.
Обычно, когда кто-нибудь начинает разглагольствовать о надличностных измерениях сознания и «морфогенетических полях», я проявляю нетерпение, но с Фрицем все было иначе: что-то было в нем такое, что делало подобные разговоры если не убедительными, то, по крайней мере… провокационными. В обезоруживающе скромной, даже приземленной манере ему удалось выразить и донести до меня самые заумные идеи и представления. У меня сложилось впечатление, что у него не было в жизни иной цели, кроме как удовлетворить собственное любопытство, и для этого годились все средства, будь то психоделики или книги о паранормальных явлениях. У некоторых людей сам факт того, что они пережили нечто мистическое, ведет к тому, что их эго непомерно раздувается, подводя их к убеждению, что им в личное владение дан ключ к тайнам Вселенной. Вот так и появляются гуру. Уверенность в своем предназначении и снисходительность к простым смертным, которые у них при этом появляются, порой делают этих людей просто невыносимыми. Но Фриц – иное дело. Наоборот, его потусторонние переживания сделали его более смиренным, более открытым к новым возможностям и тайнам, нисколько не ослабляя его скептицизма и не лишая радостей повседневной жизни на этой земле. В нем не было ничего эфемерного. Поэтому я сам удивился тому, что сильно полюбил Фрица с первого же момента нашей встречи.
Прожив пять лет в одной баварской коммуне («Мы стремились исправить хотя бы часть того ущерба, который был нанесен послевоенному поколению»), он в 1976 году отправился в паломничество в Гималаи, где познакомился с женщиной из Калифорнии и последовал за ней в Санта-Круз. Здесь он попал на ту благодатную почву, на которой произрастал весь человеческий потенциал Северной Калифорнии, поэтому развитием своего потенциала он и занялся, испробовав себя в разных ипостасях: одно время он заведовал центром медитации, основанным и руководимым индийским гуру по имени Раджнеш, затем занялся массажем (включая глубокий массаж тканей и рольфинг), затем райхианской и гештальттерапией и даже архитектурно-ландшафтным проектированием, чтобы оплатить накопившиеся долги. Когда в 1982 году, вскоре после смерти отца, на курсах голотропного дыхания в Эсалене он познакомился со Станиславом Грофом, который вел эти курсы, то почувствовал наконец, что в его лице обрел настоящего отца. Под руководством Грофа на этих курсах Фриц «пережил нечто столь же сильнодействующее, как и любой психоделик. Вдруг, ни с того ни с сего я пережил момент своего рождения – увидел мать, рожавшую меня. Пока происходили роды, я словно на огромном широкоформатном экране увидел бога Шиву, создающего и разрушающего миры. И все в группе захотели того же!» Таким образом, к массажу он добавил еще одну практику – голотропное дыхание.
Вместе с Грофом Фриц провел в Северной Калифорнии и Британской Колумбии серию интенсивных многолетних тренировок. Во время одной из них он встретил свою будущую жену, клинического психолога. Систему голотропного дыхания преподавал сам Гроф; он же и разработал этот нефармакологический метод после того, как психоделики были объявлены вне закона. Но Гроф, по словам Фрица, делился с группой избранных не только секретами дыхания, но и своими глубокими знаниями по теории и практике психоделической терапии, тактично и осторожно передавая эти методы новому поколению. Несколько человек из этой группы, включая Фрица и его будущую жену, со временем стали психоделическими терапевтами, занимаясь этим видом терапии подпольно. Она работает с женщинами, которые приезжают к ним сюда, в горы, а он – с мужчинами.
– На этом много не заработаешь, – сказал мне Фриц. И в самом деле, за трехдневный сеанс, включая жилье и стол, он взял с меня только 900 долларов. – Во-первых, это незаконно, а во-вторых, опасно. Человек ведь может сойти с ума. Поэтому много денег на этом не заработаешь. Но я целитель, и эти препараты действительно эффективны.
Но и без того было совершенно ясно, что это его призвание и что он любит свою работу – любит наблюдать за тем, как люди на его глазах претерпевают глубочайшие изменения и преображаются.
Фриц рассказал, что меня ждет, если я соглашусь работать вместе с ним. Я должен буду возвратиться сюда через три дня, а ночевать буду в восьмиугольной юрте, где и будет происходить «сама работа». Первый день будет разминочным и будет посвящен более обстоятельному знакомству, при этом мне дается выбор: либо принять МДМА, либо провести сеанс голотропного дыхания. (Естественно, я выбрал голотропное дыхание, объяснив ему, чем обусловлен мой выбор.) Это даст ему возможность пронаблюдать за тем, как я воспринимаю измененное состояние сознания и как справляюсь с ним, а на следующий день, утром, он даст мне ЛСД и отправит меня в психоделическое странствие.
Я спросил его, уверен ли он в чистоте и высоком качестве используемых препаратов, поскольку они поступают от нелегальных производителей. Как только приходит новая партия товара, объяснил Фриц, «я сначала проверяю их на чистоту, а потом, прежде чем дать кому-то, сам принимаю пробную дозу, чтобы убедиться, насколько она качественна». Пусть это и не сертификат Управления по санитарному надзору с печатью «одобрено», подумал я, но все же лучше, чем ничего.
Когда Фриц работает с клиентами, он «чист», то есть не принимает препарат, но он поддерживает с ними психическую связь и часто получает от них «эфирные послания». Во время сеанса он ведет наблюдения, делает записи, ставит музыку и примерно каждые 20 минут проверяет состояние клиента.
– Если я спрошу вас о чем-то, то не где вы находитесь, а как себя чувствуете, – сказал он. – Я здесь только ради вас, ради того, чтобы, так сказать, создавать атмосферу покоя, поэтому вам не о чем и не о ком беспокоиться. Ни о жене, ни о детях. Отпустите все эти проблемы и – вперед!
Вот еще одна причина, почему я хотел проводить сеансы под руководством терапевта. С того самого момента, когда мы с Джудит прошлым летом отведали волшебных грибов и весь день пребывали в эйфории, тень беспокойства по поводу ее самочувствия то и дело омрачала безмятежность моих странствий, заставляя держаться как можно ближе к поверхности. В той мере, в какой мне была ненавистна вся эта психическая болтовня, в той же мере мне была по душе мысль о том, что кто-то заботится обо мне, «создавая атмосферу покоя».
– Вечером в предпоследний день я попрошу вас, прежде чем вы отправитесь спать, сделать кое-какие записи. А утром мы сравним записи и постараемся интегрировать и осмыслить пережитое вами. Затем я приготовлю роскошный завтрак, после чего вы будете готовы к переходу в нормальное состояние.
Мы договорились о времени моего возвращения, и я уехал.
Первое, что я узнал о себе в первый же вечер, когда мы с Фрицем работали в юрте, что я «слишком податлив», то есть восприимчив к трансу, совершенно новому для меня психическому пространству, в которое я вхожу за счет небольшого сдвига в системе дыхания. Как говорится, хуже не придумаешь!
Наставления, которые давал Фриц, были просты и прямолинейны:
– Дышите глубоко и часто, а в конце сделайте сильный выдох. Поначалу это состояние покажется неестественным, поэтому вам придется сконцентрироваться на ритме и поддерживать его, но через несколько минут тело освоится с ним и будет поддерживать его уже автоматически.
Надев наглазники, чтобы не мешал свет, я вытянулся на матрасе, а Фриц тем временем поставил музыку, какие-то первобытные общинно-родовые или племенные ритмы, отбиваемые непрестанной дробью барабанов. Рядом со мной он поставил пластиковое ведро, сказав, что людей иногда тошнит и рвет.
Да, это была трудная работенка. Поначалу дышать таким учащенным, насильственным образом действительно казалось чем-то неестественным, даже несмотря на весь энтузиазм и ободрения Фрица, но затем тело как-то вдруг освоилось с этим ритмом, и я вскоре убедился, что для поддержания скорости и темпа даже не требуется о них думать. Было такое ощущение, словно я освободился от силы земного притяжения и вышел на заданную орбиту: глубокие, с долгими паузами, вдохи и выдохи следовали один за другим сами, автоматически. Но теперь я почувствовал неконтролируемое желание начать двигать руками и ногами в такт пульсации барабанов, которое отдавалось в моей грудной клетке новым мощным сердцебиением. Я чувствовал, как этот ритм завладевает мной, им были одержимы и тело мое, и сознание. Помню, меня посещали какие-то смутные мысли, но запомнил я только одну: «Ого! Что бы это ни было, но это действует!»
Я лежал на спине, конвульсивно дергая руками и ногами в такт барабанному ритму и полностью отдавшись музыке. Не я контролировал свое тело, а музыка. Это немного походило на религиозный экстаз или на то, что я за таковой принимал, с той лишь разницей, что моими сознанием и телом владела какая-то внешняя сила, распоряжавшаяся ими с какой-то своей, неясной мне целью.
Никаких особых зрительных образов перед моим внутренним взором не возникало, мной лишь владело незамутненное радостное возбуждение, пока вдруг я не увидел себя сидящим на большой черной лошади, скачущей во весь опор по лесной дороге. Я сидел на ней, почти приникнув к ее голове, подобно жокею, и изо всех сил вцепившись в гриву, в то время как бугры ее мышц при каждом скачке так и ходили подо мной взад и вперед. По мере того как я приноравливался к ритму бега лошади, сила и мощь животного как бы вливались в меня, создавая у меня ощущение полного сродства с моим телом, как будто я очнулся в нем впервые. Но в то же время, не будучи прекрасным наездником (или танцором!), я ощущал себя не очень уверенно, так что, случись перебой в ритме дыхания или сердцебиения, я непременно тут же свалился бы с лошади.