Сокол Спарты Иггульден Конн
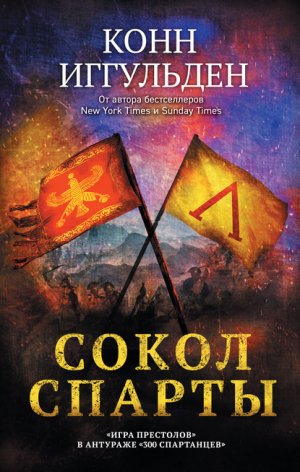
– А после этого? – спросил кто-то из сотников.
Лохаги Проксена, похоже, проявили к нему своеобразный интерес, подняв его на ноги. Ксенофонт намеренно ответил не сразу, но при этом не сводил с него глаз, пока выскочка не покраснел.
– А после я посмотрю, что будет дальше, – ответил он. – И сделаю то, что должно будет сделать.
Чтобы не затевать полемику, Ксенофонт отвернулся. В этот момент он увидел Геспия, и вчерашний разбойник-афинянин показался ему соратником с самым дружелюбным лицом на всей этой площади. Он непринужденно направился к нему, просто с целью пройтись. И только подойдя ближе, разглядел, что рядом с ним женщина – та самая, что перед рассветом подходила к нему.
– Госпожа, – поприветствовал Ксенофонт, слегка наклонив голову.
Паллакис в ответ опустилась на одно колено, отчего взгляду открылся низ ее шеи, откуда волосы уходили вверх в тугой узел.
– Благородный господин, – почтительно обратилась она. – Я хотела спросить… Вернее, обратиться с просьбой.
Ее ладонь сомкнулась в кулак, а Ксенофонт заинтригованно поднял брови. Спору нет, отчасти все это объяснялось ее красотой. Ни для кого не секрет, что для мужчин красивые женщины во всех смыслах притягательней, чем кто-либо. Правда в том, что красота извечно может просить о помощи с уверенностью в ответе. В короткий облегченный миг ему подумалось, насколько с разными мерками люди подходят друг к другу. Хотя опыту, тактике и насилию можно, так или иначе, научиться. А вот красота… Она реже, и с ней куда сложней.
– Суть моей просьбы, – говорила Паллакис, а глаза ее сверкали теплым, глубоким блеском, – в том, что… Кое-кто из мужчин видит, что у меня нет защиты. И они открыто настаивают, чтобы я их… посещала. Более чем одного. Однако я не блудница, господин. И сама мысль о том, чтобы мной грубо овладевали, мне несносна. Ну а поскольку за всех нас несет ответственность стратег, к нему я и обращаю свою просьбу.
Ксенофонт поглядел на Геспия; во взгляде юноши светилась неприкрытая влюбленность. Ответ напрашивался сам собой. Тем более что над стратегом проблемы довлели куда более насущные.
– Скажи им, что твой защитник афинянин Геспий, – сказал он ей. – Я уверен, что ради твоего расположения он будет охотно обламывать похотливые руки и прошибать головы, ничего при этом не требуя взамен.
Последнее Ксенофонт произнес с нарочитой вескостью, поглядев на Геспия, который густо зарделся.
Паллакис вновь опустилась перед стратегом на колени. Ему показалось, что на ее лице мелькнуло разочарование, хотя, возможно, это только показалось.
– Благодарю, господин, – произнесла она, когда он проходил мимо.
К выходу приготовились еще затемно. Селение обобрали подчистую, вяленое мясо и хлеб распределив в основном среди детей и раненых. Общую нужду это почти не исправляло. Большинство изнывало от голода, но спартанцы не жаловались, поэтому молчали и остальные, хотя в желудках урчало и саднило.
В путь вышли до света, направляясь в сторону реки и ориентируясь по звездам. Разведчики подтвердили, что до реки примерно два-три часа быстрого хода, так что солнце взошло, застав людей в дороге.
Со стороны задних рядов послышался предупредительный окрик. Ксенофонт, ругнувшись, пустил коня легким галопом вдоль квадрата. Навстречу ему показался Хрисоф, а также, к неудовольствию стратега, Филесий. Впрочем, за позицию, которую он занял накануне, им стоило восхититься. Той своей единственной речью Филесий почти наверняка предотвратил бунт, причем по самым благородным причинам. Ксенофонт склонил голову и поприветствовал его по имени, хотя взгляды у всех были сейчас прикованы к силе, что близилась за квадратом.
Похоже, истекшую ночь отряд Митридата провел без отдыха. Никак нельзя было отделаться от ощущения, что громада персидского войска по-прежнему идет следом – это чувствовалось по способности персов посылать вдогонку такие крупные отряды. Пожалуй, единственным облегчением было то, что персы продолжали недооценивать силы неприятеля и слали число воинства, недостаточное для его подавления. Сейчас взору представало около тысячи конных и четыре тысячи лучников – видимо, все, что царю удалось собрать за одну ночь. Без сомнения, они изрядно вымотались от долгого перехода, в то время как эллины за ночь успели неплохо отдохнуть.
Более прискорбным было то, что персы усвоили много нового в тактике и решили ее сменить. Греков они все еще опасались, но готовы были следовать за ними, как орава уличного отребья, пуляющая камни и палки. Это напоминало Ксенофонту о шайке обидчиков, что изводили его в Афинах, а он лишь казал им зубы, ярясь и намаливая всяческих бед.
Что до конницы, то у него ее не было вовсе. Шестеро верховых разведчиков против эдакой прорвы – курам на смех. Желчь в стратеге кипела, но персы, в принципе, не ошибались. Его квадрат был уязвим именно для такой осады.
– Нам предстоит все это вытерпеть, – хмуро вздохнул Филесий, озирая даль.
Без заслона из конницы им грозила медленная смерть, уносящая человека за человеком. Что до гоплитов, то они могли держаться против любой наступающей силы, но только в пешем строю. А тут еще пошел на спад темп хода лагерных обитателей. К такой скорости они были просто не приучены. С нарастанием зноя они с шага сбивались на ковыляние, а затем шатались и падали, моля о воде. Ход греческого квадрата это снижало вдвое.
– Менон лагерный люд хотел бросить, – заметил Ксенофонт, в упор глядя на Филесия. Они были примерно ровесники, и он был явно не новичок; не мальчик, тщащийся быть мужем. Он тоже пережил битву при Кунаксе и был таким же ветераном, что и Ксенофонт, а то и позаслуженней.
– Значит, он был неправ, – пожал плечами Филесий. – Я бы и врага не стал оставлять на растерзание этим шакалам, а не то что людей, которые смотрят на нас. И если ты об этом распорядишься, стратег, то твоему приказу я не подчинюсь.
Ксенофонт поджал губы в мнимом недовольстве. «Тебе нужны не друзья», – напомнил он себе. Не друзья, а те, кто без колебаний за ним последует. Он продолжил с таким видом, словно и не слышал слов Филесия:
– Отвести пращников в тыл. Спартанцы будут прикрывать их щитами. Будем надеяться, что они отыграют какое-то время.
Мысль о неумелых пращниках, вынужденных к тому же пятиться и пускать камни над головами своих, нагоняла тоску – но нужно было предпринять хоть что-нибудь, что удержало бы персов от чрезмерного сближения. При переходе вброд скорость, несомненно, замедлится еще сильней.
В это время враг сможет уничтожать их всех на выбор.
Стиснув зубы, Ксенофонт обдумывал, как все это осуществить. Сократ учил его доискиваться до сути вопроса – откидывать прочь все наносное, изгонять ложь свойственного людям самообольщения. И в конце, когда правда предстанет обнаженной, человек сможет действовать на основе уясненного. Да, безусловно, будут потеряны людские жизни – может статься, и его собственная. Но все же его выбрали вождем из-за того, что в него верили. Как верил и он сам.
– Собратья! – воскликнул он с нежданной резкостью. – Вот мои приказания.
25
Держа реку в поле зрения, персидские лучники приблизились на прицельное расстояние. Щиты и нагрудники спасали жизни многих эллинов, которых персы донимали, как мухи, кусающие лошадь. И все же стрелы время от времени попадали куда надо. Раненых передавали вперед, через головы впереди идущих, а там помещали на носилки и несли дальше. Кто-то сдавленно кричал от боли, но в основном те, кто ранен, болезненно морщась, лишь склоняли головы и продолжали упорно шагать дальше.
Брод был не больше двадцати шагов в поперечнике – русло с дном из застарелой гальки, которая под поступью первых рядов вспенилась в бурую грязь. Персы позади все смелели. Их лучники рванулись вперед, и воздух зашипел пущенными стрелами. Слышно было, как рявкнул приказ Филесий, и пращники наконец ответили всем, что у них было. В отличие от персов, им годились лишь гладкие камни. Они тысячами лежали вдоль реки, и греки закрутили пращами с поразительной скоростью: над каждым из них взвивалось размытое пятно, а после пуска пращник сразу же нагибался за новым зарядом.
Лучники в панике бросились врассыпную. От первых ударов ранено было не более десятка, но после состоявшегося знакомства с критскими пращниками при Кунаксе персы, пригибаясь, укладывались наземь. Далеко не все пущенные камни попадали в цель, но сам их цокот внушал персам страх, что им грозит сила куда большая, чем они предполагали. Начальники орали, чтобы они вставали и продолжали стрельбу, но повиновение было неохотным. Медленно, один за другим, лучники поднимались и тогда видели, как мало камней на самом деле было пущено и еще меньше их собратьев пострадало. Тогда они, злобно мрачнея лицами, снова потянулись к своим лукам.
В эти драгоценные мгновения греки с ревом перекатывали через реку. Когда последний из них достиг другого берега, усталые пращники вернулись в строй. Замыкающие гоплиты перестали держать щиты внавес и, закинув их на спину, поворачивались, переходя на бег трусцой. Сотни настороженно озирались, наблюдая, как персидская конница реагирует на их отход. Там происходила наряженная перекличка; фигурки всадников мечами и копьями указывали на отступающих. Возможно, лучники потерпели неудачу, но теперь всадники видели самое заманчивое: спины бегущего врага. Брод более не охранялся. Вожделенный момент настал.
В одно мгновение они кинули коней в галоп и ринулись в воду, взметая сеево брызг. И тут отступающие впереди них спартанцы дружно остановились и сделали разворот. На скаку персидские всадники заходились лихими воплями и вдруг оказались лицом к лицу с ровными, безмолвными рядами воинов в красных плащах, каменно стоящими без всяких признаков паники.
На спартанцев они напоролись в тот момент, когда те подняли щиты и опустили бронзовые шлемы несокрушимых, отборнейших воинов Эллады. Передние всадники стали осаживать лошадей, но их дикими криками, наседая сзади, подгоняли другие.
Три шеренги спартанцев атаковали вражеских всадников внаскок, со щитами наготове и копьями у пояса. Этот удачный пятачок для схватки Ксенофонт просчитал очень прозорливо. Его лучшие люди окружили персидскую конницу как раз в тот момент, когда она выбиралась из реки, и отсекли ей путь к отходу. Даже лучники ничем не могли ей помочь из риска побить своих, что сейчас сражались в этой давке. Стрелы все-таки жужжали и попадали в цель, но уже половине скомканной персидской конницы пришлось отступить, бросая в окровавленной воде лошадей и сотни своих соотечественников, обреченных на погибель.
Вскоре спартанцы отошли через реку, дружно и в хорошем темпе. Среди них были потери, но своих преследователей они превратили в месиво. Позади землю устилали сотни персов. Многие из них были изрублены с намеренной жестокостью, на страх остальным.
Наградой за риск эллинам достались лошади. Ксенофонт был в восторге, осматривая каждую новую и назначая их тем, кто умело ездит верхом.
Командовать ими он поставил Геспия.
– Это была внушительная победа, – во всеуслышание объявил Ксенофонт. – И такими уязвимыми перед врагом мы больше не предстанем.
Он оглянулся к реке, берег которой был усеян телами, а затем посмотрел вперед, туда, где в отдалении мутновато проглядывали холмы. Земли Персии простирались, казалось, на полмира, но Ксенофонт дал себе зарок, что эллины из них непременно выйдут.
При разъяренном неприятеле, все еще роящемся на другом берегу, Ксенофонт отдал приказ квадрату двигаться вперед. Наполнить водой бурдюки не было возможности: персидские лучники, разъяренные и униженные тем, как их одурачили, были бы этому только рады. Так что греки пошагали с пересохшими глотками, на зато целые, по земле, на которой уже проклевывалась зеленая растительность. Путь занял весь день, а когда сзади наконец показались оставшиеся персидские всадники, их было чем отвадить: для этого у эллинов теперь имелись и кони, и дротики.
К тому времени как солнце снова начало снижаться, утренняя встревоженность во всех уже улеглась. Теперь самыми насущными проблемами были голод и жажда, хотя место под ночлег на эту ночь вроде бы предвиделось. Разведчики сообщили о брошенном городе, до которого к исходу дня можно было добраться. Его стены вырисовывались на протяжении нескольких часов. Дойдя до него, люди и кони пробрались через древний пролом в стене, по россыпи битого камня. Их встретил сухой горячий запах пыльных улиц, без малейших признаков жизни. Для такого огромного пространства тишина была несвойственной, хотя по стенам тут и там шныряли длиннохвостые ящерицы, срываясь на бегу от страха перед таким обилием двуногих, бесцеремонно нарушающих долго царившее здесь молчание. Все, кто мог, группами разбрелись по всему городу на охоту за чем угодно. Одна такая группа натолкнулась на леопарда, который сильно изодрал одного из охотников, прежде чем сам был пронзен копьем. Другие добывали голубей, а в городе все это время стоял стук камней: это продолжали упражняться пращники, исполненные решимости сделаться угрозой, какой пока только притворялись.
На площади посреди города взгляду Ксенофонта предстала огромная пирамида, около шестидесяти шагов в высоту. Входа в нее нигде не было, равно как и объяснения самому ее существованию. Один из сотников подал ему найденный в дорожной пыли кусок стекла, похожий на выпуклый закругленный глаз рыбы. Внутри некоторых зданий там обнаружились кости, а еще бронзовые доспехи какого-то неведомого воина. Видимо когда-то, в незапамятной древности, город постигло бедствие, равное по силе гневу богов.
Возле реки эллины захватили нескольких пленных – всего с десяток, но их можно было допросить. Одного Ксенофонт для острастки приказал умертвить, а остальных на протяжении вечера допрашивал. В это время его воины раздавали женщинам и детям лагеря скудную пищу. Костры разжигались из дерева, настолько старого и сухого, что оно вспыхивало от одной лишь искры огнива. Запах жарящегося мяса наполнил рты голодной слюной. Вина не было, но в подвалах обнаружились глиняные кувшины, в которых оно когда-то содержалось, а также колодец с чистой водой. Смесь одного и другого оказалась не лишена приятности, и, по крайней мере, напоминала о вкусе винограда.
Один из пленников утверждал, что город назывался Лариса, а другой спорил, что это был Нимруд, некогда столица мидян. Все это приходилось переводить тем, кто знал оба языка, что замедляло выяснение. Ксенофонт прохаживался по гребню городских стен, а пленные бубнили о несметных царских силах внизу. Стратег пообещал им жизнь в обмен на все, что им известно. На кону стояло выживание, поэтому Ксенофонту было все равно, казнить пленных или миловать. Он сказал им об этом невозмутимо и ясно. А те, видя на пыльных камнях мертвое тело товарища, в его слова уверовали и трещали без умолку.
Заслышав вверху тихий свист, он, подняв голову, увидел Геспия и его подопечную, которые по боковым ступеням поднялись на площадку выше уровня стены. Ксенофонт мысленно вздохнул, хотя и улыбнулся этой паре. Стоит ли даже упоминать, что быть вождем означает так мало времени наедине с собой; но иначе не получается. Взять Сократа: старик явно наслаждался обществом других, смотрясь на фоне толпы ярче и живее. Что до Ксенофонта, то ему обыденные разговоры были в тягость. Он предпочитал серьезность цели, свой ум и силу используя на то, чтобы по мере поступления решать ту или иную задачу. Мелькнула мысль, не услать ли эту пару подальше. Но в очередной раз красота женщины заставила его повременить с решением. За долгие века своего существования этот город был местом смерти и жуткой, призрачной тишины. Так отчего бы не оживить его присутствием этой красавицы с вьющейся на ветру гривой распущенных черных кудрей?
– Я сама просила об этой встрече, Ксенофонт, – прямо сказала Паллакис.
– Вот как? – вымолвил Ксенофонт, взглянув на Геспия. У этого юного афинянина вид был такой же влюбленный, как у щенка. Ксенофонт сам удивился непроизвольному уколу ревности, когда Паллакис тронула молодого человека за руку. Возможно, внешне он этого не выдал, однако было подозрение, что Паллакис, вероятно, мастерица в чтении мужских душ.
Ксенофонт вздохнул.
– Госпожа, мне нужно…
Он спохватился прежде, чем повлечь обиду, но вспомнил дисциплину, которую видел в спартанцах. Он должен вести за собою людей. Если это означает конец уединения, то быть посему.
– Госпожа, для чего я могу быть нужен?
– Просто для чувства сближенности, славный полководец, – ответила она, глядя на него большими пушистыми глазами. – Люди напуганы… А напуганные мужчины и женщины – плохие попутчики во всем. Я хотела поговорить о наших шансах.
Ксенофонт, усмехнувшись, повел головой.
– Я был бы плохим стратегом, если б сказал, что они невысоки, ведь так? Но и будущее я предсказывать не берусь, даже как самый скромный оракул.
Его улыбка исчезла, когда в ее глазах он увидел напряжение. Ксенофонт заговорил более серьезно:
– Воли к борьбе мне не занимать. Могу поклясться в том, что буду ответственным за каждого мужчину, женщину и ребенка, что оказались со мною в этом месте. Это мои сограждане, Паллакис. На чужом поле, вдали от дома их, обреченных на смерть или рабство, не бросил и спас Клеарх. Не брошу и я, пока дышу и покуда во мне бьется сердце. – Он подождал, пока она кивнет, принимая его клятву. – Этого же я буду спрашивать со всех, кто с нами: что они могут дать. И с себя в том числе. Кроме того…
Ксенофонт посмотрел вдаль и напрягся так ощутимо, что и Геспий, и Паллакис повернулись туда, куда он сейчас неотрывно глядел, прикрывая брови рукой.
Вдалеке виднелся отряд персидского войска. Похоже, что царь Артаксеркс притомился ждать их сдачи или полагаться на небольшой отряд лучников для расправы с ними. Огромное количество полков надвигалось на заброшенный город – словно пятно на земле, словно буря в пустыне.
– Сколько же их там? – с завороженным ужасом спросила Паллакис.
– Кто ж знает? Восемьдесят, девяносто тысяч? Но и это, должно быть, не все.
– А может, царь вообще вернулся в свои дворцы, – неуверенно рассудил Геспий. – Ведь он, в конце концов, выиграл битву. И отбыл к себе домой, на пиры да парады.
Ксенофонт, как ни странно, с этим смутным доводом согласился.
– А что. Было бы неплохо. Если так, то это нам на руку. – От мысли, что следом ударила ему в голову, он невольно поморщился. – Если только он не ведет еще одно такое же войско с другой стороны города. Прошу тебя, Геспий: сбегай, погляди.
Человек, который когда-то издевался над ним на афинском рынке, без единого пререкания помчался к лестнице и исчез из виду. Ксенофонт чуть заметно улыбнулся. Ничто не вылепливает человека так, как это делает война, к добру или к худу.
В это мгновение до него дошло, что он впервые остался наедине с любимой женщиной царевича. Она как будто разглядела, что его мысли повернулись к личному, – даже когда он смотрел на придвижение к городу вражеских полчищ.
– Мой господин женат? – спросила она.
Ксенофонт покраснел и закашлялся.
– Прошу прощения… Нет. Не женат. Свою жизнь я посвятил политике в поддержку Спарты. В Афинах это было не… не очень популярным делом. И все возможности в то время прошли как-то мимо меня.
Он снова прищурился на неприятеля, убеждая себя, что к городу до наступления темноты войско персов не приблизится.
– Я пытался… найти способ жить лучше; лучше провести те немногие годы, что отведены нам богами. С этой целью я посвятил себя учениям великих наставников и ремеслам, таким как верховая езда и управление имуществом. В течение четырех лет я ни много ни мало был учеником у самого Сократа.
– Это имя мне незнакомо, – сказала она, обескураживая его. – Но это исследование о том, как жить лучше, – отсутствие жены в него тоже входило?
Паллакис казалась искренне удивленной. Он покраснел еще больше и натужно прокашлялся в кулак.
– Да… То есть нет. Я об этом подумаю, госпожа.
Стряхнув с себя странное настроение, он заговорил более уверенно:
– А пока мы должны изготовиться либо двигаться дальше, либо защищать этот мертвый город.
Он взял ее за руку, и она позволила ему повести себя по ступеням наверх.
На его взгляд, Паллакис ответила лучезарной улыбкой, заинтригованная вблизи себя мужчиной куда более интересным, чем она ожидала.
Нужно держаться умело и тонко, поддерживая его очевидный к ней интерес; это позволит защититься самой, а также поднять свое положение. Она даже не ожидала, что ощутит такой трепет, когда он взял ее ладонь. Как необычно. Восхищение у Паллакис вызывали такие, как Кир или Клеарх. Казалось, что они не терпят никаких сомнений в собственных силах. Однако влюбляться ее заставляли все же те мужчины, которые живут борением. Себя Паллакис знала весьма хорошо и, спускаясь на городскую площадь, призвала свой внутренний голос быть начеку.
Нужно вести себя умело и тонко. Ей хотелось быть нужной, это правда. При этом она чувствовала, что Ксенофонт отчаянно одинок и действительно очень в ней нуждается. Эта мысль кружила голову.
Спать Ксенофонт расположился на городской стене. В голове шумело, а желудок стягивало голодными спазмами, но при общей скудости вокруг сетовать на голод было недостойно. Вечером по лагерю разошлось последнее из того, что было добыто охотниками. Ноздри ухватывали запах мяса, что жарилось на кострах из древней деревянной утвари, сухой, как завывающие вокруг города ветры пустыни. С места ночлега виднелись и персидские костры, россыпью мерцающих звездочек растянутые в бархатной ночи.
Чтобы унять голодное урчание желудка, Ксенофонт вжимал себе в живот кулак. Порции мяса раздавались прежде всего воинам, а затем детям, у которых сил держаться одной водой и воздухом от природы меньше. После этого другим, по логике, доставалось остальное, но это была уже лишь похлебка, хотя и делалось все возможное, чтобы наполнить ею как можно больше пустующих желудков.
В это время послышалось шарканье шагов по ступеням, над которыми колебался желтоватым огоньком светильник. Ксенофонт поднялся с подстилки, раздраженный тем, что его беспокоят даже в такие укромные часы. Со смутным разочарованием он узнал спартанца Хрисофа. В одной руке он нес дымящуюся миску, а в другой, вместе со светильником, узкогорлый кувшин.
– Ты ничего не ел, стратег, – сказал он негромко.
– А ты? – спросил Ксенофонт.
– Я спартанец, – с пожатием плеч ответил тот, как будто это все объясняло.
Ксенофонт, приподняв бровь, ждал, не спеша принимать ни кувшин, ни миску. Хрисоф нехотя вздохнул.
– Когда я был еще мальчишкой, мы никогда не ели досыта. Чувство сытости я помню, пожалуй, лишь дважды в жизни, и оба раза на царском пиру. Понятное дело, нас поощряли подворовывать хлеб, только у меня это как-то не получалось. Мне думается…
– Вас прямо-таки заставляли воровать? – слегка удивленно спросил Ксенофонт.
– Как я уже сказал, нас плохо кормили. И если нам удавалось обхитрить поваров и умыкнуть лишний кусок, это никогда не наказывалось. Иное дело, если ты на этом попадался – тогда тебя наказывали, но только за это, а не за то, что украл. У нас считается, что голод заставляет мальчика прытче соображать, а сытость, наоборот, делает его тугодумом. По всей видимости, так оно и есть.
– Но сейчас-то ты голоден?
– Пожалуй. Но мы противимся своей плоти. Плоть – это жир и нерасторопное мясо, норовящие подмять нас под себя. Своего рода медлительная лошадь, которая не понимает, почему она такая нерасторопная. Пойми меня правильно. Есть нужно, потому что завтра надо быть начеку. Хотя за определенной гранью голод – это жизнь.
– Нужно, но что-то не хочется. А впрочем, можно и поесть, но только если эту трапезу со мной разделишь ты. Это приказ, Хрисоф.
Спартанец посмотрел на миску, которую держал в руке, и облизнулся, наслаждаясь ароматом бобов и мяса в густой похлебке. По его приглашающему жесту Ксенофонт принял миску и кувшин, аккуратно их поставил и сел, скрестив ноги, собираясь приступить к трапезе.
Хрисоф из-за пазухи достал лепешку и разломил ее надвое, одну половину протянув Ксенофонту. Каждый стал зачерпывать ею густое хлёбово и медленно пережевывать, не выдавая спешки в стремлении насытиться. Ксенофонт намеренно сдерживал себя, не уступая спартанцу, хотя тело едва ли не криком взывало о пище.
– В этом месте мы оставаться не можем, – произнес в конце концов Ксенофонт. – Если они нас окружат, мы обречены. Будь добр передать это, когда спустишься вниз. На сборы час, от силы два. Нам нужно держаться впереди наших преследователей.
– Это будет нелегко, – подумав, рассудил Хрисоф. – У нас теперь и тяглового скота не осталось. Детей, если что, придется нести на руках.
– Пусть этот труд возьмут на себя мужчины и женщины, и несут каждого ребенка по очереди. Если мы из-за них замедлимся, сзади нас начнут выгрызать. Мы не сможем разом защищать людей и держать натиск персов.
– Ты уверен? – переспросил Хрисоф.
– Уверен, – ответил Ксенофонт. – Ты хотел, спартанец, чтобы я вас вел. Так что не сомневайся в моих приказах сейчас. Наша цель – покинуть земли царя Артаксеркса. И не нужно бросать ему вызов там, где он неоспоримо сильней. Все, что остается, это держаться впереди их войска.
– У них теперь есть конница, в большом количестве. А у нас, сколько… пара сотен лошадей? Вряд ли этого достаточно.
– Достаточно, чтобы прикрыть тыл, – сказал Ксенофонт. Он знал, что спартанец – опытный воин. И пускай не по душе все эти сомнения и подначки, но в них есть смысл; стоит лишь вспомнить, как Сократ в свое время десятки раз переспрашивал и уточнял, что такое любовь.
Хрисоф между тем начал загибать пальцы:
– Мы медлительны. У нас слишком мало пращников, поэтому мы уязвимы на расстоянии. Наша тактика основана на неуклонном отступлении…
– Так они, глядишь, осмелеют, – признал Ксенофонт. – Будут неотступно преследовать и кусать нас за пятки. Эх, чего бы я только не отдал за личную стражу царевича! Те шестьсот всадников могли бы охотиться и осаживать их целый месяц. А без них…
Он замолчал, созерцая огненные точки, мерцающие вдали.
– Даже такое полчище боится ночной атаки. Мы у них славны своими выпадами. – Хрисоф мрачно усмехнулся. – Они напрягаются, когда мы вблизи.
– Если это так, то каждый свой день мы будем начинать с форой, – сказал Ксенофонт. – А если они разобьют лагерь ближе, то надо будет рискнуть сделать вылазку и разогнать их лошадей.
– Духоподъемный шаг, – с ухмылкой отметил Хрисоф. Хотя вид у спартанца был мрачный, Ксенофонт уловил его настроение.
– Как ты думаешь, мы сумеем уйти?
Ответа не было так долго, что Ксенофонту подумалось, не задремал ли он.
– То, что думаю я, значения не имеет, – произнес спартанец в конце концов. – Мы движемся от места к месту, от реки к реке. Четыре ли, пять тысяч стадиев – расстояние не такое уж большое. Но на всей его протяженности они будут пытаться нас измотать и загрызть, как собаки преследуют оленя. Добьемся мы своего или умрем, это не меняет задачи и того, что мы должны делать для ее исполнения. Так что я отправлюсь с легким сердцем. Мои люди со мною рядом, а враги позади. Так что день будет славный.
К удивлению Ксенофонта, Хрисоф похлопал его по плечу, после чего встал и потянулся.
– Постарайся заснуть, стратег. Завтра спозаранку ты нам понадобишься.
– Я приду и вас разбужу, – сказал Ксенофонт, не столько видя, сколько чувствуя в темноте улыбку спартанца, который поступью направился к ступеням лестницы.
Спартанцы на площади, собираясь к походу, были все друг с другом знакомы. Они здоровались с друзьями и привычно обменивались фразами насчет предстоящего долгого дня и странного города вокруг них. Ночь выдалась достаточно теплой для ночевки под открытым небом, без риска провести ее с пауками и скорпионами в заброшенных строениях. Перед дорогой одни деловито мочились, другие хлебали из бурдюков, хотя жажда оставалась для всех острым вопросом. В мерклом небе по-прежнему белела луна, когда весь люд – каре войска снаружи, а неуемная сердцевина обозников внутри него – покинул город, зябко подрагивая от предутренней прохлады. Кое-кто оглядывался, боясь услышать жадный вой или услышать стук копыт мчащейся вражьей конницы, но ничто не нарушало дремливого безмолвия ночи.
К тому времени как солнце наконец взошло, они были уже в сотне стадиев от города и шли набранным темпом. Ксенофонт дал приказ Геспию обеспечить разведчиков как позади, так и впереди строя. Наличие лошадей снабдило их глазами и руками в сравнении с тем, как им прежде приходилось нащупывать путь чуть ли не вслепую. Между тем персов пока нигде не было, и голод заставил эллинов сделать остановку возле двух селений. Там, в загоне, на вытоптанной земле оказались козы, а в запасниках фисташки и миндаль, которые селяне готовили к продаже. Селяне безропотно смотрели, как забирают их добро, но зато не были убиты или угнаны в рабство. Насчет последнего Ксенофонту пришлось дать отдельный приказ: им едва хватало сил стеречь и кормить своих; не хватало еще обременять себя дополнительной обузой.
Конные разведчики принеслись к середине дня – время достаточное, чтобы заполнить каждую емкость водой и даже усадить самых маленьких детей на две запряженных мулами повозки, которые снова появились в распоряжении у лагеря. Под безутешными взглядами хозяев строй двинулся дальше.
Персидская конница стала видна ближе к вечеру. Выступивший на отдалении ряд всадников наблюдал за продвижением квадрата, а дюжие всадники с явной угрозой выставляли вверх мечи и топорики. Царя среди них видно не было, не было и его приближенных. Что отрадно, рядом не шли полки пехоты. В одиночку конница сломать строй не могла, будучи бессильна против копий. Закрадывалась даже надежда, что царь просто приказал своему воинству проводить незваных гостей с его земель.
В ту ночь им не давали спать всадники, разъезжавшие верхом недалеко от лагеря. Эллины нашли небольшую речушку и перешли ее вброд, встав на дальней стороне, но никакого шанса на отдых не было, когда в темноте раздавались гиканье и крики. Геспий рвался выехать навстречу и пустить кому-нибудь кровь, но Ксенофонт не разрешил. Нужно было беречь лошадей, которых и так немного. Сон был не так важен, как защита, пусть хотя бы временная.
Звезды свершали над лагерем свой вековечный оборот, когда остерегающе загудели рога. С бессвязными криками в лагерь влетели разведчики, вопя хватать оружие. Ксенофонт встал, чеша под мышкой, где застарелый пот превратился в сыпь.
Усталость накрыла его неожиданно глубоким сном, но зевок спросонья умер, не родясь, стоило ему поднять глаза. В сероватых предрассветных сумерках безмолвными рядами надвигалось темное море солдат, всего-то в нескольких сотнях шагов от того места, где он стоял. Они близились, наплывая вместе с последним вздохом тьмы. Едва свет зазолотился, как впереди этой темной массы стал виден Тиссаферн, блистая на своем белом коне.
Сердце неистово заколотилось. Перс в издевательском приветствии коснулся рукой нагрудника. Дружно взревев, вражеские ряды рванулись вперед.
26
Ксенофонт выругался, когда пот ожег рану – по щеке вскользь чиркнула стрела, но кровь все шла и шла. И всякий раз, когда он смахивал пот, задетый шрам снова вскрывался.
Тиссаферн бросил на греков все свое войско, пытаясь одним ударом положить погоне конец. Он действительно подобрался близко, почти вплотную. С первого же момента свирепость натиска была налицо: при броске персы наткнулись на женщину, бежавшую в этот момент по полю вслед за своей вопящей дочуркой, и в секунду мать с девочкой канули у них под ногами.
Еще не успевшее сомкнуться каре эллинов качнулось навстречу врагу, тем не менее оставив позади себя около сотни беззащитных людей. Персидская конница набросилась на них, словно волки на отбившихся от стада овец. Это были женщины, мужчины, дети – все, до кого можно дотянуться. Персы, которые чересчур увлеклись, оказались опрокинуты гоплитами, закрывавшими сейчас брешь в строю, однако для пойманных это было слабым утешением. Большинство из них оказалось тотчас перебито, а те, кто остался жив, умоляюще вопили, перекинутые поперек чепраков хохочущими персидскими всадниками.
Квадрат наконец сомкнулся, и эллины двинулись вперед, в ярости от застигшей их врасплох атаки. Ксенофонт чувствовал на себе гневные взгляды, а сам при этом хотел разделаться с Геспием за несвоевременное оповещение. Он подозвал его к себе. Вид у помощника был сейчас упрямым и мрачным – примерно таким, каким он помнил его на афинских улицах.
– Где ты был? – спросил Ксенофонт как мог невозмутимо, отчасти потому, что ответственность за случившееся лежала на нем, как бы к этому ни относился сам юноша. Нельзя было винить неопытного предводителя шайки за то, что тот не отследил всего должным образом.
– Я оставил разведчиков в часе от лагеря, – ответил Геспий, понурив голову. Судя по прерывистости голоса, он был близок к слезам, но недюжинным усилием воли взял себя в руки.
– Я отправился с ними, а потом… поехал обратно в лагерь. Прости.
Ксенофонт смотрел на Геспия. Этот юноша не умел ни читать, ни даже писать свое имя. Верховой езде он обучился за время похода на восток Персии. Если он и допустил ошибку, то вина в ней лежала на том, кто оставил его одного, без должного совета.
– Расскажи мне, что произошло, – велел Ксенофонт.
Геспий потупился, не в силах смотреть ему в глаза.
– Их, должно быть, подкарауливали конные с лучниками. – Он досадливым взмахом рассек воздух. – Несколько ребят сумели оторваться, но мы потеряли очень многих. Они налетели прямо-таки бурей. Я все еще мчался обратно к лагерю. А когда смог выкрикнуть тревогу, они уже висели почти у нас на плечах. Прости, Ксенофонт.
Он умолк, готовый к любой возможной каре.
– Мне не следовало оставлять тебя без более опытного наставника, – сказал Ксенофонт. – Так что это моя ошибка, понимаешь? И винить тебя за мой просчет нет смысла. – Он говорил с наигранной бодростью, как будто дело было уже забыто. – А назавтра в ночь тебе нужно будет расставить разведчиков парами, но всегда в пределах досягаемости друг от друга. Если одного всадника или пару срубят, остальные на всем скаку возвращаются в лагерь. И всегда быть друг у друга на виду, Геспий. Вот урок, который нужно извлечь из случившегося.
– Мне жаль, – сокрушенно повторил юноша.
Ксенофонт непонимающе посмотрел на него.
– Перестань казниться. Просто извлеки урок. В этой мелкой стычке они одержали верх, и это подняло им настроение. Но удача всегда переменчива! Как далеко мы уже продвинулись? Для нас единственно важное – оставаться впереди них.
Не успел он это сказать, как вновь тревожно закричали те, кто с тыла наблюдал за персами. Стон страха донесся из открытого центра квадрата – звук, которого от лагерников прежде не слышалось. Ксенофонт сжал челюсти, злясь на себя, но также и на врага, что никак не оставлял их в покое.
Проезжая обратно вдоль фланга своего воинства, он увидел скопление персидской конницы, скачущей легким галопом, будто на параде. Эллинов они миновали на расстоянии семисот или восьмисот шагов – недосягаемо для стрелы или копья. На скаку персы оборачивались, оглядываясь на врага; при этом они вырвались вперед идущего квадрата, используя преимущество своей подвижности.
В этот момент к Ксенофонту приблизился Хрисоф. Вид у него был бодрый, и дышал он не натруженно, несмотря на тяжелый кожаный панцирь с бронзовыми пластинами.
– Будут ли новые указания, стратег? – осведомился Хрисоф.
Ход мыслей спартанца постепенно становился ясней. В отличие от Клеарха, он был не так прямолинеен и действовал исподволь.
– Пока нет, – ответил Ксенофонт. – Какие у тебя мысли насчет тех всадников?
– Я думаю, они устроят впереди засаду, – предположил Хрисоф (для этого он, скорее всего, на фланг и пришел). – Подыщут место, где дорога сужается, возможно, в холмах. Навалят деревьев или накатят камней – все, что подвернется под руку, чтобы удержать нас в одном месте. А те, что сзади, одновременно нападут. Лично я поступил бы так.
– Обойти нас я им помешать не могу, – сказал Ксенофонт. – Как и рассеять тех, кто нас еще преследует. Если мы остановимся и предложим бой, они могут таким же ходом отступить. А если согласятся принять наш вызов, то лагерный люд сделается уязвимым. Такое вот двойственное у нас положение.
Сказав это, Ксенофонт моргнул, внезапно ощутив тоскливую безнадежность.
Но чувствуя на себе людские взгляды, он слегка качнул головой, отметая всяческие страхи. Командир должен выглядеть уверенно и твердо даже для таких опытных воинов, как Хрисоф. Нужно быть выше сомнений и слабости.
– И все же вступать с этими персами в бой нам нежелательно. Мы показали, что на поле они нам не чета. Мучить их дальше просто зазорно. Истинная наша цель – благополучно покинуть пределы их страны. Вот чего я хочу добиться, Хрисоф. Если они попробуют напасть на нас с возвышенности, то мы пройдем с поднятыми над головой щитами. Если атакуют пешим порядком, мы будем рубить их, пока они не выдохнутся. При необходимости придется сражаться, но победа для нас настанет, когда перед нами откроется Эвксинский понт[41]. Там, на севере, вдоль побережья, расположены эллинские города. И когда мы до них доберемся, то окажемся, считай, дома. А там уж до родины будет рукой подать.
Хрисоф на ходу склонил голову.
– Понятно, стратег: действовать сообразно обстоятельствам.
Он ухмыльнулся с мальчишеским озорством, и в этот миг Ксенофонт почувствовал, как и с него самого спадает чопорная личина полководца. Он высказал вслух все затруднения, что могут ждать впереди, и тогда стало понятно, что они не настолько уж и непреодолимы. Впервые за весь этот день Ксенофонт ощутил себя приободренно.
– Продолжать в том же духе, – кивнул он.
Они прошли сотню стадиев до реки, где через поток был перекинут деревянный мост. Ксенофонт отдал приказ держать обе его стороны до тех пор, пока не закончится набор воды. Спартанцы стояли со щитами и копьями, готовые отразить любое внезапное нападение, а лагерный люд тем временем наполнял каждый кувшин и бурдюк. Хотя пустыни были уже позади, жизнь в этих местах по-прежнему существовала от реки до реки.
Все это время в некотором отдалении на лошади сидел Тиссаферн, грозно растопорщившись посредине ряда бородатых персидских всадников, поедающих очами неприятеля с таким видом, будто они волки, а эллины не более чем олешки, пришедшие на водопой. Такая мысль вызывала у Ксенофонта улыбку. Его люди были воинами, которым нет равных, что было доказано при Кунаксе. И это горькое снадобье против персидской самоуверенности было, пожалуй, единственным, что сохраняло им жизнь.
Тиссаферн дал своим людям позволение приближаться и угрожать своим видом тем, кто ждал очереди перехода, но стычки и тем более затяжного боя не намечалось. Никто не осмеливался задирать красные плащи спартанцев, что сидели за разговорами или с ленцой поглядывали на неприятеля. Некоторые из греков купались и плескались на мелководье, с хохотом взбивая ворохи брызг. Другие пели или декламировали друг другу стихи, собравшись для этого небольшими кружками. Разумеется, они знали, что такие сцены приводят наблюдающего за ними врага в ярость, но Ксенофонт обнаружил, что и его собственное настроение улучшается от беззаботности его народа. Почему они должны в страхе опускать свой взор даже перед таким скопищем недругов? Спору нет, спартанцы надменно дерзили, но это была надменность заслуженная и выстраданная.
Даже без конницы персидские полки растягивались на всю местность – десятки тысяч людей. Тиссаферн будто почувствовал, что греки наполнили свои последние тыквы и меха: движение в персидских рядах оживилось; солдаты подстегивали себя пением и призывами, распаляя друг друга. Некоторые из них успели придвинуться на расстояние броска копья.
Ксенофонт тихо выругался при виде темных стрелок, чертящих в воздухе плавную дугу. Через сотников он отдал тихий приказ поскорей завершить переправу.
Персы возбуждались все сильней, и вот уже две группы без предупреждения побежали вперед. Первые резко остановились перед частоколом копий, понимая, что дальше не пройти. Чувствовалось, что спартанцы строя не нарушат, а потому персы просто топтались с разноголосым ревом, злобно тыча оружием в воздух.
На другом фланге из гущи персидских полков вырвалась пара всадников и лихо поскакала, пригибаясь к шеям коней; с их высоты они с огромной силой метнули дротики. Оба угодили меж щитов и сшибли с ног двоих, на что конники торжествующе взвыли, подняв руки к небу и взывая к своим товарищам, что сзади.
Один из коринфян выступил из строя и в три быстрых шага пустил длинное копье. Оно четко пронзило одного из всадников, сбив его с коня. Спустя мгновение он лежал навзничь без всяких признаков жизни и шума. Теперь смеялись и глумились уже греки, а остальные все это время пробирались по мосту. С каждым новым шагом персы придвигались все ближе, задние суматошно подталкивали передних. Ксенофонт взъехал на мост верхом вместе с последними рядами своих спартанцев, спиной к лучникам и воинам в панцирях, которые с рычанием заполоняли всю землю по ту сторону моста. До другого конца он добрался, когда переправа превратилась уже в лихорадочную спешку.
Персидские начальники потеряли всякую управу, которая у них была.
Их передние ряды ринулись на мост, потрясая мечами, в то время как последние эллины отступали назад, выставив перед собой щиты и копья.
На их долю приходились сотни неистовых ударов железных мечей, рубящих и режущих золотистую бронзу; не давая ответа, спартанцы отходили.
Ксенофонт высоко поднял кулак, глядя, как мост торопливо заполняется множеством персов. Вслед за резким взмахом ладони стратега весь пролет моста с треском рухнул, грянувшись в бурные воды. За те часы, что длилась переправа, первоначальные опоры были вырублены, а на их место вставлены одиночные бревна. По знаку Ксенофонта нескольких резких ударов оказалось достаточно, чтобы их выбить. Тогда мост рухнул под собственной тяжестью, увлекая с собою воинство, спешащее по нему в полном вооружении.
Ксенофонт отвернулся от панического ужаса, царящего на мосту, и посмотрел на Тиссаферна, который по-прежнему взирал с другого берега. Царский вельможа ответил тучей стрел, посланных по его гневному мановению. Оказывается, он втайне подослал лучников, но потерянный мост смазал эффект. Тем не менее стрелы взмыли в воздух, и все эллины спешно нырнули под щиты, на которые с хлестким стуком обрушился железный дождь.
Сам Ксенофонт сидел, расправив плечи, уповая на удачу, что до этого времени ему сопутствовала. Отправляться через мост среди первых Тиссаферн не рискнул – а зря. Так или иначе, судьба дня была решена. Теперь персам приходилось искать другой брод, растягиваясь вдоль реки.
Ксенофонт прищурился на покатые отроги холмов, что мутно проступали впереди. К северу земля становилась зеленее и не так враждебна к жизни. Заранее было понятно, что там ждет засада, но эту тревожную мысль можно было отложить на другой день.
– Радуйтесь! – перекрывая шум, крикнул он своим соплеменникам. – Все ближе тот час, когда мы наконец от них отделаемся!
Ксенофонт заставил себя улыбнуться, намеренно показывая уверенность, которой на самом деле не чувствовал. Было видно, что многие из обитателей лагеря прихрамывают и бредут кое-как. Сандалии у многих протерлись насквозь, а то и вовсе распались, так что людям приходилось обматывать стопы кусками ткани. Вода теперь – хвала Посейдону – была, но еды оставалось в обрез. Ксенофонт смотрел вперед, словно в поисках более радужных перспектив. Он не мог выдавать свою разочарованность и страх насчет того, что им всем в горах уготовил Тиссаферн.
В течение дня безостановочный путь пролегал по все более отрадному своей жизненностью пейзажу. Накормить двадцать тысяч голодных ртов было чем-то несбыточным, однако те, кто умел стрелять из лука и пращи, разошлись во все стороны попытать счастья и обратно возвращались с тем, что смогли добыть. Эти люди становились глазами и ушами греческого войска по мере того, как земля начинала переходить в предгорья. Ксенофонт научился не обращать внимания на голодное урчание в животе, как вдруг на его глазах охотники притащили целую дюжину оленей – часть небольшого стада, которое удалось залучить в лощину между холмами. Животные в основном вырвались своими диковиной высоты скачками, но часть удалось изловить и убить. Для кого-то это была первая за весь день пища, но она же означала и надежду.
С каждым часом перехода открывались все новые хребты и каньоны, через которые солнце отбрасывало длинные тени. Для поиска другого пути Ксенофонт выслал Геспия с остальными всадниками, однако всюду тропки упирались в отвесные склоны, и лишь один большой проход вел через горы. Нетрудно было догадаться, где будет устроена засада, но и избежать ее, получается, было нельзя. Идти предстояло на север.
Лагерь разбили в подобии сада с вековыми яблонями, что цеплялись за жизнь в неглубокой долине. Дорога тянулась впереди, окутанная сумраком. До первого света продолжать по ней путь никому не хотелось. Обитатели лагеря обламывали со старых деревьев сучья и собирали сухостой, который можно было найти. Драгоценную оленину охотники передали женщинам, которые знали, как разделать мясо и приготовить отдельно все внутренности. Десятки других искали на окрестных холмах свежую зелень и травы, которые так или иначе годились в пищу. К тому же при приготовлении можно было рассчитывать снять пробу. К съестному охотники присовокупили также фазана, нескольких куропаток и тощего старого козла, который вслепую убегал до тех пор, пока его не свалил наземь какой-то мальчишка. Их нужда насытиться была поважней, чем у бывших козлиных хозяев, хотя на шее у него все еще болтался недоуздок. Животное разделали спартанским кописом и положили жарить поверх костра на круглом щите, вокруг которого толпились дети, голодными глазами глядя, как шипят и сочно брызжутся куски мяса.
Вина не было, но зато вода была чиста и холодна, так что настроение в лагере посветлело. Ксенофонт поговорил с командирами о предстоящем дне, но не зная, какой именно способ нападения будет избран, они могли лишь строить догадки. В каком-то смысле это было заделом хорошего настроения Ксенофонта, когда он укладывался спать, глядя на звезды. Он проникался верой в смекалистость своего народа.
Они не любят торопиться, это правда. И у них есть пагубная склонность спорить во время кризиса – но когда решение принято, они действуют с умом и уверенностью. Впору ими гордиться.
То, что он спал, Ксенофонт понял лишь тогда, когда, вздрогнув, проснулся от прикосновения. Открыв глаза, на земле возле себя он увидел Паллакис, завернутую в свое одеяло. Он сел в темноте, чувствуя, как вокруг доверчиво спят тысячи людей, вверивших ему свою жизнь.
– Госпоже нужен еще один защитник? – спросил он спросонья. – Неужели Геспий не справляется?
Слышно было, как она поворачивается к нему в темноте, так близко, что на лице чувствовалось ее дыхание.
– Жизнь не исчерпывается одной безопасностью, – быстрым шепотом произнесла она.
– Верно. Я понимаю, госпожа была наложницей царевича Кира, – заметил он. Чувствовалось, как она в темноте чутко напряглась. – А затем по меньшей мере раз я ее видел в обществе Клеарха. Теперь она здесь, возле меня, хотя я дал Геспию задание за ней присматривать.
– Дал, а затем его же и услал, – сказала она с внезапной неуверенностью.
Ксенофонт тайком поморщился, чувствуя неловкость момента.
– Потому что он мой конюший, Паллакис. Он командует разведчиками, и я отсылаю его почти каждую ночь… Постой. Тебе не угрожали?
Она резко села и, встав на колени, начала скатывать одеяло.
– Нет. Геспий среди мужчин пользуется уважением. Они знают, что я под его защитой. Я думала… Прошу прощения.
Ксенофонт почувствовал, как лицо у него вспыхнуло, но заговорил прежде, чем она успела исчезнуть в ночи:
– Оставайся здесь, по крайней мере, сейчас. До рассвета уже недолго.
Темная фигура рядом с ним замерла, неотрывно глядя на него.
Затем она снова пристроилась рядом. Он лежал довольно долго, в настороженном бодрствовании.
Пробудившись утром, женщину рядом с собой Ксенофонт не застал. Мелькнула растерянная мысль, не являлась ли она ему во сне. Впрочем, мысль о ней он тут же оставил, когда появился Геспий с его конем, уже напоенным и с проверенной упряжью. Все лошади у них выглядели исхудалыми, хотя теперь в горах они могли, по крайней мере, щипать траву, которой раньше нигде не было. В отличие от людей долго обходиться без нормальной кормежки кони не могут, что одинаково беспокоило и Геспия, и Ксенофонта. Без конных разведчиков им сейчас было просто не выжить.
Передавая начальнику поводья и помогая сесть на коня, Геспий казался угрюмым. Он подал пояс с мечом, застегивая который, Ксенофонт мельком подумал, не обмолвиться ли ему о нынешнем ночном визите. Эту женщину он Геспию не обещал, да оно было и не в его власти. При этом он видел, что молодой человек в нее влюблен, и не хватало еще из-за нее каких-то размолвок с подчиненным. Поэтому Ксенофонт предпочел промолчать. От Паллакис надо будет держаться подальше, и глядишь, все эти недомолвки рассосутся сами собой.
Персы обозначились непосредственно перед тем, как лагерь начал сниматься с места. Тиссаферна можно было по-своему поблагодарить: своим появлением он подгонял излишне нерасторопных лагерников становиться в походный порядок. Предпочтительный квадрат в квадрате выстроить было нельзя: для каре из двадцати тысяч проход в горах был слишком узок. И Ксенофонт, несмотря на тяжелые сомнения, дал согласие Хрисофу на колонну. Спартанец вел себя так, словно он неоспоримый заместитель стратега, и никто этого, в сущности, не оспаривал. Прочие выбранные военачальники как будто довольствовались командованием своими отрядами и главное руководство поверяли ему. Интересно, сколько еще ошибок придется совершить, прежде чем такое положение изменится.
Спартанцы настояли на том, чтобы через скалы идти во главе колонны. Ксенофонт приказал всему строю держать щиты наготове на случай, если перевал уже занят персами. На коне он ехал в мучительных переживаниях, что что-то может пойти не так, что он упустил что-то жизненно важное. Люди равнялись на него, а он чувствовал всю тяжесть своей ответственности, которая лишь усугублялась полнотой вверенной ему власти, до этого даже неведомой. Те его незначительные полномочия в Афинах не шли ни в какое сравнение с ведением войска через горы.
Сзади наседали персы, тут же заполняя оставляемое греками пространство.
Этим утром тыл защищали стимфальцы вместе с пращниками и той частью конных, которая за счет своего размещения могла наиболее эффективно сдерживать натиск неприятеля. Шеи у этих людей ныли от постоянного оглядывания, но иначе было никак нельзя.






