Живущий в ночи Кунц Дин
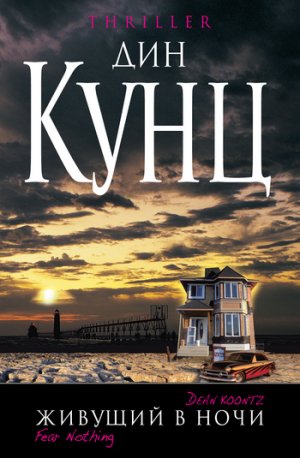
Бросив взгляд в сторону входной двери, я увидел просунутую в щель морду Орсона. Он наблюдал за мной с неподдельным интересом, задрав правое ухо.
За второй дверью располагалась длинная, узкая и почти пустая комната. Вдоль стен тянулись водопроводные и отопительные трубы, с потолка на цепях свешивались лампы. Хотя горело лишь несколько из них, я тем не менее не стал снимать очки.
Вытянутое помещение изгибалось в форме буквы Г, и вторая его часть – более длинная и широкая – уходила вправо под прямым углом. Освещение здесь было таким же скудным.
Эта часть комнаты, видимо, использовалась в качестве склада, поскольку, двигаясь в направлении голосов, я видел выстроившиеся вдоль стен коробки со всевозможными припасами, украшениями, предназначавшимися для проведения праздников, а также тяжелые ящики, где хранились церковные записи. Тени по углам напоминали согбенные фигуры монахов в длинных власяницах. Я снял очки.
По мере моего продвижения вперед голоса становились все громче, и я уже был в состоянии различать отдельные слова. По голосу Пинна чувствовалось, что он крайне зол. Хотя он и не кричал, в тоне его звучала неприкрытая угроза. Собеседник его, наоборот, говорил с примирительными интонациями, словно пытаясь успокоить взломщика из похоронного бюро.
Почти половину комнаты занимала модель яслей, в которых родился сын божий. Фигуры в человеческий рост изображали не только Иосифа, Деву Марию и младенца Иисуса, лежавшего в колыбели. Когда по праздникам эту конструкцию собирали, она полностью отображала сцену рождения Христа в том виде, в котором она традиционно изображается. Поэтому тут были и волхвы, и верблюды, и ослы, и овцы, и ангелы, возвещающие о появлении на свет сына божьего. Сами ясли были сколочены из досок, и в них лежали охапки настоящей соломы. Фигуры людей и животных были сделаны из гипса, державшегося на каркасе из мелкой проволочной сетки и деревянных реек. Лица и одежда были выписаны одаренным, по всей видимости, художником и покрыты слоем защитного лака, который поблескивал даже в теперешнем полумраке. По ярким краскам и ряду других деталей можно было предположить, что модель недавно подновляли. Видимо, скоро ее накроют тряпичным чехлом, и она останется здесь дожидаться следующего Рождества.
Выхватывая из разговора отдельные слова, я пробирался между фигурами, некоторые из которых были гораздо выше меня. Сейчас они стояли как попало, а не как положено. Один из волхвов уткнулся лицом в жерло трубы в поднятой руке ангела, а Иосиф, похоже, был погружен в глубокомысленную беседу с верблюдом. Всеми позабытый маленький Иисус тосковал в скособочившейся колыбели, одна половина которой опиралась на охапку соломы. Мария сидела с блаженной улыбкой на устах и благоговением во взоре, однако и то, и другое было адресовано не святому младенцу, а оцинкованному ведру. Еще один волхв сосредоточенно рассматривал верблюжью задницу.
Я пробрался через это обескураживающее сборище и притаился за фигурой ангела, играющего на лютне. Оставаясь в тени, я выглянул из-за наполовину распростертого гипсового крыла и метрах в пяти от себя увидел Джесси Пинна. Он свирепо отчитывал другого мужчину, стоявшего у подножия лестницы, которая вела наверх, в основные церковные помещения.
– Тебя же предупреждали, – заговорил Пинн, возвышая голос почти до визга. – Сколько раз прикажешь повторять тебе одно и то же?
Поначалу я, как ни пытался, не мог разглядеть, с кем разговаривает Пинн, поскольку он загораживал от меня спиной того, к кому обращался. Собеседник Джесси Пинна что-то ответил, но говорил он тихо, ровным голосом, и я не мог разобрать его слов.
Лицо взломщика исказилось гримасой отвращения. Он стал возбужденно мерить комнату шагами, со злостью ероша свои и без того всклокоченные волосы. Только тогда я увидел, что его собеседником был преподобный отец Том Элиот, настоятель церкви Святой Бернадетты.
– Ты болван! Ты глупый кусок дерьма! – бесился Пинн. – Жалкий лепетун! Богомольный дегенерат!
Отец Том был маленьким пухлым человечком с подвижным выразительным лицом прирожденного комического артиста. Хотя я не посещал ни эту, ни какую-либо другую церковь, несколько раз мне все же приходилось беседовать с отцом Томом, и он показался мне очень добрым человеком, способным посмеяться над самим собой, и с почти детской тягой к жизни. Поэтому я не находил ничего странного в том, что прихожане Святой Бернадетты обожали своего пастыря.
По всему было видно, что Пинн не разделял эти чувства. Он поднял свою руку скелета и направил костлявый палец в лицо священника.
– Меня тошнит от тебя, лицемерный сукин сын.
Отец Том предпочел оставить этот шквал оскорблений без ответа.
Расхаживая взад-вперед, Пинн рубил воздух острым ребром ладони. Казалось, он тщетно сражается за то, чтобы слепить из своих слов некое подобие правды, которая была бы доступна пониманию священника.
– Мы больше не желаем выслушивать твои бредни и не намерены терпеть твое вмешательство. Я не буду грозить тебе тем, что вышибу у тебя все зубы, хотя, видит бог, это доставило бы мне огромное удовольствие. Я никогда не любил танцевать, но с радостью сплясал бы на твоей глупой роже. Однако все, довольно угроз. Я не собираюсь больше запугивать тебя, как прежде. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я не стану даже грозить тебе тем, что натравлю их на тебя. Хотя тебе это, пожалуй, пришлось бы по вкусу. Как же, преподобный Элиот – мученик, страдающий во имя господа! Тебе ведь только того и надо, правильно? Стать мучеником, принять страдание, подохнуть ужасной смертью, не жалуясь и не ропща.
Отец Том стоял с безвольно опущенными руками, склонив голову и опустив глаза. Могло показаться, что он покорно ждет, когда минует эта буря. Однако подобное смирение лишь еще больше разжигало злобу, которой кипел Пинн. Стиснув правую руку в острый кулак, он изо всех сил треснул им по ладони левой, словно испытывал потребность услышать удар плоти о плоть. Затем он снова заговорил, но теперь в его голосе звучала не только ярость, но и презрение:
– Однажды ты вдруг проснешься, а они будут кишеть на тебе. А может, они застанут тебя на колокольне или у алтаря, когда ты преклоняешь колени на молельную скамеечку. И ты отдашься им в отвратительном экстазе – упиваясь болью, принимая муку во имя своего бога. Ведь ты это именно так представляешь? Думаешь, что страдаешь за своего мертвого бога и эти страдания обеспечивают тебе прямую дорожку на небеса! Эх ты, тупой ублюдок! Безнадежный идиот! Ты ведь, чего доброго, еще и молиться за них станешь. Будешь благословлять их, когда они начнут рвать тебя на куски. Будешь или нет? Отвечай, поп!
Ответом был опущенный долу взгляд священника и его терпеливая покорность. Мне стоило огромных усилий не выдать своего присутствия. У меня были вопросы, которые я хотел задать Пинну. Масса вопросов. Однако здесь не было печи крематория, куда я мог бы засунуть голову этого мерзавца и, крепко удерживая его, потребовать ответа на них.
Пинн перестал метаться по комнате и навис над отцом Томом.
– Нет, я не стану больше грозить тебе, святоша. Не вижу смысла. Это лишь приводит тебя в благоговейный трепет при мысли о возможности стать мучеником во имя своего господа. Мы поступим иначе: если ты, сволочь, не уберешься с нашего пути, мы просто пустим в расход твою сестру – милейшую Лору.
Священник поднял голову и посмотрел в глаза Пинну, но так и не произнес ни слова.
– Я лично пристрелю ее, – пообещал Пинн, – вот из этого пистолета.
С этими словами он сунул руку за отворот пальто и вытащил пистолет. Видимо, младший по рангу могильщик тоже, подобно своему хозяину, носил наплечную кобуру. Даже издалека и в сумраке я увидел, что ствол пистолета был необычно длинным. Моя рука непроизвольно скользнула в карман куртки и легла на рукоятку «глока».
– Отпустите ее, – попросил священник.
– Мы не отпустим ее никогда. Слишком… слишком интересный экземпляр. Кстати, – сообщил Пинн, – перед тем как застрелить Лору, я ее изнасилую. Она все еще не утратила привлекательности, хотя день ото дня становится все более странной.
Лора Элиот, с которой когда-то дружила и работала моя мать, была действительно очень симпатичной. Я не видел ее уже целый год, но прекрасно помнил, как выглядела эта женщина. Поскольку ее должность в Эшдоне сократили, она, насколько нам было известно, подыскала себе работу в Сан-Диего. После гибели мамы мы с отцом получили от Лоры письмо с соболезнованиями и были очень разочарованы тем, что она не сочла нужным приехать и лично проститься со своей подругой. Теперь я понял, что все это было «легендой». Лора, по всей видимости, до сих пор находилась где-то поблизости, насильно удерживаемая в неволе.
Преподобный Том обрел наконец-таки голос и проговорил:
– Да простит вас Господь.
– Я не нуждаюсь в его прощении! – рявкнул Пинн. – Прежде чем нажать на курок, я затолкаю ствол в рот Лоры и сообщу, что ее братец обещал ей скорую встречу – в аду. А затем вышибу ее куриные мозги.
– Помоги мне, Господи!
– Что ты сказал, поп? – издевательским тоном переспросил Пинн.
Отец Том не ответил.
– Ты сказал «помоги мне, Господи»? «Помоги мне, Господи»? Вряд ли он тебе поможет. Тем более что ты больше не принадлежишь к его стаду, верно?
Эти странные слова заставили преподобного Тома отшатнуться. Он прижался спиной к стене и закрыл лицо руками. Плакал ли он? Возможно. Точно сказать не могу.
– Представь себе симпатичное лицо своей сестрички, – прошипел Пинн. – Теперь представь: выстрел, и ее кости крошатся, разъезжаются, а потом верхняя часть черепа разлетается в разные стороны кровавыми ошметками.
Он задрал пистолет вверх и выстрелил в потолок. Оказалось, что ствол оружия был таким длинным из-за навинченного на него глушителя. Поэтому вместо оглушительного грохота в подземелье раздался лишь тихий хлопок, будто кто-то ударил ладонью по подушке.
В то же мгновение, громко клацнув, пуля ударила в прямоугольный металлический плафон, висевший на четырех цепях прямо над головой похоронщика. Флуоресцентная лампа, однако, не разбилась, а лишь заметалась на длинных цепях, к которым была подвешена. Ледяное лезвие света летало по комнате, как яркое лезвие косы, выписывая широкие круги на полу подземелья.
Пинн не двигался, но его долговязая тень, напоминавшая, как и ее хозяин, пугало, присоединилась к дикому танцу, который в ритмичном качании лампы исполняли другие тени, летавшие по комнате, словно черные дрозды.
Звенья пляшущих и подпрыгивающих цепей терлись друг о друга и звякали. Так могли бы звенеть в маленькие колокольчики мальчики-служки с глазами ящериц и в пропитанных кровью хитонах, прислуживая на дьявольской мессе.
Пинн засунул пистолет в кобуру. Сатанинская музыка и пляшущие тени, похоже, привели его в возбуждение. Он вдруг издал нечеловеческий вопль – дикий вопль безумца, похожий на ноту из кошачьего концерта. Такие порой будят вас по ночам и заставляют гадать, глотка какого существа способна издавать подобные звуки. После того как с губ могильщика вместе с брызгами слюны сорвался этот чудовищный вопль, он вдруг нанес обоими кулаками два удара в живот отцу Тому.
Торопливо выйдя из-за играющего на лютне ангела, я попытался вытащить из кармана «глок», но он зацепился за подкладку и никак не хотел вылезать.
От боли священник сложился пополам, а Пинн сплел кисти рук и со страшной силой ударил отца Тома по шее чуть ниже затылка. Священник рухнул на пол, а мне наконец удалось извлечь из кармана оружие.
Не успокоившись на этом, Пинн ударил священника ногой по ребрам. Я включил луч лазерного прицела. Между острыми лопатками могильщика возникла смертоносная красная точка, и я уже был готов крикнуть: «Довольно!», но в этот момент долговязый подонок отступил от поверженного священника.
Я так и не открыл рта, а Пинн, обращаясь к распростертому на полу отцу Тому, проговорил:
– Если ты не помощник, то значит – помеха, и если не способен стать частью будущего, то – прочь с дороги!
Эта фраза прозвучала заключительным аккордом. Я выключил лазерный прицел и снова спрятался за ангела с лютней. Это оказалось весьма своевременным, поскольку в тот же самый момент могильщик отвернулся от отца Тома. Меня он не заметил.
Под сатанинское дребезжание цепей Джесси Пинн пошел обратно тем же путем, каким явился сюда, и казалось, что звенящие, скрежещущие звуки исходят из него, а не сверху, будто внутри этого угловатого долговязого тела копошилась металлическая саранча. Тень Пинна совершила несколько прыжков впереди него, а затем, когда он прошел под качавшейся лампой, оказалась сзади, сливаясь с другими тенями, и под конец, переломившись пополам, исчезла за прямоугольным изгибом комнаты.
Я сунул «глок» обратно в карман.
По-прежнему скрываясь за бестолково стоявшими гипсовыми фигурами, я теперь наблюдал за отцом Томом. Он лежал у подножия лестницы, скрученный страшной болью, скорчившись наподобие зародыша в материнской утробе.
Я раздумывал, не подойти ли к священнику, чтобы посмотреть, насколько серьезны нанесенные ему повреждения, и заодно попытаться выяснить, что означала сцена, свидетелем которой я стал. Однако, поразмыслив, я решил не обнаруживать своего присутствия и остался там, где стоял.
По логике вещей, враг Джесси Пинна должен быть моим другом, но я не считал возможным в одночасье довериться святому отцу. Пусть могильщик и священник были противниками, но они оба являлись участниками некоей загадочной, сложной и к тому же преступной игры, о которой я не имел ни малейшего представления вплоть до сегодняшнего вечера, а значит, имели гораздо больше общего друг с другом, нежели со мной. Поэтому я бы не удивился, если бы при виде меня отец Том стал бы вопить и звать на подмогу ушедшего Джесси Пинна и тот немедленно прибежал бы обратно – с развевающимися полами черного пальто и нечеловеческим воплем, летящим из раззявленного рта.
Кроме того, было очевидным, что Пинн и его сообщники держат в заложницах сестру священника. Наложив на нее лапу, они получили и рычаг, и точку опоры для того, чтобы вертеть преподобным, как им вздумается. Я же не имел возможности влиять на него.
Леденящая кровь мелодия звенящих цепей постепенно сходила на нет, а круги, которые выписывало на полу лезвие белого света, становились все уже.
Без причитаний, не издав даже слабого стона, священник поднялся на ноги, а затем заставил себя встать в полный рост. От боли он был не в состоянии держаться прямо. Согнувшись наподобие обезьяны, утратив любое сходство с актером-комиком и цепляясь правой рукой за поручень лестницы, пастор с видимым трудом стал подниматься по скрипучим ступеням, ведущим в церковь.
Добравшись до верха, он непременно выключит свет, и тогда здесь наступит такая кромешная темнота, в которой не сумеет сориентироваться сама святая Бернадетта – чудесная провидица из Лурда. Пора уходить.
Перед тем как двинуться в обратный путь, вновь пробираясь между высокими – с меня, а то и выше ростом – гипсовыми фигурами, я посмотрел в глаза ангелу с лютней, за которым прятался все это время, и увидел, что они – синего цвета, совсем как мои. Тогда я внимательно всмотрелся в его гипсовое, покрытое лаком лицо. Несмотря на сумрак, сомнений быть не могло: мы с ним были похожи как две капли воды.
Я был парализован этим сверхъестественным сходством. Как могло случиться, что в пыльном церковном подвале меня поджидал ангел с лицом Кристофера Сноу? Я нечасто видел себя при свете, но в мозгу у меня накрепко отпечаталось мое отражение в зеркалах моей сумеречной комнаты, а здесь царил такой же полумрак. Это был я – вне всяких сомнений. Облагороженный, приукрашенный, но – я.
После того, что я увидел в гараже, и всех последующих событий каждая мелочь казалась мне наполненной каким-то тайным смыслом. Я уже не мог тешить себя надеждами на случайность совпадений. Куда бы ни упал мой взгляд, отовсюду вытекал медленный, вязкий поток чего-то жуткого и сверхъестественного.
Это, без сомнения, был прямой путь к помешательству: рассматривать все происходящее вокруг тебя в качестве составляющих элементов заговора, во главе которого стоит таинственная группа неких избранных, видящих и знающих все. Здравомыслящий человек понимает, что в большинстве своем люди не способны участвовать в широкомасштабном заговоре, поскольку неотъемлемыми качествами человеческого характера являются невнимательность к мелочам, склонность к безотчетной панике, а также неспособность держать рот на замке. Оперируя глобальными понятиями, можно сказать, что мы едва способны завязать собственные шнурки. Если в устройстве Вселенной действительно существует какой-то секрет, то он лежит за пределами нашего понимания. Мы не можем не только разгадать, в чем он заключается, но даже охватить его разумом.
Священник преодолел уже треть пути наверх.
Ошеломленный, я продолжал вглядываться в лицо ангела.
Сколько раз по ночам – до, во время и после Рождества – я проезжал на велосипеде мимо церкви Святой Бернадетты. Обычно модель рождественской идиллии была установлена прямо перед ее фасадом: каждая фигура – на своем месте, никто из волхвов не изображает из себя верблюжьего проктолога, но… Этого ангела среди знакомых мне фигур никогда не было. Или я его просто не замечал? Впрочем, разгадка ребуса была, скорее всего, гораздо проще: каждый раз, когда я видел эту рождественскую композицию, она была ярко освещена, и я не мог пристально вглядываться в нее. Наверняка в ней и раньше присутствовал ангел с лицом Кристофера Сноу, но каждый раз, проезжая мимо, я отворачивал голову в сторону да к тому же щурился.
Священник уже добрался до середины лестницы и продолжал карабкаться все быстрее.
Тут я вспомнил, что Анджела Ферриман регулярно посещала службы в церкви Святой Бернадетты. Учитывая то, с каким талантом она делала свои куклы, можно было с уверенностью предположить, что ее привлекли и к изготовлению фигур для рождественских декораций.
Вот и разгадка.
И все же я, как ни силился, не мог понять, почему она наделила ангела моими чертами. Если я и заслуживал чести присутствовать в этом скульптурном ансамбле, то только в качестве одного из ослов. Мнение Анджелы обо мне было явно завышено.
Помимо воли образ Анджелы навязчиво возник перед моим внутренним взором. Той Анджелы, какой я видел ее в последний раз – на кафельном полу ванной комнаты, с мертвым взглядом, устремленным дальше созвездия Андромеды, разорванным горлом и головой, откинутой на край унитаза.
Неожиданно для самого себя я понял, что упустил какую-то очень важную деталь, когда смотрел на ее несчастное изувеченное тело. Испытывая отвращение при виде крови, скованный горем, я пребывал в состоянии шока и, перепугавшись до смерти, был не в силах долго смотреть на нее. Точно так же на протяжении многих лет я избегал смотреть на ярко освещенную рождественскую композицию, предпочитая отворачиваться в сторону от залитых светом фигур перед фасадом церкви.
Я почувствовал, что ключ к разгадке – почти у меня в руках, но пока не мог определить, в чем он заключается. Подсознание откровенно глумилось надо мной.
Добравшись до верха, отец Том стал всхлипывать, а затем опустился на верхнюю ступеньку лестницы и зарыдал.
Я безуспешно пытался восстановить в памяти лицо мертвой Анджелы. Ну, ничего, позже еще будет время мысленно вернуться в тот театр ужасов и, набравшись мужества, переступить через себя и вспомнить все до единой детали.
От ангела – к волхву, от волхва – к Иосифу, от Иосифа – к ослу, от осла – к Святой Деве, от нее – к овце, затем – ко второй… Я бесшумно крался от одной фигуры к другой, затем прошмыгнул мимо ящиков с церковной писаниной, документами, коробок с припасами и оказался в более короткой и пустой секции подвала, а затем двинулся к двери в котельную.
Рыдания священника, отражаясь от бетонных сводов, становились все тише и напоминали стенания некоего потустороннего существа, еле слышно доносящиеся из-за холодной стены между двумя мирами.
Я вспомнил мучительные страдания отца в ту ночь, когда мы сидели в покойницкой больницы Милосердия. В ту ночь, когда умерла мама.
Сам не знаю почему, но я всегда пытаюсь удержать свое горе в себе, и, если чувствую, что внутри меня начинает подниматься безысходный вопль отчаяния, я вцепляюсь в него зубами и грызу до тех пор, пока он не обессилеет и не умрет. Иногда во сне я сжимаю зубы с такой силой, что после пробуждения мои челюсти невыносимо болят. Наверное, таким образом я даже во сне пытаюсь удержать внутри себя то, что не выпускаю наружу во время бодрствования.
На протяжении всего пути к выходу из подвала мне постоянно казалось, что на меня вот-вот набросится могильщик – бледный, как воск, и с глазами, похожими на кровавые пузыри. Возможно, он кинется на меня с потолка, или вырастет из темноты под моими ногами, или, подобно злобному чертику из коробочки, выскочит из газовой печи котельной. Однако страхи мои оказались напрасны.
Когда я очутился снаружи, из-за надгробий, за которыми он, видимо, спрятался от Пинна, появился Орсон и подбежал ко мне. Судя по поведению собаки, могильщик уже ушел.
Пес смотрел на меня с неподдельным любопытством, а может, мне это только показалось, но я все же сообщил ему:
– Откровенно говоря, не понимаю, что произошло там, внизу. Что-то необъяснимое.
На морде Орсона отразилось недоверие. Эта мина удавалась ему лучше других: бесстрастная лохматая физиономия, немигающий взгляд.
– Честно! – заверил я его и пошел к велосипеду. Орсон шлепал лапами сбоку от меня. Мраморный ангел по-прежнему бдительно охранял мое транспортное средство. Хорошо хоть этот не был похож на меня.
Капризный ветер снова улегся, и дубы стояли неподвижно.
Филигрань плывущих по небу облаков была серебряной в серебряном свете луны.
С церковного дымохода сорвалась стайка стрижей и, стремительно спикировав вниз, расселась по ветвям деревьев. Прилетела и парочка соловьев. Птицы как будто специально дожидались, пока с кладбища уйдет Пинн, словно одно его присутствие оскверняло это место.
Держа велосипед за руль, я катил его между рядами надгробий.
– «…И тьма, сгустившись вокруг них, могилой обратилась», – процитировал я. – Луиза Глюк. Великий поэт.
Орсон одобрительно фыркнул.
– Я не знаю, что происходит, но уверен в одном: прежде чем все это закончится, умрет еще очень много людей, и среди них, возможно, будут те, кого мы любим. А может быть, даже я. Или ты.
Орсон окинул меня взглядом, полным молчаливого негодования.
Я посмотрел на улицы моего родного города, начинавшиеся за пределами кладбища, и внезапно они показались мне гораздо более пугающими, нежели любой погост.
– Пора выпить пива. Поехали, – сказал я псу, взобравшись на велосипед. Орсон напоследок исполнил собачий танец на кладбищенской траве, и мы двинулись вперед, оставив царство мертвых позади. По крайней мере на время.
Часть третья
Полночь
18
Коттедж на берегу океана – самое подходящее жилище для такого фанатика серфинга, каким является Бобби. Он расположен на южной оконечности залива, вдалеке от прочих строений – уединенное жилище отшельника, на милю вокруг которого нет ни одного другого дома.
Если смотреть из города, огни в окнах коттеджа Бобби Хэллоуэя отстоят так далеко от остальных жилищ, расположенных вдоль берега, что туристы порой принимают их за огоньки яхты, стоящей на якоре в заливе. Для постоянных обитателей Мунлайт-Бей коттедж Бобби – межевой знак, определяющий границу города.
Этот дом был построен сорок пять лет назад, когда еще не существовало никаких ограничений на прибрежное строительство, а соседями он не обзавелся потому, что в те времена было еще сколько угодно дешевых участков в тех местах на побережье, где ветер дул не так безжалостно и погода была гораздо мягче, чем на оконечности мыса, на которой уже были проложены дороги и существовала городская инфраструктура, необходимая для нормальной и комфортной жизни. А к тому времени, когда земли на берегу не осталось и дома начали карабкаться по склонам холмов, комиссия штата Калифорния, в ведении которой находится побережье, выпустила циркуляр, запрещавший любое строительство на оконечностях залива.
Для старика, которому принадлежал тогда дом, было сделано исключение, поскольку коттедж уже стоял. Он хотел дожить здесь до самой смерти, слушая шум разбивающихся о берег волн. Это удалось ему в полной мере.
На мысе не существует мощеных или гравийных дорог. Здесь есть лишь широкая каменистая тропа, петляющая между невысокими песчаными дюнами, неподвластными ветру благодаря высокой, хотя и редкой прибрежной траве.
Оба мыса, огибающие залив, образовались естественным образом и представляют собой остатки подножия взорвавшегося в древности вулкана. Сам же залив является бывшим вулканическим кратером, который на протяжении многих тысячелетий заносило песком. В своем начале мыс имеет ширину метров в сто пятьдесят, однако у оконечности сужается до тридцати.
Преодолев три четверти пути к дому Бобби на велосипеде, я под конец спешился и повел своего железного спутника за руль. Ветер нанес на тропу неглубокие полосы песка. Для полноприводного джипа Бобби они не являются препятствием, но преодолевать их, крутя педали, было делом не из легких.
Обычно путешествие по этой дороге навевало на меня покой и тягу к размышлениям, однако нынче ночью пустынный мыс выглядел таким же чужеродным, как горные кряжи на поверхности Луны.
Одноэтажный коттедж был сложен из тисовых бревен, его кровля покрыта кедровой дранкой. Поседевшее от непогоды дерево принимало лунный свет с такой же готовностью, как женщина принимает прикосновения любимого. С трех сторон дом окружен широкой открытой верандой, на которой расставлены кресла-качалки и подвешенные на цепях диванчики.
Здесь нет деревьев. Вокруг – только песок да жидкая прибрежная трава. И все же вид отсюда открывается чудесный: небо, море, мерцающие огни Мунлайт-Бей. Когда смотришь на них, то кажется, что они расположены не в миле отсюда, а гораздо дальше.
Мне требовалось немного времени, чтобы привести в порядок нервы, поэтому я прислонил велосипед к перилам крыльца и пошел вдоль дома, направляясь к конечной точке мыса. Дойдя до края обрыва, в десяти метрах ниже которого плескались океанские волны, мы с Орсоном немного постояли.
Прибой был таким слабым, что волны едва можно было различить. Они лениво накатывались на берег. Прилив почти не ощущался, хотя луна была во второй четверти.
Сейчас ветер дул с моря, но мне больше по душе береговой бриз, который срывает пену с гребней валов, делая их выше и заставляя скручиваться, прежде чем обрушиться вниз.
Бобби занимался серфингом с девяти лет, я же присоединился к нему, когда мне исполнилось одиннадцать. Лунными ночами серферов в заливе сколько угодно. Когда луны нет, желающих покататься на волнах гораздо меньше, нам же с Бобби больше всего нравилось делать это в шторм, когда на небе не видно даже звезд.
Мы были одержимы серфингом. Мы лезли в воду с раздражавшим всех упорством при любой возможности, благодаря чему к четырнадцати годам добились заметных успехов на этом поприще. К тому времени, когда Бобби закончил школу, а я перешел к новому этапу своего домашнего обучения, мы были уже вполне сформировавшимися, зрелыми серферами. Сейчас Бобби является не просто серфером-виртуозом. Он – настоящий оракул в этой области, и люди со всего мира обращаются к нему для того, чтобы узнать, где в ближайшее время следует ожидать наиболее высоких волн.
Господи, как я люблю ночной океан! В это время суток его воды являют собой темноту чистейшей пробы, и ни в одном другом месте мира я не чувствую себя в большей степени дома, нежели на гребнях этих черных валов. Единственное свечение в эти минуты исходит лишь от скоплений фосфоресцирующего планктона, которое становится еще ярче, если его потревожить. Этот свет, делающий волны зеленоватыми, неопасен для моих глаз. В ночном море вообще нет ничего такого, от чего мне надо было бы прятаться или отворачиваться.
Вернувшись к коттеджу, я увидел Бобби, стоявшего на пороге распахнутой входной двери. Как следствие нашей многолетней дружбы, все выключатели в доме Бобби, так же как в моем, были оснащены реостатами, и теперь свет был притушен до яркости обычной свечи.
Понятия не имею, каким образом Бобби узнал о нашем приходе. Приближаясь к дому, мы с Орсоном не произвели ни звука. Но каким-то невероятным образом он всегда чувствует мое появление.
Он был босой, но не в шортах или плавках, а в джинсах. Как всегда, в гавайской рубахе навыпуск – других он не признавал, – Бобби сделал лишь одну уступку погоде, надев под рубашку с короткими рукавами легкий белый свитер с остроконечным вырезом на груди. Рубашка была расписана яркими попугаями и пальмами.
Я поднялся на крыльцо, и Бобби приветствовал меня шакой – жестом, принятым у серферов. Прижмите три средних пальца к ладони, оттопырьте большой и мизинец, а затем лениво помашите рукой – вот вам и шака. Она может означать все, что угодно: привет, как поживаешь, расслабься, классная волна и так далее.
Шака – исключительно доброжелательный жест. Он не может обидеть никого, если только вы адресуете его серферу. Разумеется, не стоит махать растопыренными пальцами перед носом у члена какой-нибудь бандитской группировки из Лос-Анджелеса, если, конечно, вы не хотите, чтобы он вас пристрелил.
Мне не терпелось поведать Бобби обо всем, что приключилось со мной после захода солнца, но мой друг предпочитает неспешный подход ко всему на свете. Не всегда, конечно, иначе его давно не было бы в живых, но в большинстве случаев, за исключением тех моментов, когда он катится на гребне волны, Бобби больше всего ценит спокойствие и неторопливость. Для того чтобы быть другом Бобби Хэллоуэя, надо прежде привыкнуть к стилю его жизни и понять: ни одно из событий, происходящих дальше чем в полумиле от берега, не заслуживает беспокойства, и нет в мире ни одной причины, достаточно веской для того, чтобы нацепить на шею галстук. Бобби предпочитает неспешную беседу легкой болтовне, уклончивость – прямолинейным утверждениям.
– Угостишь пивом? – спросил я.
– «Корона»? «Хайникен»? «Лавенбрау»?
– «Корону».
Идя через гостиную, Бобби поинтересовался:
– А этот, с хвостом, будет что-нибудь пить?
– Ему – «Хайникен».
– Светлое или темное?
– Темное, – ответил я.
– Сегодня у песика будет крутая вечеринка.
Коттедж состоял из большой гостиной, кабинета, откуда Бобби следил за волнами по всему земному шару, спальни, кухни и ванной. Стены здесь – из пропитанных олифой тиковых бревен, окна – большие, полы – идеально чистые, мебель – максимально удобная.
Из украшений тут – всего лишь восемь удивительных акварелей, принадлежащих кисти Пиа Клик – женщине, которую Бобби любит до сих пор, хотя она покинула его и уехала в Уэймеа-Бей, что на северном берегу острова Оахе. Бобби намеревался поехать с ней, но Пиа сказала, что хочет побыть одна в Уэймеа, который является ее духовным домом. Царившие там гармония и красота, по словам Пиа, вселяли в нее покой, а он, в свою очередь, необходим ей, чтобы решить, стоит ли жить в согласии с судьбой. Лично я не понимаю, что это означает. Бобби – тоже. Пиа сказала, что уезжает на месяц или на два. Это случилось три года назад.
Пиа рассказывала, что во время приливов залив Уэймеа становится чрезвычайно глубоким, а волны там огромные, как стены дома. Они высокие, зеленые, словно нефрит, и светятся. Иногда я мечтаю пройтись как-нибудь по тому далекому берегу и послушать, как грохочут эти валы.
Раз в месяц Бобби звонит Пиа или она звонит ему и они разговаривают – иногда по нескольку минут, иногда часами. У нее нет другого мужчины, и она тоже любит Бобби. Пиа – одна из самых добрых, мягких и умных людей из всех, кого я встречал. Я не знаю, почему она так поступает. Не знает и Бобби. Дни сменяются днями. Бобби ждет.
На кухне он достал из холодильника бутылку «Короны» и сунул мне. Отвинтив крышку, я сделал глоток, но вкуса не почувствовал.
Для Орсона Бобби открыл бутылку «Хайникена».
– Всю или половину?
– Нынче все позволено, – ответил я. Несмотря на жуткие события сегодняшней ночи, на меня все равно действовала неизменно веселая атмосфера Боббиленда.
Мой друг опорожнил бутылку в железную эмалированную миску на полу, которую держал специально для Орсона. На миске он вывел прописными буквами слово «РОЗАНЧИК» – так назывались детские санки в фильме Орсона Уэллса «Гражданин Кейн».
Мне вовсе не хочется, чтобы мой хвостатый приятель превратился в алкоголика, поэтому он получает пиво далеко не каждый день и лишь время от времени делит со мной бутылочку. Тем не менее это доставляет ему удовольствие, зачем же лишать псину того, что ей нравится? Учитывая его солидный вес, он вряд ли свалится с катушек после одной бутылочки пива, но, если ему дать вторую, Орсон вполне способен наглядно проиллюстрировать, что означает выражение «нализаться, как собака».
Пес принялся шумно лакать пиво, а Бобби откупорил для себя бутылочку «Короны» и прислонился спиной к холодильнику.
Я облокотился на шкафчик возле кухонной мойки. Здесь были и стол, и стулья, но, оказываясь на кухне у Бобби, мы с ним всегда предпочитали оставаться на ногах.
Мы во многом похожи: почти одного роста, одинаково весим и сложены. И хотя волосы у Бобби иссиня-черные, нас нередко принимают за братьев.
На ногах у нас имеется целый набор шишек, без которых не обходится ни один серфер. И сейчас, облокачиваясь на холодильник, Бобби поглаживал ступней босой ноги шишки на верхней части другой. Эти известковые отложения появляются из-за того, что ноги серфера находятся в постоянном напряжении и изо всех сил прижаты к доске. Пытаясь удержать равновесие, он переносит вес своего тела то на пальцы, то на пятки. Такие же шишки у нас на коленях, а у Бобби в придачу еще и на нижних ребрах.
Я, конечно, не такой загорелый, как Бобби. Он-то просто бронзовый. Молодой загорелый бог пляжа. Причем загар не сходит с его кожи круглый год, а летом моего друга вообще можно сравнить с хорошо поджаренным тостом. Он танцует мамбо с меланомой, и, возможно, когда-нибудь нас убьет одно и то же солнце, которое он боготворит, а я отвергаю.
– Сегодня была классная волна: трехметровка и отличной формы.
– Сейчас, похоже, улеглось.
– Да. Начало успокаиваться примерно на закате.
Мы потягивали свое пиво, Орсон, счастливый до предела, лакал свое.
– Значит, твой папа умер, – констатировал Бобби.
Я кивнул. Должно быть, Саша уже успела ему позвонить.
– Хорошо, – сказал он.
– Да.
Бобби вовсе не жестокий или бесчувственный человек. Под этим «хорошо» подразумевалось, что мой отец наконец-то отмучился.
Разговаривая друг с другом, мы с Бобби умели сказать многое с помощью немногих слов. Видимо, люди принимали нас за братьев не только потому, что мы схожи ростом и сложением.
– Ты все же сумел оказаться в больнице вовремя. Это классно.
– Ага.
Бобби не стал спрашивать, каково мне там пришлось. Он знал.
– А после больницы ты, стало быть, загримировался под негра, чтобы спеть парочку блюзов?
Я прикоснулся черным от сажи пальцем к такому же грязному лицу.
– Кто-то убил Анджелу Ферриман и поджег ее дом, чтобы замести следы. Я сам чуть не повстречался на небесах с великим Окаула-Лоа.
– И кто же этот «кто-то»?
– Хотел бы я знать. Те же люди похитили тело папы.
Бобби отхлебнул пива и ничего не сказал.
– Они убили какого-то бродягу и кремировали его вместо папы. Может, ты не хочешь слушать про все это?
Некоторое время Бобби молчал, мысленно взвешивая, предпочесть ли мудрость незнания или уступить зову любопытства.
– В конце концов, я смогу все забыть, если сочту это наиболее разумным выбором.
Орсон громоподобно рыгнул. Сказывалось выпитое им пиво. Он тут же завилял хвостом и посмотрел на нас извиняющимся взглядом, но Бобби был неумолим:
– Больше не получишь, мохнатая харя.
– Я голодный, – сказал я.
– И грязный. Прими душ и надень что-нибудь из моих шмоток, а я пока сварганю неизъяснимо отвратительные такос.
– Я рассчитывал помыться в океане.
– Слишком холодно. Настоящий колотун.
– Градусов двадцать пять.
– Я говорю про воду. Уж ты мне поверь, колотунный фактор весьма ощутим. Лучше полезай в душ.
– Орсону тоже нужно помыться и переодеться.
– Возьми его с собой в душ. Полотенец – навалом.
– Какой ты добрый! – восхитился я.
– Ага, я стал до такой степени праведником, что уже не катаюсь по волнам, а просто хожу по ним.
После нескольких минут пребывания в Боббиленде я стал расслабляться и уже испытывал потребность поудобнее, словно в кресле, расположиться в этом мире, пусть даже Анджела была права и он катился к своей гибели. Бобби для меня не просто любимый друг. Он мой транквилизатор.
Внезапно он оттолкнулся от холодильника и наклонил голову набок, прислушиваясь.
– Что там? – спросил я.
– Не что, а кто.
Лично я не слышал ничего, кроме звуков ветра, да и те с каждой минутой становились все тише. Поскольку окна были закрыты, до моего слуха не доносился даже шум моря, но я заметил, что Орсон тоже насторожился.
Бобби направился к выходу из кухни, желая выяснить, кому вздумалось нанести нам визит в столь поздний час.
– Эй, брат! – окликнул я его, протягивая «глок».
Он скептически посмотрел на пистолет, а затем перевел взгляд на меня.
– Остаешься в резерве.
– Помнишь, я сказал тебе о бродяге? Они вырезали у него глаза.
– Зачем?
Я пожал плечами:
– Потому что они на это способны.
Несколько секунд Бобби обдумывал мои слова, а затем вытащил из кармана джинсов ключ и отомкнул стенной шкафчик, где обычно хранились швабры. Насколько я помню, эта дверь никогда не запиралась на замок. Из узкого пространства Бобби извлек укороченное помповое ружье с пистолетной рукояткой.
– Это что-то новенькое, – заметил я.
– Противонегодяйский репеллент, – пояснил мой друг.
Нет, и в Боббиленде что-то изменилось.
Мы с Орсоном проследовали за Бобби через гостиную и вышли на крыльцо. Ветер с океана нес с собой запах водорослей.
Фасад коттеджа выходил на север. Сейчас в заливе не было ни единого судна – по крайней мере по черной поверхности воды не скользил ни один огонек. К востоку от нас – вдоль береговой линии и выше, по холмам, – мигали светлячки городских огней. Коттедж окружали лишь невысокие песчаные дюны да стебли травы, подмороженные лунным светом. И ничего больше. И никого.
Орсон подошел к лестнице крыльца и остановился на верхней ступеньке – напряженный, голова поднята и вытянута вперед. Он настороженно нюхал воздух, видимо, чуя нечто более интересное, нежели запах водорослей.
Бобби, наверное, обладал каким-то шестым чувством. Ему даже не понадобилось смотреть на собаку, чтобы укрепиться в своих подозрениях.
– Оставайся здесь. Если кого увидишь, растолкуй ему, что он не может уехать, пока мы не проверим его талон на парковку.
Как был, босиком, Бобби сошел с крыльца и двинулся к оконечности мыса, через каждые пять шагов оборачиваясь и оглядывая пространство, отделявшее его от крыльца. Держа ружье наготове обеими руками, он проводил эту рекогносцировку с методичностью профессионального военного.






