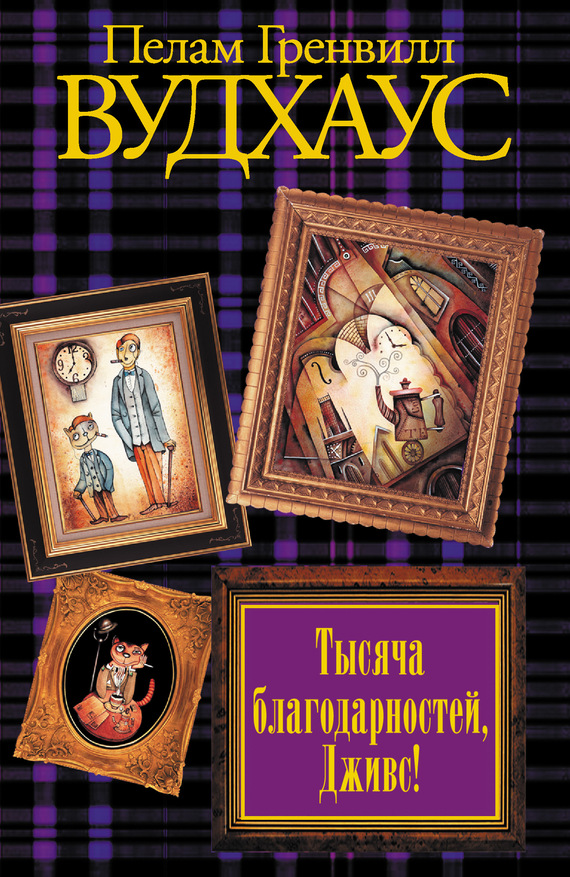Вавилонская башня Семенова Мария
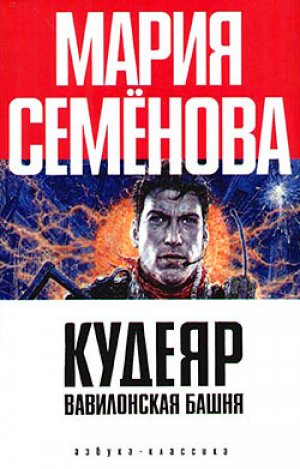
А вот и знакомая дверь. Некрашеная, с цифрой пятьдесят восемь. Как всегда – незапертая.
– Юрочка пришёл, хороший, – послышался голос Натахи, когда Юркан ещё только шагнул в прихожую. – Я здесь, Юрочка, здесь. На кухне я.
В квартире было холодно, пахло неуютом и дымом. Неудивительно: Натаха сидела у ведра с лениво догоравшими головешками. Взгляд снулый, отрешённый, неживой… голова седая. Что в этот раз пустила на дрова – шкаф, шифоньер, пенал? Или уже до паркета добралась? «Во что девку превратили, суки…»
– Что, никак бензин закончился? – Юркан со вздохом посмотрел на новоявленную «буржуйку», щёлкнул по канистре, зашуршал пакетом. – Вот… керосинку заправишь. Только соли всыпать не забудь, а то полыхнёт. – Он вытащил полукопчёную колбасину, пару банок тушёнки, сыр, буханку хлеба. – Ты сегодня хоть ела чего, мать? – В голосе Юркана звучали боль, сострадание и стыдливая неловкость. – Ты уж прости, больше ничего не привёз. Никак…
– Ой, Юрочка, спасибо, – по-детски обрадовалась Натаха. Прижала к груди кирпичик хлеба, погладила его, точно котёнка. – Шершавый какой. Как кора у березки…
Чувствовалось, что вопрос питания её не волновал совершенно.
– Ты давай поешь, поешь… – Юркан вытащил нож, отрезал хлеба, сыра, соорудил бутерброд и сунул Натахе. – Вот.
В горле у него разбухал, рос липкий противный ком. Может, и хорошо, что Серёга не дожил… не увидел…
– Юрочка, у тебя с машинкой что-то, да? – Натаха повертела бутерброд, погладила, понюхала, но есть не стала, забыла. – Что, плохо ездит, да? А ты возьми Сереженькину, зелёненькую. На ящерку похожую. Глазастенькую.
Это про Серегин-то стовосьмидесятый «Мерс»? Перламутрово-изумрудного колера?
– Ну что ты, Натаха, он денег стоит. – Юркан опять вздохнул, вспомнил, как ходили втроём – он, Натаха да Сергей, – заколачивать вот эти самые деньги. – Лучше давай его продадим. Съедешь отсюда куда-нибудь… А то ведь тоска, пустыня, даже поговорить не с кем.
– Как это поговорить не с кем? – обиделась Натаха, вспомнила про бутерброд, положила его на канистру. – Мы с НИМ частенько беседуем. Конечно, всё больше ОН говорит, заумно так, бывает даже, я не всё понимаю. А меня ОН не слышит, я для НЕГО так, комарик, бабочка, мотылёк-однодневка… В общем, ты бы взял машинку эту зелёную, а, Юрочка? Пока ещё машинки ездят. А то скоро все пути-дорожки будут в ямках. Глубоких-преглубоких… Не пройти, не проехать. Только улететь. Далеко-далеко…
Юркан понял, что больше здесь делать было нечего. Он попрощался с Натахой, сказал, что заглянет на той неделе, да и потопал себе назад. В смысле, к оставленной на Московском машине. Честно говоря – почти побежал. Слишком уж мало весёлого было в здешних краях, и в особенности под вечер. Из-за бетонных плит, что огораживали институт, раздавалось какое-то бульканье, скрежет, металлическое скрипение… Словно в фантастическом фильме про подлодку, забравшуюся слишком глубоко…
Откровенной рысью выдвинулся Юркан к проспекту, расковал никем не украденную «копейку», откатил на руках из зоны бедствия, завёл. Хотел было покалымить ещё, но одумался. Плевать, всех денег не заработаешь. Поехал домой. Сварил пельменей, с полчасика посмотрел какую-то телевизионную муру, пришёл в окончательную тоску и лег спать. Снились ему светофоры, светофоры, светофоры…
В светлом будущем
– Извини, брат, дела задержали. – Витька Бородин выглянул из окна джипа и доброжелательно кивнул Юркану. – Седай. Поехали на моём.
«Небось быстрей будет, – мысленно кивнул Юркан. – Да и не рассыплется по дороге…»
Скоро за окнами потянулись теплицы фирмы «Лето», которые, как гласили упорные слухи, собирались вот-вот пустить под бульдозер ради строительства очередного посёлочка элитных коттеджей. Покуда Юркан философски размышлял о расплодившейся элите и откуда она деньги берёт, шустрый джип домчался до пересечения с Волхонским шоссе. Скрипнув колёсами, ушёл направо и скоро встал – приехали. Южное.
Юркану доводилось промышлять не только по чердакам с Натахой и Серым. Бывало, смотрел он на мир и с той стороны прилавка, и с той стороны раздачи в буфете. Но, бывая на Южном кладбище (а кто из питерцев здесь не бывал?), вот уж никогда не думал Юркан, что однажды и здешнюю жизнь увидит с изнанки…
Не зря, ох не зря говорят умные люди: «Хочешь насмешить Господа Бога – расскажи Ему о своих планах!»
Юркан невольно вспомнил это мудрое изречение и поймал себя на том, что как-то по-новому смотрит на здания административного комплекса, на голубые ёлки, на новенькую часовню и на довольно бесталанный, зато издалека видимый монумент, олицетворяющий скорбь. Статуя эта всегда казалась Юркану духовной сестрой пресловутых «девушек с вёслами» и несчётных гипсовых Ильичей. Ну, спрашивается, чего ради посреди кладбища ставить абсолютно инкубаторскую фигуру печально замершей женщины? Чтобы народ проникался и не вздумал здесь танцевать? Наверное, примерно из таких же соображений на картонных папках с ботиночными тесёмками раньше непременно печатали аршинными буквами: ПАПКА ДЛЯ БУМАГ. Опасались, наверное, что без пояснительной надписи кто-нибудь возьмёт да решит, будто это авоська для колбасы…
Между тем Витька без особых предисловий подвёл Юркана к рифлёному морскому контейнеру, приспособленному под гараж. Здесь уже толпился разномастный, но чем-то неуловимо похожий по своим повадкам народ. Командовал парадом приземистый красномордый крепыш со взглядом, как отточенный штопор. Юркан обратил внимание, что при появлении Бородина все замолчали.
– Здравствуйте, Виктор Андреевич, – почтительно поздоровался краснорожий. И заверил: – Сейчас начнём.
– Вот, Санёк, я тебе человека привёл. Свой в доску, – отрекомендовал Витька Юркана. – Смотри не обижай, чтобы работой был охвачен.
Сплюнул, закурил сигарету и, не глядя ни на кого, пошёл прочь. Величественный, как римский триумфатор, и элегантный, как Марлон Брандо.
– Значит, в доску? Ну и хорошо, если не в гробовую, – мрачно пошутил Сан Саныч и тоже посмотрел на Юркана, не то оценивающе, не то равнодушно. – Из бомжей?
– Да нет, из хорошей семьи, – ответил Юркан. – Алиментщик.
– А, – понимающе кивнул Сан Саныч. – Всё зло от баб. – Вытащил из недр контейнера лопату, покачал её в руке и осчастливил Юркана. – Держи.
И послали Юркана на пару с тощим, словно лихорадкой иссушённым «негром» по прозвищу Дюбель рыть утреннюю «яму», то бишь могилу. Каркали вороны, припекало солнышко, лопата, чмокая, нехотя вонзалась в глинистый грунт… Вначале вкалывали молча, однако, скоро убедившись, что Юркан не сачок и не «шланг», Дюбель подобрел, разговорился и стал учить основам мастерства.
– Ты, едрёна мать, штыком-то не тычь, а кромсай. Покосее её, лопату, покосее, и ногой наступай, ногой. Оно конечно, грунт здесь хреновый, глина. Болотина опять-то, сырота…
Потом Юркан опять рыл, подсыпал щебёнку и гравий, грузил неподъёмные камни. Впрочем, трудовой процесс был здесь организован грамотно, все работали споро и даже с огоньком. Почему так – Юркан понял позже, уже под вечер, когда в негнущиеся пальцы ему вложили хрустящие бумажки. По его разумению – до хрена. Столько за день в жизни не набомбить!
Однако деньги даром не даются. Вечером, когда ехали в стонущем «Икарусе» до Московской, Юркан заснул, словно провалился в омут. Разбуженный Дюбелем, чудом залез в «копейку» и долго смотрел на ключ зажигания, начисто забыв, как с ним поступать. До дому дорулил, что называется, «на автомате». Вяло поклевал жратвы и снова залёг, вернее, рухнул на диван – уже до утра. А когда проснулся, сразу вспомнил бурлаков, гребцов на галерах и колодников в рудниках. Всё тело ломило, мышцы наотрез отказывались слушаться, на руках взбухли кровью не замеченные вчера болезненные пузыри… В целом чувство было такое, будто ночью черти от-мудохали его своими хвостами.
«Это тебе не по чердакам пыль с места на место гонять, – цинично усмехнулся внутренний голос. – Ничего! Поскрипишь, поскрипишь, втянешься. Если кишка не тонка…»
Кишка оказалась не тонка. Через две недели Юркан думать забыл о ноющих костях, о кровавых мозолях, о жалости к себе. Знай махал отточенной лопатой, резал грунт по всей науке, преподанной Дюбелем…
Тяжёлая физическая работа и мысли навевала соответствующие – всё больше конкретные и земные. Для праздного философствования как-то не оставалось ни времени, ни энергии. Копай, копай, копай!.. И при этом помни, куда попал, не забывай, что человек смертен. Все ходят под Богом. И не только под Тем, Который на небесах, но и под местным, вполне земным. Директор Южного кладбища был самодержцем, повелителем и властелином, он разъезжал на немыслимо шикарной машине, он имел деньги и связи, его, как утверждали слухи, даже сильные мира сего за глаза величали по имени-отчеству…
Архангелом же земного Бога состоял Виктор Бородин. Его Величество Землекоп.
В ведении Бородина состояли контейнеры, тракторы, надгробные камни, щебень и песок. Собственно, ему принадлежала даже лопата, которой орудовал Юркан. Однако «негры» своего архангела видели редко. Ими распоряжался краснорожий Сан Саныч. Ушлый, недоверчивый, прижимистый и злой. За тяжелый характер и увесистый кулак называли его с ненавистью, уважением и опаской Кувалдой.
– Устроил «неграм» день Африки, – с обычной усмешкой рассказывал Дюбель. Юркану всё ещё требовалось определённое умственное усилие для перевода его терминологии на привычный язык. – Навёл порядок, закрутил гайки – теперь бомжи с Говниловки и со свалки на пушечный выстрел к нам не подходят!
– А что такое Говниловка? – наивно переспросил Юркан, ибо ни один близлежащий населённый пункт подобного прозвища вроде бы не носил.
Дело происходило тёплым вечером, после «Арарата» и шашлыка, зажаренного на углях. Дюбель, душевно размягчённый отдыхом и сытной едой, рассказал следующее.
Говниловка, она же Бомжестан, она же Гадюшник, возникла сразу после основания кладбища, то есть в самом начале семидесятых. Первым, кто понял всю благодать и всю выгоду от близкого соседства с гигантской Южной свалкой и не менее гигантским Южным кладбищем, был некий бомж по кличке Клёвый. В лесном массиве Клёвый с несколькими товарищами вырыли землянку – и зажили там в своё удовольствие. Свалка в изобилии снабжала их едой, куревом и одеждой, кладбище – водочкой и вином. Потихоньку слух о клёвом житье Клёвого достиг Ленинграда. К Южняку потянулись новые поселенцы. Они тоже вырыли землянки, осмотрелись – и кайфовали, пока наступившая зима не выгнала их с насиженных мест на тёплые городские чердаки и в люки теплоцентралей. С тех пор прошло немало лет. Говниловка разрослась, превратившись в настоящее поселение. Только официального статуса и не хватало. Южное кладбище являлось для этого поселения тем, что официально называется «городообразующим предприятием». Бомжи находили здесь даже работу, с их точки зрения очень и очень приличную. Они служили «неграми», пускай и у самых неавторитетных, неуважаемых землекопов. А те, кто не желал честно трудиться, «промышлял могилами». То бишь подобно птицам Божиим клевал всё, что оставляли на могилах безутешные родственники, – конфеты, печенье, хлеб… И, естественно, водку из гранёных стаканчиков и пластмассовых стопочек, предназначенных для усопших. Находились и такие, кто, обладая артистическими способностями и храня приличие внешнего вида, пристраивался к похоронным процессиям, выдавал себя, например, за школьного друга покойного и после погребения вместе со всеми отправлялся в город на поминки – пожрать на халяву. А повезёт, так и прихватить из квартиры что-нибудь ценное на память о «друге»… Местные легенды красочно повествовали о жутких расправах, время от времени учинявшихся над изобличёнными виртуозами жанра.
Ещё бомжестановцы ходят по грибы, воруют овощи с совхозных огородов и продают дары природы на перекрёстке Волхонского и Пулковского шоссе. А вот чужаков они не жалуют. Так что на экскурсию в Говниловку лучше не ходить.
А еще Дюбель рассказывал о свалке, чьи гигантские терриконы возвышались по ту сторону Волхонки. У подножия терриконов копошились аборигены, грязные, оборванные, презираемые даже среди бомжей. Мусорное эльдорадо давало им всё: еду, одежду, курево и жильё. Они не брезговали даже чайками с вороньём – добывали птиц с помощью самодельных луков и пращей.
– Что с них возьмёшь, – говорил Дюбель. – Свалочники.
Юркан слушал его, согласно и презрительно кивая головой, но потом вдруг спохватывался: а я-то сам до чего нынче дошёл? Я-то сам, а?.. «Нет, – трезво возражал внутренний голос. – Ты здесь из-за временных трудностей и ни в коем случае не навсегда. Ты сейчас сядешь в собственную машину и поедешь в собственную квартиру. И будешь за своего среди людей, даже не подозревающих о существовании свалочников. И, если тебе вздумается зайти в богатый магазин с зеркальными витринами и дорогими товарами, тебя оттуда не выкинут. А свалочники чуть не на иловых картах живут, и воняет от них соответственно…»
Расположенные поблизости иловые карты действительно жутко воняли. Причём на километры кругом. Поскольку ил, который на этих картах вылёживался, был вовсе не то, что образуется на дне лесных озёр и чистых речушек. Это был чёрный, как чернила, липкий, как нефть, и невыносимо смердевший осадок, остававшийся после очищения городских стоков. Его складировали на означенных картах якобы для обеззараживания, а на самом деле просто потому, что никто не мог придумать, что же с ним делать. Зараза, соответственно, никуда не девалась, а, наоборот, убивала и уродовала всё, с чем соприкасалась. Реки, ручейки, зелень, произраставшую по берегам… И дальше всё прочее, входившее в пищевую цепочку. Что ни год, обширный бомжестанский фольклор обогащался сюжетами, достойными «Пикника на обочине». Только у питерских филологов всё не находилось времени изучить этот фольклор. Филологи предпочитали записывать легенды Ботсваны. А у городских властей, занятых престижными проектами и празднествами, ну хоть тресни, не находилось денег на искоренение иловых карт. Видимо, их дачи располагались совсем в другой стороне…
– Ну ты, Дюбель, энциклопедист… – проговорил Юркан. Сказал и на секунду успел решить, что «негр» чего доброго не поймёт учёного слова, но тот понял, усмехнулся и стал рассказывать про само кладбище.
Однако всласть порассуждать не успел.
У костерка, призванного отгонять комаров, появился по обыкновению хмурый Сан Саныч. Втянул носом не успевшие развеяться запахи шашлыков, сплюнул в сторону и объявил:
– Сегодня выходим в ночь. Особый тариф.
Юркан для начала по-детски огорчился: «Ну вот, а как же домой?..» Потом мысленно возликовал, согретый словами «особый тариф»: пиастры, пиастры!.. И лишь в-третьих сообразил, что, кажется, в самый первый раз оказался допущен к тёмной стороне кладбищенского бизнеса. О которой, естественно, был, как любой россиянин, премного наслышан. Но слышать – это одно…
Примерно через час они тихо, почему-то оглядываясь, собрались у контейнера и предстали пред мрачным Сан Санычем.
Тот окинул их взглядом:
– Ну что, все, что ли? – Криво усмехнулся и отпер контейнер. – Забирайте.
Два других «негра», Штык и Ливер, выволокли наружу нечто продолговатое, завёрнутое в брезент, Дюбель ухватился с другого конца, тяжело крякнул.
– Юрасик, подсоби.
Тот с готовностью подставил руки… и, тихо выругавшись, внутренне содрогнулся. Понял, что кантует человека.
– Опаньки!
Взяли, приподняли, понесли… аккуратно, не раскачивая, двигаясь в ногу. Хмурый Сан Саныч с лопатами в руках рыскал рядом, точно сыскной овчар, принюхивался, прислушивался, оглядывался по сторонам… Бдил. На угрюмом лице его было написано что угодно, кроме страха. А Юркан шагал с холодным сердцем и пульсирующими висками, осязал под тряпкой ноги, тяжёлые, уже остывшие, и поневоле проникался всей быстротечностью бытия. Сегодня ты мнишь себя хомо сапиенсом, пупом вселенной и венцом мироздания, а завтра тебя вот так же, на рогожке отволокут куда-то полупьяные мужики…
– Здесь, – наконец скомандовал Сан Саныч.
Тело опустили наземь у недавнего, ещё не забетонированного захоронения. В темпе сняли стелу, переложили венки, опрокинули стандартную раковину. Сноровисто разрыли почву, слава Богу, не успевшую слежаться. «Я?.. Неужели я ЭТО делаю?..» – как бы со стороны, молча изумлялся временами Юркан… Между тем вытащили гроб – свеженький, никакой тебе вони. Деловито углубили яму, опустили свёрток, припечатали гробом, присыпали землицей, водрузили надгробие. Уложили на место пышные искусственные веночки… Ажур! Не знавши, не догадаешься.
– Все путём, – одобрил, зорко осмотревшись, Сан Саныч. Тут же, как и договаривались, рассчитался по «особому тарифу», милостиво кивнул. И, не тратя времени даром, исчез с лопатами на плече. С очень даже довольным видом. И «негры» остались довольны, и, надо полагать, архангел Витька Бородин. А может, и кто-то повыше. Что же касаемо нравственных устоев… Странно, но особых морально-этических переживаний Юркан не испытывал. В России живём.
Первый звонок
Домой Юркан добрался далеко за полночь. По Московскому было опять не проехать из-за «северного сияния», вовсю – с перекрёстка видать – полыхавшего над башней сгоревшего института. Водители уже относились к таинственному явлению примерно как к очередной стройке или ремонту, давшему метастазы на проезжую часть. Ругались и сворачивали на Витебский. Однако и по Витебскому нынче было не проехать, только и удалось разглядеть, как за цепью милицейских мигалок ворочалась тяжёлая техника. Юркан лишь головой покачал, нутром угадав, что и эти ночные мероприятия имели прямое отношение к «Гипертеху», и мысленно прикинул ещё более дальний объезд…
В общем, пока добирался к себе самыми что ни есть «огородами», по Правому берегу и запруженной, несмотря на поздний (или уже ранний?) час набережной, Юркан заново проголодался, причём зверски. Шашлык успел превратиться в эфемерное воспоминание под общим девизом «давно и неправда»: организм, подстёгнутый серьёзной работой и стрессом, требовал дополнительных порций горючего. Юркан поставил на плиту ковшик, достал из морозилки пельмени, привычно отсчитал дюжину, мысленно махнул рукой – и вывалил в бурлящий кипяток целую пачку. Когда всплыли, щедро добавил масла, сыра, перца… И, ощутив наконец в животе приятную тёплую тяжесть, закурил и уселся у телевизора.
Специально для таких, как он, полуночников давали американский фильм. Не ахти какого высокого полёта, из тех, где поднаторевший зритель без большого труда предсказывает сюжет на три хода вперёд, – именно то, что и требуется для приятного душевного расслабления перед сном.
Фильм был про то, как не пойми какие деятели – то ли мафия, то ли секретные службы – грохнули важного мужика, но, как водится, «зевнули» случайных свидетелей. После чего принялись убирать их одного за другим. И вообще всех, кто теоретически мог что-то видеть и знать. Да не просто выслеживали и мочили: людей как бы вычёркивали из информационных баз бытия, искореняя все данные о том, что такой-то вообще ходил по земле. То ли жил человек, то ли попросту на свет не рождался!
В общем, смотри, зевай, подрёмывай на диване. Однако не тут-то было. Минут через двадцать Юркан вдруг поймал себя на том, что начал радоваться рекламе. Когда же кругом главного героя стала конкретно стягиваться тугая петля, он оглянулся в сторону прихожей и почувствовал, что досматривать, чем кончится дело, у него никакого желания нет.
Рука потянулась к пульту дистанционного управления… Покрутила его – и опустила обратно. Палец кнопку так и не надавил. Юркан понял: если сейчас он выключит телевизор, то долго потом будет вертеться в постели, прислушиваясь ко всяким шорохам и соображая, чем же завершился фильм. А когда наконец уснёт, ему, чего доброго, всё это ещё и приснится…
И в этот момент фильм прервали ради экстренного выпуска новостей.
– Ф-фух! – вслух вырвалось у Юркана. От звука собственного голоса морок вроде немного рассеялся. – Ну, что там у вас экстренного?.. Рассказывайте быстрее – и спать!
К большому несчастью, новости оказались весьма «в струе» прерванного фильма. Заэкранное измерение властно вторглось в реальность. Кто-то – неведомо кто – похитил известного депутата. Крупного бизнесмена. Видного политика… Одним словом, Анания Шкваркина.
На экране возникла самодовольная физиономия человека, давно привыкшего каждый день тратить больше, чем другие зарабатывали в течение года. И – хуже того – давно позабывшего, что где-то есть целый мир без «Мерседесов» с эскортом, личных бассейнов и VIP-залов в аэропортах.
За похищенного никто не назначал выкупа, не выдвигал требований. Диктор не говорил прямо, но определённо подразумевалось самое плохое: скорее всего похищенного попросту укокошили, а труп надёжно, чтобы концы в воду, спрятали куда подальше. Однако Ананий Шкваркин был человек настолько известный, влиятельный и уважаемый, что его друзья и подельники, то бишь коллеги по бизнесу объявили премию в десять миллионов долларов за любой конкретный результат по делу отыскания кореша. Соответственно все сыскные агентства, частные детективы, дилетанты-любители, а также лучше силы ГУВД и ФСБ (да кабы ещё не ЦРУ с ФБР в придачу…) устремились на поиски. Напоследок диктор даже позволил себе выразить уверенность, что не сегодня завтра Шкваркин – а будет на то соизволение Божие, и негодяи, его похитившие, – хоть на дне морском, а отыщутся.
Юркан тупо посмотрел на пульт у себя в руке и только тут обнаружил, что успел встать с кресла и торчит столбом посреди кухни. А по спине бегают вполне отчётливые мурашки.
Когда-то в далёком розовом детстве Юркану довелось читать – в подлиннике, между прочим! – тогда ещё не переведённый «Талисман» Стивена Кинга. Он хорошо помнил, как часа в два ночи поднял голову от жуткой и увлекательной книги и вдруг со всей определённостью понял: «Сейчас полезут…» Из какого именно угла, оставалось неясно, но что непременно полезут – это никакому сомнению не подлежало.
Дальнейшая жизнь не раз сталкивала Юркана с гораздо более реальными и грозными страхами. К примеру, в Афганистане. Или на чердачном промысле, в ту ночь, когда был найден злосчастный золотой чемодан. То, что он испытывал сейчас, выглядело очень скверным гибридом мистических киношно-книжных страшилок и вполне вещественного ощущения дула, нацеленного в затылок.
А не Анания ли, случаем, Шкваркина он сегодня малой скоростью в последний путь кантовал?.. В памяти всплыла тяжесть явно дородного тела, даже вроде бы запах дорогого парфюма, мимолётно просочившийся сквозь плотный брезент. Так вот, коли вправду Анания, значит, есть реальный шанс очень скоро с покойничком встретиться. За десять миллионов долларов не только ФБР из Америки в полном составе приедет. Так что тот, кто Шкваркина заказал, если не совсем дурак, сейчас примется рубить концы. То бишь для начала уберёт всех исполнителей. И тех, кто мочил, и тех, кто копал…
«Так-так… – Мурашки по спине сменились каким-то убийственным спокойствием. Юркан, не садясь, вытащил из кармана мобильник, хотя рядом на столе лежал городской телефон. Набрал номер „трубы“ Бородина. Столь же приятный, сколь и казённый девичий голосок сообщил ему, что абонент не отвечает или находится вне зоны действия. – Так-так…»
Юркан глянул на часы, подумал о разных вариантах недосягаемости абонента, в том числе о тонких мирах, вздохнул и с тяжёлым сердцем набрал бородинский домашний. На сей раз ему долго не отвечали. Зато уж потом ответили по полной программе. Противным женским голосом, причём с хорошей порцией визга. То, что эта дама думала о Витьке и о причинах его отсутствия дома, было полностью непечатно. Как и её мнение о некоторых его друзьях, звонящих посреди ночи.
Подробности выслушивать Юркан не стал. Нажал отбой, покурил, подумал. О том, до чего повезло Витьке с женой, и ещё о многом, более важном. Сходил умылся, опять подумал, покурил… и наконец задремал здесь же, на кухонном диване, словно в окопе между боями. Идти в комнату, разбирать постель и вообще притворяться, будто продолжается мирная жизнь, у него никакого желания не было.
Спал недолго, всего часа, может быть, два. Проснулся без всякого будильника, хоть и с тяжелой головой, но сразу, не испытывая искушения поваляться. Есть, против обыкновения, тоже не хотелось. Видно, организм предпочитал идти в бой налегке. Юркан не стал его насиловать, сварил крепкого кофе – и пошёл вниз, к машине.
Мерзкий холодок полз вдоль хребта, становясь всё сильнее, всё отчетливее, всё тревожнее…
И, как вскоре выяснилось, не обманул. Интуиция, эта записная лежебока, проснулась в душе Юркана не зря. Возле «копейки» он наклонился якобы проверить, не сдулось ли колесо, и вот тут сердце ёкнуло и не то чтобы ухнуло в пятки, – бывали ситуации и похреновее! – просто заколотилось вдвое быстрее обычного. Под передним колесом машины лежала досочка с кнопкой от звонка. Беленькая такая кнопочка, обыкновенненькая, словно на дверном косяке… От кнопочки тянулись проводки и исчезали под брюхом машины. Куда именно они тянулись, Юркану объяснять не требовалось, – в жизни видел и не такое. Наверняка к чему-нибудь типа тринитротолуолового заряда граммов эдак в двести пятьдесят, устроенному под водительским местом. Так что кнопочка эта беленькая под колесом не простая была – от звоночка в вечность…
«Ладно, гады, ладно». Юркан похлопал себя по лбу, как бы изображая забывчивость – на всякий случай, если кто смотрит, – неспешно развернулся и пошёл домой. В глубине души он чувствовал подобие обиды. «Вот ведь гниды, за полного придурка держат. Даже на заряд с дистанционным подрывом не сподобились…»
Дома он стал действовать обдуманно и деловито, особо не мешкая, но и не торопясь. Вытащил старый рюкзак, погрузил харч, бельишко, одежду, сменную обувку, ещё кое-что по мелочи, не забыл про деньжата. Потом, невольно оглянувшись, подался в ванную и вытащил из тайника пистолет, ухоженный, офицерский, в промасленной тряпице. Какой же чердачник без оружия! Да ещё нюхнувший крови в Афгане!.. Пистолет он не в рюкзак положил – сунул в карман: дорога ложка к обеду. Потом Юркан включил телевизор. Мимолётно подумал, что больше на этом диване ему перед экраном, скорее всего, не сидеть… А если и сидеть, то очень не скоро. Отрегулировал громкость так, как сделал бы, занимаясь чем-нибудь по хозяйству. Запер квартирную дверь – придётся ли отпирать? – на цыпочках спустился в подъезд – и рванул наружу. Конечно, не через парадную дверь, а через заднюю, что выходила к помойке.
На улице было вовсю утро. Дворники на помойках гремели лопатами, тявкали и грызлись бродячие собаки, урчали, визжали тросами машины спецтранса, забирая переполненные пухты. Начинался новый день. Поплутав на всякий случай дворами, Юркан вышел к метро и отправился на «Московскую». Глупость, конечно, эмоции, но ему не терпелось добраться до кладбища, увидеть Дюбеля, Ливера, Штыка, предупредить… Кореша не кореша, но всё-таки живые души, хоть и «негры», но уж точно не худшие из россиян…
На Московской площади он долго ждал «Икаруса», влез наконец в жёлтую кишку и, уже вдыхая солярочные миазмы, тоскливо глянул на часы: «Как пить дать, опоздаю…»
Действительно, когда он слез с автобуса и миновал ёлки у здания администрации, народу у контейнера Сан Саныча было уже полно. У Юркана были зоркие глаза, он отлично видел, как Ливер что-то заливал Дюбелю, а Штык прикуривал папироску у незнакомого, видно, нового «негра». Вот Сан Саныч открыл двери контейнера, начал раздавать лопаты и ценнейшие указания, и вдруг…
Юркан на мгновение ослеп. Впереди, затмевая все краски дня, полыхнул солнечный протуберанец и расцвёл огромный, выше старых деревьев, огнедышащий цветок. Потом ударил по ушам грохот, свистнули во все стороны обрывки лепестков, поднялся в воздух тяжеленный ребристый контейнер, предназначенный для морских перевозок… Чтобы, перевернувшись, гулко опуститься на то место, где полсекунды назад толпился народ…
…Юркан не впал в ступор и не ударился в панику. Спасительный инстинкт заставил его развернуться – и в хорошем темпе, но не настолько стремительно, чтобы привлечь нежелательное внимание, рвануть прочь. Он понимал: тот, кто подорвал мину в контейнере, наверняка был где-нибудь поблизости, наблюдал…
На его счастье, в этот утренний час на кладбище оказалось порядочно посетителей. Так что к выходу он бежал не один. И, что характерно, не у него одного болтался за спиной набитый рюкзак. Люди, приехавшие поухаживать за могилками, привезли с собой кто лопату, кто коробку с рассадой, кто полиэтиленовое ведро. И не таков закалённый многими бедами россиянин, чтобы чуть что пожитки бросать!
В автобус грузились не то что без паники – даже с меньшим, нежели обычно, скандалом. Юркан сначала подсаживал внутрь каких-то бабок и дедок, наконец влез сам. И поехал обратно в город чуть ли не на том же самом «Икарусе», на котором прибыл сюда.
Едва свернули с Волхонского шоссе, как навстречу с сиренами и мигалками промчалась милиция.
– Оперативно, – похвалил кто-то.
«Ага, – подумал Юркан. – Только подрывник, может, с нами сейчас в автобусе едет. Под старого дедушку переодетый…»
Домой, к гадалке не ходи, было нельзя. Не замочили с первого захода – исправятся во второй. Друзей, таких, чтобы приютили, нет. Сами с ребятишками по коммуналкам. А снимать жильё – не вариант, деньги есть, но это пока, и только на прокорм… Юркан тяжело вздохнул, глядя в окно и начиная на всём серьёзе чувствовать себя загнанным волком. Или, что прозаичней, кандидатом в обитатели пресловутой Говниловки… Потом вдруг мотнул головой и улыбнулся впервые со вчерашнего дня.
Он вспомнил о Натахе.
«А ещё, командир, я голоса слышу!»
Когда развитие событий вступает в фазу награждения непричастных, по логике вещей следует ждать наказания невиновных. Сидя за столом у Гринберга, Скудин всё никак не мог отделаться от этой мысли, тихонько гадая про себя: и в какой же, интересно бы знать, форме это самое наказание произойдёт?
Или уже произошло? И можно чуть-чуть расслабиться, не ожидая в ближайшее время неприятностей?
Ага. Как же…
Между тем застолье было посвящено сразу нескольким приятным – в кои-то веки! – событиям. Во-первых, полковничьим звёздам самого Кудеяра. Во-вторых, майорской – досрочной, между прочим, – звезде хозяина дома. Ещё Гринбергу за особые заслуги перед Родиной был презентован орден Дружбы народов. Как плоско шутил по данному поводу сам Евгений Додикович, тут явно имелась в виду дружба народа избранного – с остальными. Боря Капустин за всё хорошее удостоился почётной грамоты, почему-то ещё с профилем Владимира Ильича. А Глеба Бурова в связи с выздоровлением обрадовали горящей турпутёвкой. Действительно горящей, куда-то под Гагры. Ехать туда он, естественно, не собирался, и Гринберг уже прикидывал, кому бы оную путёвку продать.
Такие вот высокие правительственные награды. За совместную с американцами экспедицию, кончившуюся в научном плане едва ли не пшиком, но зато ознаменованную сражением с беглыми рецидивистами и таинственным случаем в подземелье под реликтовой елью…
Стол, изогнутый буквой «С», был накрыт в розовой гостиной необъятной гринберговской квартиры. Той самой квартиры, что чудесным образом таилась в трущобах Васильевского острова и, словно развёртка четвёртого измерения, обнаруживала комнаты практически на любой случай жизни. И на случай амурный, и на случай суровой медитативной аскезы, и на случай вполне серьёзной обороны от вражеского нашествия. Ну и, естественно, на случай небольшого дружеского застолья.
В розовой гостиной царствовали антикварного вида гобелены, мирно уживавшиеся с бессчётными колонками современного домашнего кинотеатра. Доминировал же написанный маслом портрет хозяина дома. На картине Гринберг вплавь атаковал американскую субмарину «Трэшер», которая именно после этого, говорят, и затонула.
Стол же, простите за избитое выражение, ломился от яств. И при этом яства радикально отличались от обычных гринберговских, доставляемых из облюбованного ресторана. Дело в том, что, звёзды звёздами и ордена орденами (не говоря уже о почётных грамотах и горящих турпутёвках), а реальный повод для сегодняшней вечеринки, по общему молчаливому согласию, имелся только один.
Выздоровление Глеба.
И по этой причине на великолепно оснащённой Жениной кухне, чья стерильная чистота весьма редко осквернялась серьёзной готовкой, некоторое время назад воцарилась Глебова мама, Ксения Ивановна. Тётя Ксения, как давным-давно называл её Кудеяров спецназ, а с недавних пор – и молодые ученики профессора Звягинцева.
Конечно, тётя Ксения колдовала над кастрюлями и сковородками не одна. От лица науки ей деятельно помогала Виринея. А от лица спецназа – Ефросинья Дроновна, или попросту Фросенька, скудинская секретарша в звании старшины. И тот, кто сказал, будто «семь топоров вместе лежат, а две прялки – врозь», тот явно не присутствовал при их совместном радении. И уж точно не вкушал его результатов.
Такие застолья, где на скатерти красовалось всё в основном покупное, Ксения Ивановна называла презрительно «гастрономом». И уж последним делом было бы праздновать в подобном духе возвращение с того света единственного сыночка. Мы здесь не будем вдаваться в подробные (хотя и очень заманчивые…) кулинарные описания, скажем только, что даже шпроты на столе были домашнего изготовления, и магазинные после них есть совсем не хотелось. Свой был даже хлеб, точно к сроку выданный маленькой хлебопечкой. И, судя по силе источаемого им аромата, этот хлеб сам по себе был достоин собрать кругом себя гостей. Даже без учёта всего остального, что в изобилии к нему прилагалось…
Присутствовало в квартире и ещё одно лицо женского полу. В первый наш визит в гринберговские апартаменты мы уже встречали это прехорошенькое лицо, скромно укрывавшееся под псевдонимом Бригитта. Готовить Бригитта решительно не умела, предпочитая зарабатывать насущный хлебушек с маслицем и икоркой весьма иными, неведомыми КЗоТу путями. К Жене она завернула чисто по старой памяти – на огонёк. И тут же была им прикомандирована к кухне, в полное распоряжение трёх грозных императриц. А те, за клинической неспособностью готовить, определили Бригитту на должность приспешницы – так, говорят, в старой русской кухне именовалось место «старшего помощника младшего повара», а проще выражаясь, «подай-принеси». Во время великой готовки может внезапно иссякнуть какой угодно припас, от элементарной муки и соли до заковыристой, название не вдруг выговоришь, пряности. А может, просто предполагалось, что после десятого по счёту марш-броска в магазин холёная красавица попросту не вернётся. Отнюдь! Раз за разом Бригитта мчалась то в лавочку на углу, то чуть не в загородную «Ленту», и всё это без единой жалобы и гримасы. Только сменила лёгкую, по случаю заморозков, серебристую шубку на более утилитарную спортивную курточку да в один прекрасный момент смыла косметику, которую всё равно некогда было поправлять.
Когда дошло до собственно застолья, Евгений Додикович бессердечно попытался выставить девушку если не из квартиры, то хотя бы за пределы гостиной. Дескать, тут все сугубо свои, так что «не позволите ли вам выйти вон».
К полному изумлению новоиспечённого майора Грина, за Бригитту мгновенно встал горой весь кухонный триумвират. Да так, что вон едва не оказался выставлен сам Гринберг. Теперь Бригитта сидела между Фросенькой и Борькой Капустиным – к полному восторгу этого последнего.
Скудин смотрел на них со своего места, и ему было весело и смешно. И даже тот факт, что рядом с ним – там, где могла и должна была бы находиться Марина, – по-прежнему зияла ледяная пустота, воспринимался чуть глуше, чуть отстранённей обычного. Как привычная боль старого неизлечимого увечья, сквозь которую, как со временем выясняется, могут-таки просочиться и дружба, и добро, и тепло…
Сам Глеб сидел совершенно прежний – огромный, добрый, шириной в дверь. Ел за четверых, говорил мало, больше кивал. Всё как всегда. Однако Скудин уже заметил: после ранения Глеб стал какой-то задумчивый, сосредоточенный, как бы постоянно слушающий то, что другим не дано услышать. При этом он с глубочайшим уважением посматривал на Виринею, и та отвечала ему короткими заговорщицкими взглядами. Грин зеленел от зависти, если их замечал. А между тем так смотрят друг на друга вовсе не любовники. Скорее, единомышленники, увлечённые люди, имеющие общую цель. Иван Степанович видывал нечто подобное у Звягинцева в лаборатории, когда там подвигался к успеху очередной судьбоносный эксперимент.
После закусок и горячего не избалованные обжорством организмы потребовали двигательной зарядки. Тем более что на горизонте маячил десерт – строго засекреченный и оттого требующий подготовки. Женя включил музыку и чопорно повёл в танце Ксению Ивановну. Глеб, как и следовало ожидать, завладел Виринеей, Борька помчал длинноногую Бригитту, невероятно изящную в спортивном костюме, а Веня Крайчик успел перехватить у Альберта Фросеньку. Скудин воспользовался танцами и подсел к профессору.
– Простите, Лев Поликарпович, не помешаю?
– Да что вы, голубчик, пожалуйста…
Канули в прошлое времена, когда отец Марины и её муж при виде друг друга готовы были хвататься за шпаги. Только теперь до них в полной мере доходил смысл слова «родственники».
– Что с вами, Лев Поликарпович? – негромко спросил Иван.
Язык тела был для него важным источником информации, по временам способной даже спасти жизнь. От него и теперь не укрылось: хоть профессор был внешне весел и бодр, шутил, улыбался, а у самого вид был такой, словно аккурат вчера ему поставили очень страшный диагноз и он ещё не решил, как с этим быть, как вообще жить дальше.
– Ну… пока ничего особенного не случилось, но к тому идёт, – так же тихо проговорил Звягинцев. – Куратора нам прислали по научной линии… из Москвы.
Скудин понимающе кивнул.
– Чтобы перед Америкой не оплошать, – горько усмехаясь, продолжал Лев Поликарпович. – Академика Опарышева… Слышали, может быть?
«Как же, слышал. И даже видел разок. По телевизору…» Ту передачу об успехах отечественной науки Иван смотрел вместе с Мариной. Ему ещё бросилось в глаза, до чего этот Опарышев соответствовал фамилии. Круглый, толстый, белый – и в мощнейших очках. Очки уродливо искажали глаза, но, против ожидания, вместо впечатления трогательной беспомощности ощущалась аура хитрого и опасного существа. «Я как-то папу спросила: „Почему ты до сих пор не академик?“ – прокомментировала Марина. – А он мне ответил: „Докуда можно было дойти умом, я дошёл. А выше – только жопы лизать. Вот как этот…“» – Марина с отвращением кивнула на экран.
Теперь Скудин спрашивал себя, а не было ли в этом Опарышеве чего-то от кота-переростка. Например, щелевидных зрачков. «Приедешь – надо будет рассмотреть тебя хорошенько…»
– Пересветов сегодня выпил три рюмки коньяку, два раза выругался матом и удрал на неделю на дачу… – с явной завистью рассказывал между тем Лев Поликарпович.
– За свой счёт?
– Ну да, за свой. На больничный… Сказал – в санаторно-профилактических целях. Он же в своей последней статье – в «Ворд Сайнтифик», ни больше ни меньше, обозвал результаты, представленные Опарышевым, бредом шизофренического больного. И от слов своих отступать не намерен. Сами понимаете, отношения после этого… Ну а у вас как дела?
– Пока никак. – Скудин вздохнул. – Информацию по американцам доводить будут завтра, с утра пораньше.
Вспомнив о том, что завтра придётся опять спешить пред светлые очи начальства, Иван в тысячу первый раз тоскливо подумал, как это было бы здорово – ходить обычным батальонным где-нибудь в родном Заполярье, желательно там, куда московский Макар телят не гонял. Чтобы ни начальства высокого, ни показухи казённой, ни всей этой обрыдлой мишуры. Еще слава Тебе, Господи, у нас не столица. Там, говорят, вообще полковники шнурки гладят. Генералам. Субординация и дисциплина голимые, подход и отход от начальства. Тьфу…
– Да положите вы на него, Лев Поликарпович, – вдруг сказал Скудин. – На Опарышева этого. Крестообразно и с прибором. Ну его, не таких видали… Прорвёмся.
Ощутив, что профессору чуть-чуть полегчало, Иван чокнулся с ним «Запеканкой» (символически – Звягинцев был за рулём) и перехватил вернувшегося Глеба.
– Ты меня, конечно, извини, – начал он, когда Гринберг уволок кружить Виринею в медленном вальсе. – Знаешь, Глебка, какой-то ты не такой. Я же вижу. Давай колись. Не наводи на мысли. Или организм чего требует? А может, душа?
– Да нет, командир, с организмом все в порядке. – Глеб хмыкнул, воровато оглянулся на Гринберга и… намотал на руку коллекционный, литого серебра поднос. – Видишь? И в душе такая же гармония, можешь не сомневаться.
Скудин с интересом ждал продолжения.
– Только вот знаешь… после ранения я… будто прозрел, – тихо и медленно выговорил Глеб. – Увидел мир… словно с другого ракурса. Ну, будто кто глаза мне протёр. Мир, он ведь совсем не такой, как нам с детства рисуют… заставляют думать, что это – так, а то – этак. В общем, прикинь… как будто ты всю жизнь смотрел на одну грань кирпича и думал, что он плоский. А потом вдруг понял, что граней-то шесть. Хотя на самом деле их гораздо больше… А ещё, командир, я… как бы тебе сказать… только ты не пугайся… я голоса слышу.
«Так…» – только и подумал Иван.
– Разные, – задумчиво продолжал Глеб. – Мужские, женские, громкие, тихие. Маленькие, вроде наших с тобой. И другие – огромные… Одни вблизи, другие издалека… Ты бы только знал, командир, что они говорят… Только я пока ещё не всё понимаю. Вот для неё, – Глеб улыбнулся и взглядом, полным натурального благоговения, указал на Виринею, торжественно вносившую с кухни десерт, – для неё уже не существует пределов. Всё видит, всё слышит. И, наверное, всё понимает. Скоро она сосчитает все грани кирпича. А я… – Глеб подмигнул, лихо пожал плечами и вроде бы даже виновато потупился, – только учусь.
При этом он сделал движение из тех, которые в скверных романах называют неуловимыми, – и скрученный в трубочку, непоправимо изуродованный поднос (между прочим, семейная реликвия и гордость фамилии Гринбергов!) принял свою первозданную форму. Словно вовсе и не бывал в могучих пальцах Глеба. Да, ученик Виринее попался определённо талантливый…
Скудин, впрочем, едва заметил чудесную метаморфозу подноса. Ему до озноба, до судорог хотелось задать один-единственный вопрос: «Марина. Моя Марина, Глебка… ТЫ ЕЁ СЛЫШИШЬ?»
Не спросил. Попросту не хватило духу. И ещё – вспомнилась баба Тома, её строгое: «Не отвечу, не позволено мне. Сам осмыслишь, когда время придёт…» Ставить Глеба перед выбором он не хотел. В этом деле он должен был разобраться сам.
И ещё ему казалось – Глеб отлично понял, о чём хотел спросить его командир. Понял… И промолчал, спасибо ему…
Где же ты, сестричка Айрин?
Атмосфера в генеральском кабинете была хоть и высоковольтной, но в кои веки безоблачной. Огоньки системы защиты спокойно горели зелёным, выражение лица гаранта Конституции на тотемном портрете было необыкновенно мудрым, строгим и справедливым.
– Ну что ж… Начнём, пожалуй, – сказал девятизвёздочный хозяин кабинета. И властно, вполне по-генеральски вычертил дланью замысловатую фигуру в воздухе. – Пал Андреич, прошу вас.
– Слушаюсь, Владимир Зенонович. – Скромный генерал-майор наклонил голову. Крепкий палец упёрся в кнопку пульта. – Полковник, начинайте. Согласно плана.
Сейчас же, словно в театре, в кабинете стал гаснуть свет и с потолка, закрыв секретную, зашторенную брезентом карту, опустилась плазменная панель. Огромная – за такую фанатик компьютерных игр душу продаст.
– Напоминаю, товарищи, никаких записей. Зарисовок тоже. Это совершенно секретная информация, – властно вмешался в процесс девятизвёздочный генерал, а на панели вдруг показали то, отчего Скудин натурально обалдел. Перед ним предстал его давнишний сосед по яме с дерьмом. Джон Смит, он же преподобный отец Джозеф Браун, он же… имя ему легион.
– Начальник охраны американской делегации полковник Арнольд Блэк, – объявил голос невидимого комментатора, а на панели между тем возникали знакомые всё лица: братья во Христе Хулио и Родригес-младший в форме майоров американской морской пехоты, затем братец Чарли с братаном Бенджамином, прикинутые как лейтенанты-командоры. Что примерно соответствовало нашим капитанам третьего ранга.
Вот это да, вот это ну и ну!.. Затем на панели высветилась властная, сразу видно – с яйцами, баба а-ля Маргарет Тэтчер, про которую комментатор сказал, что она и есть глава американской делегации доктор Сара Розенблюм. Потом продемонстрировали её заместителя по научной части профессора Питера О’Нила, скучного и невыразительного типа в очках. Показали пару бакалавров, тройку ассистентов, представителя Белого дома… и генеральский кабинет начал вновь наливаться светом. Передача «Очевидное – невероятное» закончилось, началась постановка боевой задачи. Эта самая задача была строгой, конкретной и разночтений не допускала. Американских гостей надлежало встретить чинно, с тонким тактом и русской широтой, сиречь радушно, хлебосольно и в духе времени, то бишь не забывая о Перестройке, гласности и тотальной демократизации («Господи…» – подумал Скудин). Чтобы сразу почувствовали национальный колорит, загадочность души и ни в коем случае не забыли про обещанные кредиты. Так наказала Москва.
– Вам всё ясно, товарищи? Вопросы? – Засопев, девятизвёздочный глянул на чекиста в белых тапках, тот покосился на Кольцова, Кольцов тут же повернулся к Скудину, и Иван, оказавшись крайним, поднялся.
– Так точно, товарищ генерал. Вопросов нет.
Пока представляли забугорную делегацию, он подсознательно ждал, что вот-вот появится приснопамятная мисс Айрин, то бишь Ромуальда фон Трауберг. Не появилась. Американцы были не совсем уж беспросветные дураки.
– Ну вот и ладно, идите уточнять детали. – Девятизвёздочный повеселел и милостивым кивком отпустил подчинённых. – Отечество в моём лице надеется на вас.
Выпроводив коллег, Владимир Зенонович с грохотом отпер сейф, вытащил папку с грифом «Совершенно секретно» и, погрузившись в анатомическое кресло, занялся чтением. В любимом Отечестве было неблагополучно. Разруха, воровство, казнокрадство и бардак. Словом, как всегда. Право слово, следовало бы забеспокоиться, если бы что-то переменилось.
«Чёрт знает что и с боку бантик…» Генерал дочитал, нахмурился, потёр массивный угловатый череп и, надумав отвлечься, позвонил домой.
– Аллё? Сын?.. Ты? Так рано?
– У нас было всего две пары, отец, – ответил Эдик, и в трубке было слышно, как он стучит пальцами по клавишам ноутбука. – Преподаватель по молекулярной физике заболел. Мы всей группой собрали ему передачу и решили проработать материал на дому. В ударном и индивидуальном порядке.
Владимир Зенонович почувствовал, как помимо воли расплывается в блаженной улыбке.
Господи, что за метаморфоза приключилась с наркоманом, обалдуем и дармоедом, коим было ещё совсем недавно генералово чадо, сущее горе отца! Оно, в смысле чадо, по-прежнему было невелико ростом и неспортивно сложением, но кому какое дело до внешности?
Из спецбольницы, сиречь из «Семёрки», она же (ха-ха) «Институт проблем мозга», Эдик вышел, как перевоспитавшийся зэк из советской тюрьмы, другим человеком. Не сильно преувеличивая, можно сказать, что уникальное сочетание земных и небесных энергий напрочь стёрло прежнего Эдика и породило совершенно новую личность. Ситуация была, как в фильме про очередного американского супергероя. Помните, конечно? В лабораторию попадает молния – при землетрясении выливаются разом все пробирки – в автокатастрофе выплёскивается неведомое вещество – и так далее, нужное подчеркнуть. Как следствие, обычный человек оказывается наделён невероятной силой, или скоростью бега, или способностью летать, или умением просачиваться по проводам – в общем, на что только хватит фантазии у постановщика и сценариста. Вот и с Эдиком произошло нечто подобное. Летать он, правда, не начал, зато его кровь превратилась в форменную панацею от всех болезней. Вирус «Юбола Икс» бесславно сдох в этом эликсире жизни, да не он один. От гепатита и гриппа через весь алфавит до пресловутого СПИДа и далее. А посему Эдик дважды в неделю всё в той же «Семёрке» сдавал кровь – конечно, понемногу, буквально по капельке, да больше было и не нужно. Кровь «работала» на уровне микродоз. Империалисты зеленели от зависти, больные возвращались буквально с того света, академики в «Семёрке» не вылезали из-за компьютеров и микроскопов, пытаясь разобраться в происходившем, а Эдик… Эдик учился. Учился яростно и самозабвенно, навёрстывая упущенное. Да не где-нибудь – в Университете, причём на матмехе. Там проверили его способность к точным наукам, ахнули – и зачислили сразу на третий курс. И девятизвёздочный папа был в данном случае решительно ни при чём.
– А, значит, науку грызёшь, сынок… – умилился генерал. Ему всё казалось, что нежданное счастье должно было вот-вот исчезнуть, рассеяться, точно сон, слишком хороший, чтобы оказаться реальностью. Почему-то оглянувшись на портрет Дзержинского, Владимир Зенонович крепко зажмурился, словно кто мог подсмотреть за ним в этот миг. – Ну давай, давай.
– Да, собственно, я уже заканчиваю. Сейчас обедом займусь, – улыбнулся в трубку Эдик и звучно взял аккорд на своем ноутбуке. – Маму я отпустил к подруге детства, пусть отдохнет от быта… Ты, отец, что хочешь на первое?
Мы совсем забыли сказать, что среди прочих способностей, в одночасье пробившихся у Эдика, обнаружился и кулинарный талант. Вот только предаваться любимому хобби у него получалось нечасто, ибо занятость Эдика вполне соответствовала его новым возможностям. Поэтому в генеральской семье серьёзно подумывали о домработнице.
А этажом ниже в кабинете у Кольцова тоже не сидели без дела – прорабатывали варианты встречи американцев. Собственно, генератором идей выступал в основном чекист в белых кедах. Скудин с Кольцовым больше помалкивали. Тоже, нашли кому пыль в глаза пускать. Американцы и так никуда не денутся. И кредиты дадут. Всем лучше, если русский медведь сытый…
– А может, встретить их на танке? Среднем гвардейском?.. – задумался над очередным вариантом чекист в белых кедах и почесал круглую, начинающую лысеть башку. – А лучше на двух. Или на трёх. Под гимн, с триколором. И мы на броне…
– Нет, под этот гимн нельзя, не так поймут. Лучше уж под марш. – Кольцов пожал плечами, тяжело вздохнул. – А потом, танки ведь траками всю полосу испоганят. Да и шуму будет, вони… Нет, не пойдёт.
– Да? – расстроился генератор идей. – А может, снять траки-то? И шуму будет меньше.
Скудин с Кольцовым переглянулись.
– Ладно, – капитулировал Скудин. И тоже вздохнул. – Есть у меня массовик один… затейник. Ему придумать – раз плюнуть. Разрешите озадачить виртуоза?
Было отчего впасть в тоску. Три здоровых мужика, да ещё в погонах, а занимались, извините, фигнёй. Проблему решали. Вселенского свойства…
Прибыв к себе, Кудеяр первым делом вызвал Евгения Додиковича и без обиняков, прямо в лоб поставил ему боевую задачу.
– Не беспокойся, командир, все будет сделано тонко, – страшно обрадовался Гринберг. – Встретим американцев по высшему разряду. Я сказал!
Чем-то он здорово напоминал Остапа Бендера, подряжающегося нарисовать агитационный шедевр.
– Ну и ладно, дерзай, – отпустил его Скудин, облегчённо вздохнул и сразу забыл об импортной делегации. Своих дел хватало. Однако скоро выяснилось, что делать эти самые дела ему предстояло в гордом одиночестве. Чёртов Гринберг мигом увёз всех на репетицию. И Бурова, и Капустина, и Ефросинью Дроновну. В неизвестном направлении. На казённом бронированном авто…
Американцев встречали на следующий день в Пулково-2. Простенько и со вкусом. Вначале прямо к трапу направились Буров и Ефросинья Дроновна. Чинно, степенно, с чисто русским достоинством. Глеб передвигался на четвереньках. Он был наряжен бурым лесным медведем. В шкуре, с клыками, когтями и хвостом. Выглядел, кстати, Глеб нисколько не смехотворно. Натурально выглядел. Даже страшновато – пока в глаза не посмотришь. Фросенька была одета, что называется, на грани фола: а-ля царевна Лебедь. Но, как и Глеб, соответствовала образу идеально. Она несла огромный пшеничный каравай. Никакой не муляж и не ширпотребовскую безыдейную булку, а самый настоящий каравай, с крепенькими румяными рожками, – очередной шедевр тёти Ксении.
– Здрасьте вам, гости дорогие, – певуче сказала Фросенька и поклонилась в пояс с завидной грацией, а Буров зарычал. При этом он чуточку не рассчитал, и Сара Розенблюм с профессором О’Нилом на всём серьёзе собрались ретироваться в свой «Боинг». О, эти русские! А их-то убеждали перед полётом, что в России на улице медведя не встретишь…
– Ну, Скудин, ты даёшь… – Чекист в белых кедах задышал и побледнел под цвет своих тапок. – Этак и международный скандал раздуть можно. Топтыгин-то чего ревёт у вас? Не кормлен, что ли?..
– Не гулян, – с непроницаемым видом пояснил Иван, а тем временем откуда-то чёртом из табакерки вывернулся Гринберг – весёлый, о сабле, в кармазинном кафтане, рысьей шапке и лиловых зарбасных штанах. С приговором, с переплясом, с балалайкой в руках… Да не один! С девицами-душеньками-красавицами – Колеттой, Полеттой, Жанеттой, Жоржеттой и Мриэттой, наряженными в мини-юбки, кофты-марлёвки и пикантные кокошники.
– Во поле березка стояла!!! – затянул Гринберг и послал американцам воздушный поцелуй, а девушки-красавицы повели хоровод и стали подпевать: – Люли-люли стояла, некому березу заломати…
– Oh, that’s better! – отреагировали американцы, побороли стресс и начали дружно сходить по трапу. – What a song! What a boy! A real kazak…[5]
– Ну слава Богу. – Чекист в белых тапках просиял, высморкался и в шутку погрозил Скудину пальцем. – А ты шалун, шалун. Тёлки-то у тебя небось того… огуляны…
Однако Скудин не отреагировал. Он смотрел на группу иностранных гостей, которые, забыв о всяческом церемониале и этикете, с воплями радости ринулись к нему. Экс-преподобный Браун и братья во Христе Хулио, Чарли, Бенджамин и Родригес-младший. Только не в милотях,[6] не в сутанах, не в рубищах и не в веригах. Во всём блеске американских парадных мундиров.
– Иван, брат наш! – вскричали они хором. – Ты теперь один в поле воин?
– Как это один? – оскорбился Скудин и поманил пальцем. – Ап!
Сейчас же к нему подтянулись Буров (уже не на четвереньках), Гринберг (без балалайки) и Капустин (в фуражке с васильковым околышем). Экс-отец Браун вдруг заговорил о погоде:
– Здесь у вас все же лучше, чем в яме с дерьмом, но чертовски разгулялись ветра. Давно не припомню подобной болтанки. У нас, впрочем, «индейское лето» тоже было паршивым…
Кудеяр сразу же как-то нутром почувствовал, что «паршивость» «индейского лета», оно же бабье, объяснялась не только дождями.
Между тем выяснилось, что американцы и в самом деле успели вовремя. Небо очень быстро, прямо на глазах, затянули тучи, ясный полдень сменился натуральными сумерками. Повеяло ледяным холодом, словно где-то распахнулся чудовищный морозильник… В стылой, ощутимо плотной полутьме закружились белые, тающие на лету мухи.
– И здесь то же… – ни к селу ни к городу пробормотал бывший Браун. По-английски пробормотал, но Иван понял. Другое дело, железного негра внезапным холодом было не прошибить, а вот остальные члены делегации с явной тревогой поглядывали на небеса. Ни дать ни взять прикидывали, не привезли ли они с собой на хвосте через океан нечто такое, с чем успели очень неприятно познакомиться дома.
Когда американцы, унося с собой благоухающий каравай, уже забирались в специальный автобус, Кудеяр придержал Брауна за руку и глазами указал в сторону города. Браун оглянулся. В семи километрах от них тяжёлые клубящиеся тучи подсвечивало явственно видимое трепещущее радужное сияние.
– Это… оно? – помолчав, почему-то шёпотом спросил негр.
Скудин молча кивнул…
– Ну конечно, были некоторые недоработки, но в целом молодец, – похвалил Кудеяра чекист в белых тапках. Попытался сально посмотреть на бёдра Ефросиньи Дроновны, но та подарила его таким «рублём», что он как-то сразу усох и бочком, бочком направился к машине, пернатой от антенн. Буров рыкнул вслед, и дверца очень быстро захлопнулась.
Врёшь, не возьмёшь!
Иван со своими из аэропорта поехал в институт. И самым первым, кого он встретил ещё на парковке, был профессор Звягинцев. Лев Поликарпович не ездил встречать американцев – а что ему их было встречать, ведь Шихмана с Беллингом самолёт на этот раз не привёз… Звягинцев был облачён в старомодную, весьма жидкую по наступившей погоде куртку, и в первое мгновение Скудину при виде учёного стало попросту холодно. Однако потом он заметил, что куртка была расстёгнута чуть не настежь. Профессор натурально не замечал внезапного похолодания – шёл к арахисовому «Москвичу» походкой низвергнутого монарха, отбывающего в изгнание. Верные сподвижники молча топали рядом и по бокам – Альберт, Веня и Виринея. Они не провожали профессора, а уходили с ним вместе. И только у одной Виринеи в уголках зелёных глаз мерцало затаённое ехидство игрока, до поры до времени придерживающего в рукаве козырного туза.
Замыкал шествие Кот Дивуар. Вот он взял короткий разбег, вспрыгнул на плечо Виринее и поплыл, балансируя пушистым хвостом…