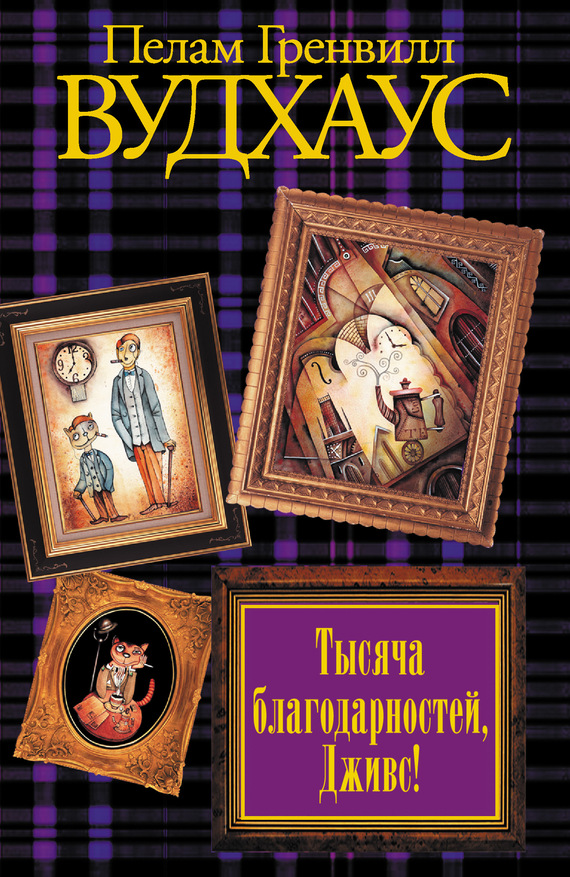Вавилонская башня Семенова Мария
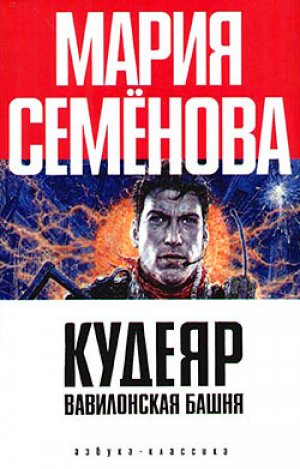
…И чистые руки
Семён Петрович Хомяков, депутат питерского ЗакСа и успешный предприниматель, имел семь классов образования. А также две «ходки», то бишь судимости. Ни того ни другого от журналистов он не скрывал. Было бы что скрывать! Неполное среднее? Так нам, не в пример некоторым, липовых дипломов и дутых золотых медалей не надобно. Диплом – тьфу, бумажка. Мы сами, своим умом всё необходимое превзошли. Судимости? Так к тому, за что мы сидели, теперь из Кремля каждый день призывают. Опять же и законами сподручнее заниматься человеку, который от «системы» сам пострадал…
Внешность, правда, у господина Хомякова была не слишком фото– и телегеничная. Наверное, это сказывалось нелёгкое детство. С беспутной матерью и дедом-тираном. Коммунальная квартира, холодный пол, деревянные игрушки… Помните олимпийского чемпиона родом из Бразилии, который был вынужден слишком рано оставить легкоатлетический стадион, поскольку в детстве недоедал и спустя годы это сказалось? Что-то в таком же духе имело место и здесь. Только в данном случае бывший голодный ребёнок выглядел так, словно с тех пор всю жизнь отъедался. Наружность Семёна Петровича удивительно соответствовала фамилии. Он был среднего роста, с крепким брюшком и смешными отвисшими щеками, чуть не лежавшими на плечах. Хомяков имел привычку ещё и надувать их, когда напряжённо о чём-нибудь размышлял. Сколько не самых глупых людей здорово «попали» на том, что проморгали за безобидной внешностью цепкий и безжалостный ум!
Скажем по секрету: молодость Семёна Петровича прошла достаточно бурно. Теперь господин Хомяков вёл размеренную жизнь, уважал мягкие кашемировые пальто и блондинок с грудью такой высокой, чтобы яблоко не скатывалось на пол. Ещё он любил свой шестисотый «Мерседес» и водил его сам, да не просто водил, а летал – мастерски и бесшабашно. В аварии Семён Петрович не попадал никогда, ну а то, что порою творилось за кормой упорхнувшего «Мерса», его волновало меньше всего…
Он был человеком авторитетным, в определённых кругах его имя произносилось с сугубым уважением, и это сказывалось во всём. В каждой мелочи его нынешнего бытия.
Вот и теперь, как только чёрный «шестисотый» со спецномерами бесшумно подкатил ко входу в фартовое заведение «Забава», из недр ресторации мгновенно возник самолично директор – и приветил дорогого гостя ещё на гранитных ступенях. А вся обедающая сволочь вскочила с мест и стояла навытяжку, пока он проходил общим залом в свой персональный. Пустячок? Да, и притом почти незаметный. Но – приятный…
Нынче Семён Петрович был не один. Помимо «пристяжных» – телохранителей и экипажа джипа сопровождения – рядом с ним чинно шествовал «порченый высоковольтный». Обычно так называют руководящего сотрудника милиции, по какой-то причине пришедшего к сотрудничеству с преступным сообществом. Однако Хомяков и в этом плане на шаг опережал конкурентов. При нём был не какой-нибудь «краснопёрый», а самый что ни есть натуральный, то бишь в натуре, федерал.
Самое смешное, что они не особенно и скрывались. И зачем бы? Депутат Законодательного собрания пригласил друга-чекиста на небольшое, семейное, можно сказать, застолье…
А вы что подумали?
Циники говорят, будто у каждого человека есть цена, за которую его можно купить. Соответственно, продавшиеся от непродавшихся отличаются только тем, что для первых кто-то заинтересованный эту самую цену сумел успешно подобрать, а для вторых – пока ещё нет. Не будем ни поддерживать, ни опровергать это утверждение. Его истинность или ложность пусть каждый определяет для себя сам…
Так вот, цена данному конкретному чекисту, чью личность в интересах повествования мы пока не раскроем, оказалась на первый взгляд поистине смешная.
Он элементарно любил пожрать.
Это трудно было заподозрить как по его телосложению, вполне поджарому и спортивному, так и по бытовым привычкам, доступным взгляду коллег. Возможно, он страдал разновидностью булимии, сиречь неукротимого аппетита, но разновидностью весьма специфической. Наш персонаж не уминал по ночам у себя на кухне чёрный хлеб с цельными батонами колбасы. Если бы!.. Его неукротимый аппетит требовал гораздо более дорогостоящих жертв, в основном почему-то морепродуктов. Изысканной рыбы. Икры, желательно чёрной. Омаров… Каракатиц и маленьких осьминогов по-корейски… И всякого такого прочего – не вдруг разбежишься даже на его далеко не нищенскую зарплату.
…Помнится, была телепередача о «хождении по мукам» графа Алексея Толстого. Имелись в виду тяготы и лишения его эмигрантской жизни в Париже. Так вот, пресловутые муки в основном заключались, насколько можно было понять, в том, что у несчастного литератора не всегда хватало денег на хождение в ресторан с устрицами его любимого сорта. Когда выяснилось, что устриц ему в любом количестве могут предложить большевики, ненавидевший революцию граф мгновенно сделался «красным»…
Так что мы, читатель, не особенно и приврали. И такое на свете бывает. И ещё не такое.
Дубовый стол покрыла снежно-белая скатерть. Сравнение со снегом в данном случае – не дежурный штамп при описании белой материи, а реальное положение вещей. Скатерть была шёлковой и выглядела так, словно её не пресловутым «Тайдом» отстирывали от следов предыдущей трапезы, а всякий раз заново изготавливали к приезду особо важных гостей. Ткали вручную, уморив паром всё новые коконы шелкопрядов…
Начальство «Забавы» было, естественно, заранее предупреждено о внеплановом четверге.[21] На скатерти тотчас возникло старинное серебряное блюдо с рыбным ассорти, стоившим определённо больше антикварного блюда. Взять хотя бы холмик чёрной икры, влажно блестевший посередине. Это была не какая-нибудь убогая порция на один бутербродик, вытряхнутая из полуторатысячной баночки; таким количеством можно было наесться ложкой от пуза. Поставив неподалеку хрустальные ёмкости с салатами из трепангов и крабов, халдеи принесли муаровые океанические устрицы и лимон к ним, разместили на специальных тарелочках клешни лобстеров и раков… Всё вместе напоминало рыбный отдел очень хорошего современного магазина, где на чистом снегу (вот она, скатерть!) возлежат в естественном охлаждении драгоценные сёмги и осетры.
Наконец прибыли корзиночки с хлебом и вазочки масла. Наполнив бокалы искрящимся «Шабли», служители пожелали посетителям приятного аппетита и отчалили.
Семён Петрович, улыбнувшись, широким жестом обвёл гастрономическое великолепие и сказал, имитируя кавказский акцент:
– Угащайся, дарагой.
Повторять не пришлось. Оба знали, что угощение было гонораром за консультацию, необходимую Хомякову, – те же деньги, только претворённые в наиболее удобную форму. А посему гостю не было никакого резона отказываться и стесняться. Всё на этом столе принадлежало ему, о каком стеснении речь?
Он приступил к реализации гонорара очень по-деловому и в то же время, не побоимся этого слова, чертовски красиво. Между прочим, в тонкости застольного этикета он некогда вник именно по долгу службы, состоявшей, не в пример Скудину, отнюдь не в бегании по джунглям с гранатой. И скрупулёзно соблюдал сейчас все эти тонкости. Не потому, что ресторанная обстановка обязывала. Семён Петрович отнёсся бы с пониманием, влезь он хоть с ногами прямо на стол, на эту вьюжно-метельную скатерть… Дело было в другом. Долгая практика давно и неколебимо убедила профессионального проглота, что вот так – совершая все ритуалы, намазывая отдельно каждый кусочек – было ещё и гораздо вкусней…
Когда на рыбном блюде образовалась достаточно заметная убыль, Хомяков (отведавший всего по чуть-чуть, просто из вежливости, чтобы сотрапезнику не было одиноко) повёл речь о деле.
Повёл он её весьма специфически.
– Тут намедни чувак захарчёванный людям порядочным…
Что в переводе на традиционный русский язык означало: человек, выдающий себя за знатока воровских обычаев, – настоящим ворам-законникам или же лицам, тесно связанным с оными. Семён Петрович Хомяков одинаково свободно чувствовал себя и на трибуне Законодательного собрания, и среди тех самых «порядочных людей», признававших только один закон – воровской.
Поэтому основную часть его речи мы приводим в адаптированном варианте, уходя от подробного комментария и надеясь, что всё будет понятно и так.
А дело было в том, что означенный кадр засветился с «корабельником» – чеканной золотой монетой времён Ивана Третьего. Казалось бы – ну и что? А вот что. Монета сия была известна всему нумизматическому миру… в одном-единственном экземпляре. Это следует знать каждому, кто намеревается промышлять старинными золотыми. Так ведь можно и в неловкое положение угодить. Попав в переделку, кадр «раскололся до жопы» и запел, что «взял её гоп-стопом на хапок до кучи с перевесом у косящей под вольтанутую прикинутой смешно самостоятельной марьяны. И цепку из рыжья уже загнал, а бляху не успел». Всё сказанное проверили. И когда убедились, что в дом жизнерадостных недавно действительно поступила невменяемая девица, одетая так, словно сбежала со съёмок хорошего костюмного фильма о пятнадцатом веке, то ненадолго «впали в распятье», а потом…
Итогом последующих хлопот и стал внеплановый рыбный день в ресторане «Забава».
– Это дымка. – Чекист отодвинул опустошённое серебряное блюдо и пояснил Семёну Петровичу: – По-научному фиг выговоришь – энергоинформационное образование. Ну а мы по-простому – дымка и дымка… Не знаю, откуда пошло, но вот прилипло.
Хомяков недоумённо поинтересовался:
– А бляха рыжая здесь при чем?
– А гоп-стопом где её взяли? – усмехнулся гость. – Не на Новоизмайловском где-нибудь?
– В парке Авиаторов, – слегка оторопев, кивнул Семён Петрович и уморительно надул щёки. Так происходило всегда, когда его мысль начинала работать на полную мощность. И несколькими мгновениями позже был сделан совершенно правильный вывод, заставивший депутата аж вспотеть: «А ведь корабельник-то небось подлинный…»
Тем временем принесли черепаховый суп. Аромат от него исходил настолько безумный, что застольный этикет на мгновение оказался забыт. Федерал нетерпеливо зачерпнул прямо из супницы и вздрогнул всем телом, дуя на ложку, а Семён Петрович прозорливо подумал, что его гость переживал нечто вроде оргазма. Тем не менее чекист справился с собой, прикрыл дразнящую крышку и прояснил ситуацию. Оказывается, в последнее время из-за «дымки» начали возникать коридоры, по которым стало возможно перемещение в альтернативные хронологические пояса.
«Перемещение… – задумался Хомяков и пуще прежнего надул вислые щёки, наблюдая, как достойно, небольшими порциями, черепаховый суп перекочёвывает в тарелку, а из неё – в желудок собеседника. И куда, спрашивается, в человека столько влезает? Но вот влезает же. Обед стоил целое состояние, однако Хомяков был весьма далёк от сожалений о потраченных деньгах. Он нутром чуял: затраты окупятся сторицей. – Хронологические пояса… Перемещение…»
После супа принесли форель на вертеле в раковом соусе, шашлык из молодого осетра по-астрахански, зелёный салат «Фиалка Монмартра» и красное вино «Лыхны».
– Над проблемой целый отдел бьётся. – Чекист запил восхитительно нежную рыбу бокалом терпкого вина. – Только ни хрена у них не выходит, что у наших, что у американцев. Говорят, не хватает математической базы. А я так думаю, мозгов у них не хватает.
Вот тут он попал в самую точку. Учёные действительно до сих пор не знали, что делать. А Семён Петрович Хомяков с семью классами образования – знал. Перед его мысленным взором уже появились решительные молодые люди с автоматами Калашникова, берущие на гоп-стоп целые караваны, битком набитые высокопробной старинной рыжухой и столь же высококачественной наховиркой. Затем проплыли вереницы белокожих древнерусских красавиц в кокошниках, сдаваемых в аренду зарубежным любителям экзотики. А под конец в голову полезло такое, от чего натурально перехватило дух. Куда там гастрономическому оргазму его сотрапезника!.. Хомяков мысленно шарахнул двухкилограммовой гранатой ПГ-7В прямо в бритую харю позднеримскому цезарю-извращенцу. Потом в капусту покрошил калибром пять сорок пять сенаторов с охраной. И вот, как говорили древние, «финис коронат опус» – конец венчает дело, царствуй, дорогой Семён Петрович, на долгие годы, «кум део» – с Богом то есть…
Возвращение к реальности оказалось, правда, довольно суровым.
– А самое непонятное – это то, что с мозгами происходит по ходу перемещений во времени, – рассказывал «порченый высоковольтный». – Нам недавно в дурдоме прибывших демонстрировали… Не поверишь, люди из разных исторических эпох, говорят, тысячи лет их разделяют. Но все как один – шизанутые напрочь. И глаза у всех от ужаса – по полтиннику. Хотел бы я знать, что им там привиделось?
«Ну уж нет. Пускай дураки это выясняют…» Семён Петрович понял, что размечтался несколько рано. Следовало подумать ещё. Может быть, подождать. Ну что ж… Он подумает и подождёт…
Когда они встали из-за стола, скатерть, не осквернённая ни единой капелькой или крошкой, была по-прежнему девственно бела и чиста. Как свежевыпавший снег. Как совесть чекиста.
Похищение сантехника
Люди, имеющие к истинно православным примерно такое же отношение, как чуваки захарчёванные – к людям порядочным, некоторое время назад любили при каждом удобном и неудобном случае повторять: теперь-то, дескать, в России совершенно точно всё пойдёт на лад, поскольку нынешний Президент – человек верующий, а стало быть, высоконравственный.
Оставляя в покое как личную религиозность Главы нашего государства, так и его несомненно высокие нравственные достоинства, позволим себе сугубо в скобках заметить, что по такой логике Семён Петрович Хомяков был ну выставочным образцом добродетели. Он не просто блюл посты и подавал нищим у храма. Он этот самый храм выстроил самолично – в пригородном посёлке, где стоял его особняк, – и был за то удостоен церковной награды. Злые языки, правда, утверждали, что на колоколе той церкви была отлита уж очень странная надпись, чуть ли не «От братвы». Но злые языки для того и существуют, чтобы нести всякую околёсицу. А колокол висит высоко – без бинокля не разглядишь, что там на самом деле написано.
И надо ли говорить, что приборный щиток хомяковского «Мерседеса» вряд ли уступал средней руки иконостасу.
Должно ли было от этого всё пойти на лад в питерском ЗакСе, мы судить не берёмся, но вот то, что в своём личном промысле Семён Петрович определённо рассчитывал на помощь свыше, – это есть факт.
И не просто рассчитывал. Время от времени у него появлялись веские основания считать, что «оттуда» за ним в самом деле присматривали с самым благожелательным вниманием.
Позже он любил вспоминать, как, расставшись с чекистом, уселся за руль «шестисотого», – и ему, дескать, сразу же показалось, будто святые угодники, густо населившие торпедо, поглядывали на него значительно и с некоторой хитрецой. Мы, правда, думаем, что это была позднейшая аберрация памяти. Мог ли он догадаться, что его невысказанные пожелания были услышаны и приняты во внимание, более того – очень скоро ему будет явлен знак!
Только оказался этот знак весьма нетривиальным, поди распознай. Но таков уж обычай у Высших Сил, и ничего тут не поделаешь.
…Ресторан «Забава» помещался на Московском шоссе, особняк же Семёна Петровича, как и полагается жилищу деятеля такого масштаба, – на Приморском. К моменту нашего рассказа кольцевую дорогу ещё не достроили, поэтому, хочешь не хочешь, приходилось пересекать по диагонали весь город.
Так вот, когда впереди замаячила площадь Победы, Хомякова, по обыкновению сидевшего за рулём, посетила вполне авантюрная идея проехать в непосредственной близости от первоисточника дымки. Тщился ли он детской надеждой, что именно сейчас там снова появится вольтанутая марьяна, увешанная драгоценным рыжьём? Или рассчитывал, что вблизи «Гипертеха» его посетит особо ценная мысль?.. Трудно сказать. Факт тот, что Семён Петрович повернул руль, и вместе с ним, как выразился один умный писатель, повернула история.
По крайней мере – история, рассказываемая на этих страницах…
Чего Хомяков в принципе не боялся, так это того, что в радужных отблесках иномирового сияния у его машины безнадёжно заглохнет мотор. Ну заглохнет. Ну и плевать. Пацаны из джипа сопровождения выкатят на руках: не первый раз!
Мог ли знать Семён Петрович, с какой стороны подберётся к нему беда! Только-только он вырулил на Новоизмайловский, когда в животе внезапно заурчало, потом возникла характерная тяжесть и наконец бешено закрутился свинцовый ком. Господи, за что?! Можно было подумать, это сам Семён Петрович, а вовсе не его гость опустошил сегодня рыбные кладовые «Забавы»! Максимальная нужда навалилась внезапно и со всей беспощадностью, тут и поймёшь, с какой стати народная мудрость числит её одним из синонимов быстроты…
Конечно, кругом «Гипертеха» было полно пустующих домов, благополучно загаженных и до Хомякова, но кто поручится, что где-нибудь не щёлкнет затвор фотокамеры и мощный объектив не увековечит народного избранника за малопочтенным занятием?.. Большие люди, между прочим, на таких вот мелочах и погорали.
На своё счастье, Хомяков был депутатом со стажем. Он приезжал сюда непосредственно после взрыва, обещал разобраться и успокаивал жителей. Кто теперь помнил об этом?.. Зато сам Семён Петрович запомнил нечто жизненно важное. А именно – сортир в скверике на углу. И у него даже были основания полагать, что сортир, как ни странно, функционировал поныне. Ведь именно оттуда, по его же словам, вышел тот чувак за четверть часа перед тем, как наткнуться на свою марьяну!
Взревел шестилитровый двигатель, завизжали колеса… Святые угодники благополучно препроводили незаглохший «Мерседес» чуть не к самой двери обшарпанного заведения, но там-то Хомяков тормознул так, что машину, технически неспособную к заносам, занесло всё равно.
– Сидеть! – Волевым движением подбородка Семён Петрович вернул в машину выскочивших было телохранителей. И, на ходу расстегивая пряжку ремня, устремился к неказистой двери с самой значимой сейчас в мире буквой «М»…
От предельного напряжения он частично утратил обычную наблюдательность и даже не обратил внимания, что из недр сортира пахло совсем не отходами человеческой жизнедеятельности, а, наоборот, чем-то очень съедобным. Какое! Мироощущение сузилось до предела, Семён Петрович рванул дверь на себя…
И увидел такое, отчего его ноги враз ослабели, а перед глазами пошли красные круги. Вход туда, где маняще журчало, был заперт на швабру и, видимо для верности, заблокирован стулом. На стуле же восседал небритый помойщик, прикинутый в камуфляжную куртку, стоптанные ботинки и, представьте себе, подшлемник. Его поза выражала непреклонное намерение никого внутрь не пускать, а на роже читалось ехидное злорадство. Под стулом и вокруг него громоздилась сущая баррикада из бутылок. Естественно, пустых. От тридцать третьего портвейна.
– Отлезь, парашник!!! – страшным шёпотом выдохнул Хомяков.
Пьянчуга вдруг заулыбался, отчего из уголка рта потекла неопрятная струйка, и внезапно, заикаясь, сказал:
– Ты меня не гони. ОНА сейчас совсем нехорошая, а я ЕЁ насквозь вижу. Сейчас ОНА уйдет, тогда и пущу…
На мгновение Семён Петрович даже забыл про нужду, но только на миг. Как бы он повёл себя дальше и что бы из этого получилось, нам, впрочем, неведомо. Именно в это время один из хомяковских телохранителей, оставшихся снаружи, сообразил, что у Папы возникли какие-то палки в колёсах, и привычно ринулся на подмогу.
Ворвавшись внутрь, он отшвырнул пытавшегося что-то сказать помойщика, выдернул из двери швабру и устремился проверять кабинки сортира.
Вот отрывисто хлопнула крайняя дверца… Хомяков услышал жуткий, быстро унёсшийся вдаль мужской вопль, от которого снедавшая его нужда улеглась сразу и насовсем. А с трудом поднявшийся с пола пьянчужка погрозил пальцем и опять заладил своё:
– ОНА теперь совсем нехорошая. Говоришь вот, так не слушаете… Что ты, что эти… А я ЕЁ вижу! – И, оглянувшись, вдруг заулыбался. – Ушла ОНА. Пойду пол мыть…
И со шваброй наперевес двинулся к писсуарам.
Мгновение Семён Петрович пребывал в прострации, затем кинулся следом и, распахнув дверь той самой кабинки, не смог сдержать вопля.
Кабинка была пуста…
…Исследователи пишут, что христианская религия утратила чувство юмора уже давным-давно – веку этак к девятому. Но это касается лишь земных последователей данного конкретного вероучения. Там, Наверху, по-прежнему очень не против посмеяться и пошутить…
Информация к размышлению
Врага нужно знать! И с лица, и не только. С изнанки-то у него обычно самое интересное и располагается…
Капустин подготовил командиру компромат на Опарышева в лучшем виде. Распечатанный на цветном принтере, богато иллюстрированный… Иван Степанович велел Ефросинье Дроновне принести чайку, задраил на всякий случай блиндированную дверь кабинета и углубился в чтение.
Опарышев окончил Ленинградский политехнический институт в 1960 году. На первом и втором курсах его успеваемость была заметно выше, чем на последующих. Дипломный проект назывался «Регулятор мощности» и представлял собой «творческую обработку» одного из приборов, созданных в КБ Аналитического приборостроения, где Опарышев проходил преддипломную практику. Проекту была дана оценка «хорошо».
Распределение на работу он получил в Центральный научно-исследовательский институт преобразования энергии (ЦНИИПЭ)…
(Примечание Капустина: Вот тут, командир, непонятки. Я же проверил: институтик не богадельня какая, что-то вроде нашего «Гипертеха». Были одно время даже конкурентами по «Наркозу-1»… Короче, туда всю дорогу брали лучших из лучших. А тут – чуть не троечника!)
В ЦНИИПЭ Опарышев сперва был определён в Патентный отдел, но спустя несколько месяцев перевёлся в лабораторию, которой руководил сам директор – академик Добродеев И. Ю. Там он был опробован в нескольких группах. В итоге шеф подключил его к работе по подготовке к печати сборника трудов института. Здесь, по отзывам, он проявил рвение и организаторский талант и стал незаменимым помощником директора. Во всяком случае, тот даже отметил его работу в приказе по институту с вручением премии. Затем подключил Опарышева к подготовке издания своих научных трудов.
Вскоре Опарышева приняли в аспирантуру. Оценки на вступительных экзаменах: история партии – 4, английский язык – 5, специальность – 4.
(Примечание Капустина: Во, во, а я о чём?)
Насколько можно установить, Опарышев пунктуально посещал занятия в группах по подготовке к кандидатским экзаменам по философии и английскому языку и успешно сдал эти экзамены в установленный срок. Экзамен по специальности был ему оформлен по факту написания реферата, содержавшего предварительный перечень печатных и рукописных трудов академика Добродеева с краткими аннотациями. В этот же период ведомственные сборники опубликовали две научные статьи академика, написанные им по материалам исследований прошлых лет. В обе Опарышев был включён в качестве соавтора.
(Примечание Капустина: Я спрашивал, с какого перепуга, сказали знаешь что? Что аспиранту нужны публикации к защите, прикинь!)
Защита кандидатской диссертации прошла в положенный срок. Академик Добродеев лично подобрал оппонентов и ведущую организацию, договорился о сторонних отзывах, председательствовал на защите, так что она прошла на редкость гладко. Утверждение ВАКом[22] последовало через два месяца.
(Примечание Капустина: Ну прямо отец родной, блин.)
Правда, злые языки утверждали, что в основе диссертации Опарышева лежит давнее незавершенное теоретическое исследование Добродеева, которое академик якобы помог ему оформить в благодарность за рвение, проявленное в ходе подготовки к печати своих трудов…
(Примечание Капустина: Я ж говорил!)
Став кандидатом, Опарышев вскоре получил должность референта при академике и всецело занялся его текущими делами. Готовил различные документы, проекты, решения, отчёты, привлекая к этому любых сотрудников ЦНИИПЭ, готовил совещания и встречи, сопровождал академика в поездках и командировках. Вскоре он стал учёным секретарём института, начал регулярно ездить в Москву, отстаивая темы и их финансирование. С этого времени Опарышев регулярно появляется в числе авторов научных публикаций.
На похоронах Добродеева Опарышев возглавлял траурную комиссию. Очевидцы вспоминают, что он дал торжественный обет завершить работу по подготовке к изданию трудов академика.
На посту учёного секретаря у Опарышева дела всегда были в ажуре. Его хорошо знали и ценили в московских управленческих структурах. Он легко договаривался по любым вопросам. С охотой брался за организацию всевозможных ведомственных и межведомственных мероприятий…
(Примечание Капустина: Список прилагается, но читать не советую – помереть можно.)
По отзывам, вдохнул новую жизнь в сотрудничество ЦНИИПЭ с Академией наук. Стал там регулярно бывать и приобрёл значимый авторитет.
Менее чем через год научные статьи за его подписью пошли в разных изданиях буквально косяком.
Довольно скоро он привёз из ВАКа разрешение защищать докторскую диссертацию по совокупности своих печатных работ…
Вот это последнее обстоятельство надолго приковало к себе внимание Кудеяра. Как заслуживающее дальнейшего изучения. Причём самого пристального… Разобраться в научных тонкостях он не надеялся, но нюхом чувствовал: эту дверцу стоило хорошенько поскрести. Чего доброго, какой скелетик и вывалится. В памяти всплыл шуточный график, который, смеясь, когда-то показывала Маша. По горизонтальной оси были отложены годы деятельности учёного. С примерно проставленными этапами: молодой специалист… кандидат… доктор… членкор… и наконец – академик. По вертикальной оси стояли проценты и были вычерчены две кривые. Одна – относительные затраты времени на собственно научную работу. И вторая – участие в банкетах, презентациях, торжественных заседаниях. Эта кривая начиналась с нуля, потом начинала расти и с достижением академического звания выходила на максимум. А вот кривая научной работы неуклонно падала и в конце концов приближалась к нулю.
В каждой шутке, как говорится, есть доля шутки.
Получается, Опарышев являл собой некую аномалию? Научный вулкан, как следует заговоривший лет в сорок пять? Притом что начало биографии принадлежало скорее не открывателю и исследователю, а даровитому администратору от науки?..
Иван положил себе переговорить с Львом Поликарповичем и позвонил по внутреннему телефону Капустину, чтобы поблагодарить.
– Вот уж прав был дон Корлеоне, один хакер с ноутбуком наворует больше, чем десять гангстеров с автоматами, – сказал он в трубку. – Порадовал, Боренька, спасибо. Дал пищу голодному уму… Слушай, а с международным сотрудничеством у нас как? Движение хоть какое-нибудь есть?
Вот уже две недели Боря ночей не спал, пытаясь влезть в компьютер американцев. Те, конечно, в плане высоких технологий были не лыком шиты. Они защитились на совесть, согласно последнему писку компьютерной безопасности. Но зря ли на недавнем чемпионате программистов, проходившем в столице Японии, наша команда не только с триумфом заняла первое место, но и, говорят, перевернула теоретические основы программирования! И вообще, против РУССКОГО лома…
– Командир, ну ты легок на помине! – Голос Капустина звенел то ли от напряжения, то ли от радости. – Только хотел звонить тебе. Недолго мучилась старушка в бандита опытных руках… Я тебе минуту назад по локальной сети всё вывесил, посмотри!
– Ну молоток, – восхитился Скудин. – Сейчас посмотрю.
Монохорд (или всё-таки Монорхид? – Боря ещё не определился) в самом деле вывесил ему целую папку с файлами, содержавшими все стратегические, а также тактические разработки союзников. Кудеяр жадно углубился в их изучение… Уже через минуту ему здорово захотелось помянуть чью-то почтенную матушку, а через две он вскочил с кресла и заходил по кабинету, застарело жалея, что бросил курить.
Да, американцы не преминули лишний раз показать, кто в доме хозяин. Руины «Гипертеха» всё-таки решили взорвать. Да ещё и приурочили сие мероприятие ко дню своей национальной независимости. Видно, вспомнили фантастический фильм с тем же названием, в котором человечество, возглавляемое Америкой, именно четвёртого июля пресекало нападение злобных инопланетян. Вспомнили – и решили претворить в жизнь. Не иначе затем, чтобы отмыться от дерьма, в котором ныне сидели. И кто бы говорил, что это только у нас раньше всё подгадывали к празднику Великого Октября?.. При этом аргументы далеко не последних деятелей нашей науки – Звягинцева, свежеиспечённого пенсионера Пересветова, да не только их, но даже девятизвёздочного генерала, – были приняты к сведению. В переводе на общедоступный язык, ими тихо подтёрлись. Кто деньги платит, тот и музыку заказывает.
А ведь эта музыка обещала стать похоронной…
Тряхнув головой, Скудин уселся на место, снова пододвинул к себе распечатку Борькиных изысканий и принялся читать дальше, хмурясь и делая пометки карандашом. Пока было ясно одно. С Опарышевым придётся действовать не как когда-то с Кадлецом, а существенно, существенно тоньше. Иероглифы, смутно расшифровываемые как «ЛП!» – «Выяснить у Льва Поликарповича!» возникали на бумаге всё чаще…
Вечером, под самый конец рабочего дня, Кудеяр вызвал к себе Гринберга и Бурова.
– Съездите со мной, ребята?
Нет повести печальнее на свете…
На сей раз двигатель «Волги» заглох ажно на углу Ленинского проспекта. Выгрузившись, Скудин с ребятами на руках откатили машину на полсотни метров назад, чтобы водитель Федя мог запустить мотор и погреться. Топать до сгоревшей башни было километр с гаком.
– Ну, не скучай. Даст Бог, мы ненадолго…
Федя только вздохнул и вытащил из бардачка толстый журнал «100 новых сканвордов». Обложку украшала фотография Президента в горнолыжном костюме.
Погода продолжала творить чудеса. Вместо того чтобы сезонно изменяться во времени, она теперь повадилась меняться в пространстве. Там, где они оставили машину, уверенно держался кусочек осени. Со старинным золотом лип, вполне зелёной травой и прозрачным закатным небом, предвещавшим на завтра тихую благодать. А буквально через двести метров Скудин со спутниками ступили в добротно промороженный снег. Свет сразу померк, ноги обвили струи позёмки, «Волга» скрылась во мгле, над крышами домов повисли мрачные войлочные облака…
– Дуба дам, дуба дам… – на одной ноте, церковным басом негромко затянул Глеб, а Женя принялся тереть кончики мигом побелевших, помороженных ещё на Аляске ушей. Спецназовцы переглянулись и чисто из научного интереса отступили обратно. Осень послушно вернулась, на лобовом стекле оставленной за перекрёстком машины заиграли розовые блики…
Иван Степанович нахмурился и быстрее зашагал вперёд. Он даже начал жалеть, что не взял с собой никого из учёных. Им бы это наверняка было интересно. Пока шли до Бассейной, сезон сменился ещё трижды. Они повидали весну, снова зиму и чуть ли не лето, причём на востоке явственно занимался рассвет… Времена года и суток настолько лихо сосуществовали в пространстве, что поневоле напрашивалась мысль: на протяжении плюгавых полутора километров вольготно уживались разные временные пласты.
«Кабы не выплыть в каком-нибудь будущем, – на полном серьёзе забеспокоился Кудеяр. – Или, блин, в прошлом…»
При этом он всё косился на Глеба. У Бурова вид был сосредоточенный, но не тревожный. Будь здесь какая-то опасность, он бы её точно почувствовал. Иван в боевого товарища и его новые таланты верил непоколебимо.
Почему-то он даже не удивился, когда оказалось, что возле развалин царил тот же климат, что и в Гатчине: первый снег по колено, норовящий липким шматом свалиться с крыши на голову. Глеб и Женя, точно мальчишки, немедленно принялись лепить снежки и соревноваться в дальности броска. Глеб имел подавляющее преимущество в габаритах и рычагах, Гринберг брал отточенной техникой.
Иван же не торопясь зашагал вдоль стены, ограждавшей сгоревшую башню…
Заокеанский промышленный потенциал развернулся здесь во всей красе. Вокруг российской ограды – непрезентабельной, из серых бетонных плит, давно покрытых сомнительными рисунками, – американцы с хорошим отступом воздвигли свою, из высокопрочной сетки, а-ля федеральная тюрьма особо строгого режима. Намотали блестящую, с лезвиями, колючую проволоку, пустили по верху ток, завели дальнобойные прожектора… Мышь не проскользнёт, муха не пролетит… разве что белая. Рядом с проволочной стеной сиротски притулилось заведение туалетчика Петухова. Один Бог в точности ведал, чего стоило майору Собакину уломать американскую сторону, чтобы не отчуждали сортир, не лишали последнего. Правду сказать, с этим делом оказалось всё же попроще, чем с решением о взрыве. И всё оттого, что не говнюки подобрались, как в заоблачных судьбоносных верхах, а хорошие люди, нужду ближнего понимающие. Помнится, участковый пришёл с челобитной к Скудину, и тот посодействовал, помог, попросил экс-отца Брауна. И «товарищ негр» кроткому увещеванию внял, даже не пришлось, как тогда летом, в Заполярье, морды бить братанам во Христе. Последней же каплей, завершившей процесс убеждения, было надругательство над Шекспиром: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о закрытом туалете…» Кончив хохотать, расстрига Браун пообещал лечь костьми. И слово своё сдержал.
Вот и красовалось простое русское заведение чуть не в метре от границ зоны, на которую, без преувеличения можно сказать, с тревогой и страхом взирал весь остальной мир. А что? По России немножко поездить – ещё и не такое увидишь.
…Скудин подошёл вплотную к проволочной препоне, тронул пальцами обжигающе холодный металл, вздохнул. Теперь даже розу было толком не положить… Он резко повернулся и вприщур посмотрел на Бурова и Гринберга.
– Пойдёте со мной? – И коротко мотнул головой в сторону закопчённой руины. – Туда?
Спросил больше для порядка. Знал, что пойдут. Куда угодно. Хоть на край света. Да не на такой, куда приезжает на комфортабельном джипе рекламный мужик, а туда, где действительно – край. И чёртовы зубы.
– Если ты туда, командир, то и мы пойдем, – без колебания ответил Глеб за себя и за Женю. – Одного мы тебя погибать не отпустим. За компанию ведь, сам знаешь, жид повесился… – При этом он с самым невинным видом смотрел мимо Гринберга. Тот отдарил его орлиным взглядом. – А вообще-то знай, командир, теперь оттуда возврата нет. Будет как у американцев.
Ясно, какие американцы имелись в виду. Те, от которых осталась лишь окровавленная верёвка.
Глеб сплюнул и задумчиво смерил взглядом пятнадцатиэтажный огарок.
– Понимаешь, командир, там что-то есть. Ну, вроде маленькой червоточины, а из неё… лезет… Как дрожжи… Что-то чудовищной мощи, ни на что не похожее… Его нельзя осмыслить, логически понять, можно только ощутить, да и то… Я его чувствую, но не более. Оно со мной никаких дел иметь не желает, а уж слушаться и подавно. Как стихия, но некоторым образом организованная… Я для него – микроб, бессмысленная амёба…
Гринберг прицелился снежком в американский дальнобойный прожектор. Попал – и шкодливо засунул руки в карманы, изображая полнейшее «как вы могли про меня такое подумать?».
– Значит, микроб? Инфузория туфелька? – Скудин передёрнул плечами и вдруг, не сдерживаясь, на выдохе, что было силы пнул заокеанский, вбетонированный в землю столб, к коему крепилась сетка. Такими ударами человек убивается наповал, да ещё патологоанатомы потом всерьёз разбираются, не грузовик ли с кирпичами на него налетел. Но здесь была стена, к тому же сделанная на совесть. Сетка загудела, ухнула, заходила ходуном – и всё. Наступила тишина.
– Ладно, пошли, – мрачно сказал Кудеяр. И пошагал к оплоту российской государственности, чьи окошечки светились у американской стены. – Поговорим. Вдруг что умное скажут.
В сортире было хорошо. Если вдуматься, в сортирах всегда бывает хорошо. Даже в самых неухоженных и непотребных. Потому что выходит оттуда человек с душевным облегчением, с весельем на сердце. Зря ли даже праздник установлен – международный день сортира, отмечаемый в конце ноября!
Похоже, в петуховском заведении именно к этому празднику и готовились. Если в первый визит Скудина здесь ещё витал едва уловимый запах дерьма, то теперь его не было вовсе. Слишком давно скромный туалет, расположенный в покинутом жителями районе, не использовался народными массами по своему прямому назначению. Теперь он являлся скорее жилищем, и было в нём, как и положено быть в правильном жилище, тепло и уютно. А пахло – чем бы вы думали? – томлеными с салом, луком и зеленью питательнейшими диетическими яйцами. Это сам туалетчик Петухов, священнодействуя, жарил яичницу-глазунью по-украински с ветчиной. Майор Собакин резал хлеб, доставал из бочек капусту и огурцы, расставлял бутылки, гремел посудой, гоношил самовар…
Впрочем, со второго взгляда Кудеяр понял, что справляли здесь скорее поминки. На столе красовалась третья стопочка с прозрачной жидкостью, покрытая ломтиком хлеба.
И поскольку блистал своим отсутствием третий сортирный абориген, сантехник Евтюхов, сама собой напрашивалась мысль, что эта рюмочка предназначалась именно ему, вернее, его отлетевшей душе.
«Ох, до чего же некстати…» – мысленно застонал Иван. Несмотря на очень внятное предупреждение Глеба, он всё никак не мог отказаться от мысли, что Василий Дормидонтович по-прежнему знал какую-нибудь лазейку в развалины. Мимо цепких щупалец дымки, мимо смертоносных ловушек, куда проваливаются живые люди и дорогостоящие кибернетические танкетки… По лестнице на седьмой этаж, где свисает с потолка жирными хлопьями сажа… Куда он столько раз взбегал в своих снах, до того реальных, что всё тело поутру физически ныло…
– Что случилось? – спросил он, забыв поздороваться.
Петухов, маленький и морщинистый, похожий в своём ярком «Адидасе» на стареющего спортивного тренера, виновато вздохнул, развёл руками и перекрестился. Не уберегли, дескать, душу ангельскую, аминь.
– Он, как услышал, что башню летом рвануть хотят, сам не свой стал, – хмуро доложил Андрон Кузьмич.
«Услышал? Что башню взорвут? Да ещё именно летом? Откуда, интересно бы знать?..» – пронеслось в голове у Кудеяра. Он, при его-то допуске, сам это выяснил только сегодня, а если бы не компьютерный гений Борька, не знал бы и до сих пор.
– Он, сердешный, всё тебя ждал, Иван Степаныч, уж ты не серчай, – подхватил туалетчик. – Чтобы, значит, ты «самому» всё как есть разобъяснил про наши тутошние дела. Говорил, если, значится, взрыв сотворить, тут такие танцы пойдут, что проще сразу в гроб лечь и крышкой накрыться.
Иван вдруг представил себе большой лесной муравейник, от которого в разные стороны тянутся муравьиные тропки. Если аккуратно через них перешагивать, мимо муравейника можно более-менее нормально ходить. Можно даже – если знать как – перенести его в сторону, чтобы люди и муравьи не мешали друг другу. Американцы полагали, что взрыв возымеет эффект ведра с бензином и спички. Реально же… Скудин почему-то верил пророчествам сантехника Евтюхова гораздо больше, чем выкладкам учёных типа Опарышева, Кадлеца и Розенблюм. Так вот, по Евтюхову получалось, что человечеству скорее всего предстояло в этот самый муравейник усесться. Голой жопой. И это ещё мягко выражаясь.
– Случилось-то что? – повторил Кудеяр. И мотнул головой в сторону бывшего «Гипертеха»: – Он что… туда ушёл? И не вернулся?
– Не ведаем. – Майор Собакин снял фуражку, торжественно положил её на стол и тоже перекрестился. – Подшлемник его на углу Новоизмайловского подобрали третьего дня.
Петухов вдруг принюхался, всплеснул руками – и, явив неожиданную для его тщедушного сложения силу, сдёрнул с печки-«буржуйки» необъятную, явно очень тяжёлую сковороду, полную шипящей, пузырящейся благодати.
– Садитесь, что ли, помянем…
Парк юрского периода
– Спасибо, Юрочка, хорошая кашка, вкусненькая. – Натаха облизала ложку, вытерла руки о засаленную шевелюру и поднялась из-за стола. – Как в детском садике. Там Наташе такую же кашку давали, вкусненькую… А ещё там воспитательница была, Эльвира Самуиловна, злющая вся, чёрная, на носу бородавка. И котик рыженький, мягонький, пушистенький…
С некоторых пор она стала говорить о себе в третьем лице, и что бы сие значило? Может, на поправку пошла?
– Не за что, расти большая.
Юркан понёс кастрюлю с овсянкой в ванную. Электричества, отопления и воды давно уже не было, так что бывшая ванная служила чем-то вроде погреба. Потом Юркан сполоснул затрюханные тарелки – какое там «Фэйри»! – кончиками пальцев, в очень несвежем тазу. Фигня, в Афгане и не из такого жрали. Человек ко всему способен привыкнуть…
Да ещё как. Кажется, давно ли Юркан напросился к Натахе на постой, а смотри-ка ты, освоился, будто отродясь здесь и жил. Хорошо, тихо, спокойно… И, кстати, совсем не скучно. Натаха ему такое показала – ни в одном кино не увидишь, ни в какой фантастике с компьютерными спецэффектами… А самое главное, сюда ни одна сволочь не лезет. Так что Юркан даже не то чтобы ослабил бдительность – просто перестал ночами просыпаться от малейшего шороха, выхватывая инстинктивно из-под подушки наган.
У Натахи в квартире напрочь отсутствовали зеркала. Он не спрашивал почему. Нету, и не больно-то надо, всё равно ничего особо весёлого нынче там не увидишь. Оттого и случилось так, что с неделю назад, выбравшись в магазин за Московским проспектом купить вот этой самой овсянки, он посмотрел в стекло витрины, увидел там совершенно незнакомого мужика, с полминуты равнодушно смотрел на него… и лишь потом с удивлением сообразил, что рассматривает собственное отражение. Обросшего, в свирепой бороде, в незнакомой одежде – таким его признала бы разве только родная мама, да и то, надо думать, не сразу.
Это забавное происшествие навело его на неожиданные мысли. Полиэтиленовый пакет с деньгами, привезённый из дому, был отнюдь не бездонным. И успел за прошедшее время изрядно-таки похудеть, не в последнюю очередь оттого, что Юркан всё старался побаловать Натаху, угостить её чем-нибудь вкусным. (Его ли вина, что всем лакомствам она предпочитала детсадовскую овсянку!) Так вот, дело шло к тому, что даже на эту овсянку скоро не будет хватать. С другой стороны, по дворам торчало немало брошенных автомобилей, с номерами и без. Если приложить руки, из них, наверное, вполне можно было собрать один боеспособный агрегат… И ездить «бомбить», причём не слишком опасаясь гаишников. Им, говорят, почти всем нынче выдали ярко-красные шлемы и перевели в особое мобильное подразделение. Занималось это подразделение тем, что оцепляло радужно мерцавшие «дыры», которые всё чаще возникали то тут, то там на городских улицах. Так что ловить нарушителей, проверять документы и требовать мзду было теперь практически некому.
Оставалась, конечно, большая проблема в лице мафии, но и она… На прежней квартире Юркана вправду могли ожидать некоторые сюрпризы из числе неприятных и просто летальных, но здесь, в самой тени сгоревшего «Гипертеха», его искать явно никто не намеревался. Не февральские, всем жить охота. Да и не того калибра он был свидетель, чтобы с риском для себя облаву на него объявлять. «Негр» с кладбища! Такого либо пришибить сразу, либо плюнуть и позабыть. Таких, как он, месяцами по всему городу не выслеживают.
Натаха между тем накинула неизменный пуховик, кокетливо накрасила губы и повернулась к Юркану.
– Юрочка, пойдешь картиночки смотреть?
– Пошли, пошли, – сразу заторопился Юркан. – Давай, давай, веди, Сусанина дочь…
Ладно, пошли. На улице было тихо, в лунном свете кружился пушистый, точно на рождественской открытке, снежок. Впечатление портили только тёмные, пустые, выбитые окна облезлых «хрущоб». Зато стена, поставленная американцами, так и сверкала, металлическая сетка даже не думала ржаветь. Только знали бы штатовцы, что решетка эта – от дураков. Что же надлежит до умных людей…
– Наташа видит, вот здесь. – Натаха притормозила у явно засохшего, скрученного винтом деревца и, как-то смешно, очень по-детски взмахнув руками, оттолкнулась от земли. – Ап!
Она медленно поднялась в воздух, по немыслимой дуге перелетела решётчатую ограду, промежуток между стенами – и исчезла за бетонными плитами, седыми от инея и непогод. Со стороны это выглядело как «полёты» подхваченного проволокой Дэвида Копперфильда. Но только со стороны.
– Ха! – Юркан сиганул следом за Натахой и в который раз почувствовал себя мальчишкой на парковом аттракционе «Мёртвая петля». Тот же безумный восторг, то же замирание сердца. Да кто сказал, будто чудес не бывает! Его бы, идиота, сюда!..
Наконец замедленное, словно на Луне, парение завершилось, и Юркан приземлился рядом с Натахой у парковочной площадки. До выгоревшей башни института отсюда было рукой подать, однако ничего интересного там не было. Вот опасного – да, выше крыши. И в переносном смысле, и в самом прямом. То ли дело маленький скверик у северного крыла! Там, в пруду, прямо в воде, почему-то упорно не замерзавшей, с некоторых пор стали появляться объёмные цветные картины. Словно какой-то Стивен Спилберг подбирал и показывал эпизоды из фильмов о прошлом. Всегда разные и всегда интересные, но почему-то неизменно связанные с беспощадными сражениями либо людей, либо животных. То средневековые битвы, то кровавые нашествия каких-то древних завоевателей, то немецкие танки… Разок, помнится, Юркан увидел отвесную стену воды, словно бы мчавшуюся на него из тихой глубины пруда, и перепугался гораздо больше, чем танков.
Постепенно пруд начал казаться Юркану окном, выводившим в завлекательные, жуткие и безумно интересные миры. Раза два ему всерьёз хотелось нырнуть в прозрачную стоялую воду, да поглубже… Натаха не давала.
– Ещё не время, Юрочка, – говорила она. – Никуда, Юрочка, не попадешь, только мозги оставишь на дне. Пока ходить нельзя, смотреть можно только.
И вот Юркан с Натахой подошли к пруду, терпеливо дождались, пока легкий ветерок развеет пар над поверхностью…
Прямо на них, сверкая красными глазищами, пялился тысячезубый, явно хищный динозавр. Иллюзия присутствия была такой, что Юркан сперва шарахнулся прочь, но вовремя вспомнил про спецэффекты Стивена Спилберга и остался на месте.
Однако взгляд древней рептилии продолжал упорно сверлить его, наводя на нехорошие мысли, а потом чудовище разинуло пасть, в которую без труда поместились бы и Юркан, и Натаха, и… оглушительно заревело. Так, что в окрестных домах наверняка полопались уцелевшие стёкла.
Вот это было уже что-то новенькое. До сих пор «кино» всегда было немым.
Секунду спустя до Юркана дошло, что динозавр не просто сотрясал воздух. Он ВИДЕЛ и его, и Натаху. Точно так же, как они видели его.
И ящер соображал, как бы до них добраться…
И вот к поверхности с той стороны осторожно потянулась когтистая передняя лапа, странно маленькая для такой туши, не больше человеческой руки. Юркан судорожно глотал слюну, заворожённо следя, как она придвигалась всё ближе и ближе…
…И наконец пробила поверхность. По воде побежали круги. Секунду лапа чудовища – вполне вещественная, в броневой чешуе – торчала из пруда на добрых полметра, потом вдруг стала прозрачной и рассеялась облачком пара. Юркан выдохнул и посмотрел в воду.
Там вновь не было ничего, кроме тины и водорослей.
– Вот так, Юрочка, – печально проговорила Натаха. – Оживают наши картиночки, оживают. Это, Юрочка, цветочки. А взорвут башенку, тут-то пчёлки и прилетят…
Благородные заступники
Ох, что-то мало стали нынче радовать профессора Звягинцева телефонные переговоры с Америкой, некогда такие желанные…
– Изя, ты? Ну привет, привет. Голос молодой, говоришь? Наверно, в детство впадаю… Спасибо на добром слове, хотя хвастаться особо нечем. Последние новости насчет башни слыхал?
– Слыхал, слыхал! – Шихман в раздражении шмыгнул носом и, в очередной раз позабыв о несравненном качестве связи, вполголоса выругался на идиш. – Мне ли не слыхать! Кое-кто из свиты О’Нила диссертацию у меня защищал… Так что я в курсе всей этой фигни. Ну не идиот ли этот ваш Опарышев вместе с нашей Сарой Розенблюм и не нашим О’Нилом? Это же авантюра, дебилизм чистой воды! Способный привести к совершенно непредсказуемым последствиям, вообще к любой чертовщине! Мой секретарь уже послал официальное письмо в Белый дом. Боюсь только, как бы они не послали меня обратно… Вместе с моей личной позицией. Да что за мода такая пошла, везде всё взрывать? – горестно вопросил он с отчётливой интонацией отчаяния. Видимо, не очень-то надеялся на положительную реакцию Белого дома. – В Москве жилые дома грохнули, в Афганистане – древние статуи, в Нью-Йорке небоскрёбы вот уронили… Решили, видно, что Питер от жизни отстал? Искажает линию партии?..
Звягинцев ничего не ответил, только тяжело вздохнул в трубку. А что тут скажешь?..
Блистательная идея насчёт взрыва родилась в голове Сары Розенблюм. Лев Поликарпович не знал всех подробностей жизни этой кавалерственной дамы, но подозревал про себя, что горящие шкафы в разнесённом лабораторном зале на неё падали вряд ли. И уж точно не садились ей на щёку траурные хлопья копоти, отделившиеся от потолка последним ласковым поцелуем единственного ребёнка… Да Бог с ними, с покорёженными шкафами. Ей бы нашу, советскую биографию даже во вполне благополучном её варианте. Небось трезвее смотрела бы на вещи и лучше знала бы, что почём. А то увидела оборванную верёвку в крови – и повела себя, точно истеричка с гранатой из очередного фильма про инопланетян… Ну а последующие события заставили профессора Звягинцева серьёзно задуматься, так ли далеко ушли от психологии авторы безмозглой фантастики «экшен».[23] Той, где космические спецназовцы лезут исследовать брошенную станцию, облачившись вместо панцирных скафандров в камуфляжные маечки без рукавов. И на всё непонятное реагируют по одному принципу – вскидыванием лазерного ствола. Каким бы диким ни казался такой подход самому Льву Поликарповичу, идею взрыва активно поддержал Питер О’Нил. «Ах ты вот как, неведомая стихия? Ну так получи, фашист, гранату…»
По мнению профессора Звягинцева, поступать таким образом было всё равно что расстреливать электрическую розетку за то, что кого-то ухайдакало током. Даже нет, не так: не расстреливать, а разносить её ломом… вполне железным и очень электропроводным… Ну и что?.. Пока он изумлялся, как же может быть, что этого не понимают все остальные, идея перепуганной Сары стала воплощаться в конкретику стараниями академика Опарышева. Тут же выискался перспективный молодой учёный, выдвинувший довольно-таки поверхностное (на взгляд Льва Поликарповича) математическое обоснование полезности взрыва. Обоснование мгновенно опубликовали… И снова началось труднообъяснимое. Со всех сторон посыпались восторженные отзывы. Здравомыслящие вроде бы, вменяемые люди, нобелевские лауреаты, дружно кивали почтенными головами и благословляли молодого коллегу, а у Льва Поликарповича Звягинцева постепенно складывалось убеждение, что весь мир дружно решил спятить.
Или, может, это ему самому пора было на Пряжку?..[24] Порою заокеанский приятель Ицхок-Хаим Гершкович Шихман казался ему ещё одним островком в сплошном океане массового психоза. Порою же – будущим соседом по «палате номер шесть»…
Не без тайной мысли разобраться ещё и в этой проблеме он засадил свою «катакомбную академию» за виртуальный эксперимент. Что будет, если «Гипертех» в самом деле взорвут?..
Остальной мир подобными заморочками не страдал.
Взорвать проклятую башню, разнести её на куски – и к чёрту ненужные вопросы. Притом что вопросов накопилась гора. Высотой с эту самую башню. Куда деваются люди внутри периметра? Почему третьего дня к подножию башни упал словно магнитом притянутый вертолет? Отчего это в окрестностях зоны непредсказуемо меняется погода и весна преспокойно соседствует с осенью, не говоря уже о таких мелочах, как произвольные вариации на тему закона всемирного тяготения? Или там несоблюдение принципа электромагнитной индукции?.. Это ещё не считая уже окончательной мелочёвки типа закона Ома, токов Фуко, скорости химических реакций, спонтанной эманации в чёрт знает каком спектре, непонятных звуков и неведомых голосов. Нет, нет, лучше не забивать себе башку. Взорвать, вздохнуть с облегчением – и забыть.
– Знаешь, Изя, мы тут прикинули… пока только в первом приближении, но всё равно волосы дыбом, – глядя в окно на снег, кружившийся над парком Победы, тихо проговорил Лев Поликарпович. – Даже если сделать кучу оптимистичных натяжек… При взрыве произойдет резкая флуктуация напряженности полей, вследствие чего система окончательно лишится динамического равновесия. Кабы весь Питер… хлопьями не повис. На куполе у Исаакия… – Он сглотнул. – А если учитывать ещё теорию Вейника о векторе накопления хронального вещества… Как ты там говоришь-то? И совьётся небо в свиток? И станет солнце, как власяница?
– Луна, Лёва, Луна. Луна станет цветом, как власяница. А солнце вообще погаснет, – сказал на полном серьёзе Шихман, и в голосе его слышалась самая чёрная злоба. – Я вот подожду-подожду, что мне власти наши ответят… а потом возьму и нагряну к вам. Посмотрю в глаза этой суке Розенблюм… – Он снова, уже вслух, выругался на идиш, пожелав кому-то «попухнуть». – А с О’Нилом и с этой жопой Опарышевым погляделками не обойдется. Получат своё. Даром ли я столько лет ассенизатором протрубил…
Как на первый взгляд ни смешно, а всё-таки настроение у Льва Поликарповича чуть-чуть поднялось. Кому-то Иська Шихман, может, и показался бы Дон Кихотом, собравшимся воевать с ветряными мельницами, но только не ему. Он лучше других знал, на что был в действительности способен его старый приятель. Лев Поликарпович мысленно поставил его рядом с собой, и у другого плеча тотчас же незримо выстроились юные коллеги, вся его «катакомбная академия». Проплыл лик покойной Тамары Григорьевны, ступил с фотокарточки отец, приподнялся на больничной койке несчастный Володя, осязаемо коснулась руки дочь Марина… Выросла за спиной хмурая тень Скудина, окружённого решительными боевыми друзьями…
Лев Поликарпович невольно выпрямился и сказал телефонной трубке, уже опущенной на рычаг:
– Чёрт возьми! Да кто сможет нас победить?
Между тем разговаривал он с Америкой, держа в одной руке древние деревянные лыжи, а в другой – такую же древнюю баночку лыжной мази. И со спинки стула перед ним свисали полосатые, домашней вязки, толстые спортивные гетры, умудрившиеся нисколько не вылинять за добрых полвека.
Профессор действительно собирался кататься.
Ещё во времена счастливого супружества он установил в семье весёлый обычай: каждую зиму, как только всерьёз укладывался снег, они с женой торжественно отправлялись на лыжную прогулку. Иногда эта прогулка таки оказывалась единственной за весь сезон, поскольку ни Лев Поликарпович, ни супруга завзятыми спортсменами не были, – но что с того? Выезжали, и катались часик-другой, и возвращались, как гласит неувядаемый штамп из школьного сочинения, «усталые, но довольные»…
Так получилось, что в самый первый памятный раз они выехали на Пулковскую гору. И рядом, и всё-таки загород; есть и поле, и нечто вроде леса, представленного заиндевелыми яблоневыми садами вдоль Киевской трассы; а уж горок, чтобы скатываться с них и весело падать в сугробы…
Они и повадились туда ездить, не соблазняясь ни красотами Кавголова, ни ледяными просторами залива в Зеленогорске и Комарове.
Увы, счастье длилось недолго… Профессор остался вдовцом, зато начала подрастать дочка Марина. И через несколько лет он возобновил прерванную традицию – уже с ней.
А теперь в самый первый раз собирался кататься на лыжах один. Окончательно и бесповоротно один…
От этой мысли дурнотно и болезненно щемило в груди. Лев Поликарпович даже подумал, а не пригласить ли ему Скудина. Но такая мысль показалась ему уже окончательно дикой, и он продолжил свои сольные сборы.