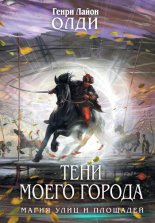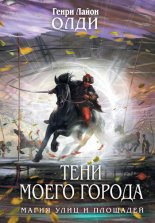Битва за Рим Маккалоу Колин
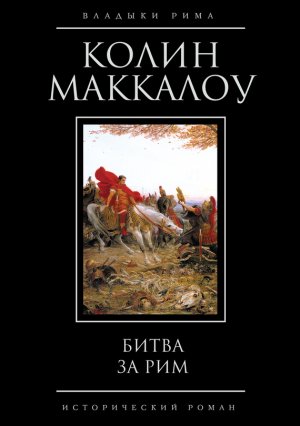
Colleen McCullough
THE GRASS CROWN
Copyright © 1991 by Colleen McCullough
All rights reserved
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers.
Серия «The Big Book. Исторический роман»
Перевод с английского Аркадия Кабалкина (части I–V, X), Ольги Вольфцун (части VI, VII), Анастасии Гамалей (части VIII, IX), Татьяны Шушлебиной (словарь-глоссарий)
Оформление обложки Вадима Пожидаева
Иллюстрации Колин Маккалоу
Карты выполнены Еленой Ивановой
© А. Ю. Кабалкин, перевод, 2018
© О. В. Вольфцун, перевод, 2018
© А. С. Гамалей, перевод, 2018
© Т. А. Шушлебина, перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
Посвящается Фрэнку Эспозито – с любовью, благодарностью, восхищением, уважением
К читателю
Для того чтобы мир Древнего Рима стал более понятным, в книгу включены карты и иллюстрации. В конце романа вы найдете словарь-глоссарий, в котором даны переводы некоторых латинских терминов и объяснение незнакомых слов и понятий, а также более подробные сведения о тех из них, смысл которых был ясен из текста. Приведены современные названия географических объектов, упомянутых в книге.
Главные герои
Цепионы:
Квинт Сервилий Цепион
Ливия Друза, его жена (сестра Марка Ливия Друза)
Квинт Сервилий Цепион-младший, его сын
Сервилия Старшая, его старшая дочь
Сервилия Младшая (Лилла), его младшая дочь
Квинт Сервилий Цепион (консул в 106 г. до н. э.), его отец, связываемый молвой с золотом Толозы
Сервилия Цепиона, его сестра
Цезари:
Гай Юлий Цезарь
Аврелия, его жена (дочь Рутилии, племянница Публия Рутилия Руфа)
Гай Юлий Цезарь-младший, его сын
Юлия Старшая (Лия), его старшая дочь
Юлия Младшая (Ю-ю), его младшая дочь
Гай Юлий Цезарь, его отец
Юлия, его сестра
Юлилла, его сестра
Секст Юлий Цезарь, его старший брат
Клавдия, жена Секста Юлия Цезаря
Друзы:
Марк Ливий Друз
Сервилия, его жена (сестра Цепиона)
Марк Ливий Друз Нерон Клавдиан, его приемный сын
Корнелия Сципиона, его мать
Ливия Друза, его сестра (жена Цепиона)
Мамерк Эмилий Лепид Ливиан, его брат, воспитывался в другой семье
Марии:
Гай Марий
Юлия, его жена (сестра Гая Юлия Цезаря)
Гай Марий-младший, его сын
Метеллы:
Квинт Цецилий Метелл Пий (Свиненок)
Квинт Цецилий Метелл Нумидийский (Свин, его отец, консул в 109 г., цензор в 102 г.)
Помпеи:
Гней Помпей Страбон
Гней Помпей-младший, его сын
Квинт Помпей Руф, его дальний родич
Рутилий Руф:
Публий Рутилий Руф (консул в 105 г.)
Скавры:
Марк Эмилий Скавр, принцепс сената (консул в 115 г., цензор в 109 г.)
Цецилия Метелла Далматика, его вторая жена
Суллы:
Луций Корнелий Сулла
Юлилла, его первая жена (сестра Гая Юлия Цезаря)
Элия, его вторая жена
Луций Корнелий Сулла-младший, его сын от Юлиллы
Корнелия Сулла, его дочь от Юлиллы
Вифиния:
Никомед II, царь Вифинии
Никомед III, его старший сын, царь Вифинии
Сократ, его младший сын
Понт:
Митридат VI Евпатор, царь Понта
Лаодика, его сестра и жена, первая царица Понта (умерла в 99 г.)
Низа, его жена, вторая царица Понта (дочь каппадокийца Гордия)
Ариарат VII Филометор, его племянник, царь Каппадокии
Ариарат VIII Евсевий Филопатор, сын Ариарата VII, царь Каппадокии
Ариарат X, сын Ариарата VIII, царь Каппадокии
Часть первая
– Самое примечательное событие за последний год и три месяца, – сказал Гай Марий, – это выступление слона, которого показывал Гай Клавдий на ludi Romani.
Лицо Элии вспыхнуло.
– Не правда ли, чудесно? – воскликнула она, потянувшись к блюду с крупными зелеными оливками, доставленными из Дальней Испании. – Ведь он умеет не только стоять, но и ходить на задних ногах. А танцует – на всех четырех! Еще он сидит на кушетке и ест хоботом!
Окинув супругу презрительным взглядом, Луций Корнелий Сулла холодно произнес:
– Почему людей всегда так восхищает, когда животные подражают человеку? Слон – благороднейшее творение природы. Зверь, представленный Гаем Клавдием Пульхром, кажется мне двойной пародией: и на человека, и на слона.
Последовавшая за этими словами пауза, несмотря на малую продолжительность, успела смутить всех присутствующих. Положение спасла Юлия: ее веселый смех отвлек внимание от злосчастной Элии.
– Что ты говоришь, Луций Корнелий! Он покорил всех, кто его видел! – пропела она. – Меня, к примеру, – совершенно! До чего умен, до чего деловит! А уж когда он поднял хобот и затрубил под барабан – о, это было просто чудо! К тому же, – добавила она, – ему никто не причинял боли.
– А мне понравился его цвет, – заявила Аврелия, которая тоже решила поддержать разговор. – Он такой розовый!
Луций Корнелий Сулла проигнорировал эти речи: опершись на локоть, он завел беседу с Публием Рутилием Руфом.
Погрустневшая Юлия вздохнула.
– Полагаю, Гай Марий, – обратилась она к мужу, – нам, женщинам, пора удалиться, чтобы вы, мужчины, могли вволю насладиться вином. Примите наши извинения.
Марий протянул руку над узким столом, отделявшим его ложе от стула Юлии. Она с теплотой прикоснулась к ладони мужа, заставляя себя не печалиться при виде его кривой улыбки. Столько времени минуло с тех пор, однако лицо Мария все еще несло следы коварного удара, который хватил его так некстати. Кое в чем она, как преданная и любящая жена, не могла признаться даже самой себе: после удара разум Гая Мария уже не был таким кристально-ясным, как прежде. Теперь он легко выходил из себя, придавал преувеличенное значение малейшим признакам неуважения (хотя зачастую они существовали исключительно в его воображении), стал более жесток к недругам.
Юлия поднялась, отняв у Мария руку с особенной улыбкой, предназначенной ему одному, и обняла Элию за плечи:
– Пойдем, дорогая, побудем в детской.
Элия встала. Аврелия последовала ее примеру. Трое мужчин прервали беседу в ожидании ухода женщин. Повинуясь жесту Мария, слуги проворно вынесли из столовой освободившиеся стулья и тоже удалились. В зале оставались только три ложа, составленные буквой П. Чтобы удобнее было беседовать, Сулла переместился с места, которое занимал возле Мария, на свободное третье ложе напротив Рутилия Руфа. Теперь все трое хорошо видели друг друга.
– Итак, Свин возвращается домой, – произнес Луций Корнелий Сулла, удостоверившись, что постылая вторая жена его не слышит.
Марий беспокойно шевельнулся на среднем ложе, хмурясь, но не столь зловеще, как прежде, когда паралич превращал левую половину его лица в посмертную маску.
– Какой ответ тебе хотелось бы услышать, Луций Корнелий? – спросил он наконец.
Сулла усмехнулся:
– Конечно честный. Впрочем, заметь, Гай Марий, в моих словах не содержалось вопроса.
– Понимаю. И тем не менее мне следует ответить.
– Верно. Позволь мне сформулировать ту же мысль иначе: каково твое отношение к тому, что Свин возвращается из изгнания?
– Что ж, я не склонен петь от радости, – ответил Марий, бросая на Суллу проницательный взгляд. – А ты?
Возлежащий на втором ложе Публий Рутилий Руф отметил про себя, что эти двое уже не так близки, как прежде. Три – да что там, даже два года тому назад! – они бы не беседовали с такой настороженностью. Что же произошло? И кто в этом виноват?
– И да и нет, Гай Марий. – Сулла заглянул в свой опустевший кубок. – Мне скучно! – признался он нехотя. – А с возвращением Свина в сенат можно ожидать занятных поворотов. Мне недостает вашей титанической борьбы.
– В таком случае тебя ждет разочарование, Луций Корнелий. Когда Свин вернется, меня в Риме не будет.
Сулла и Рутилий Руф разом приподнялись.
– Тебя не будет в Риме?! – переспросил Рутилий Руф срывающимся голосом.
– Именно, – подтвердил Марий и осклабился с мрачным удовлетворением. – Я как раз вспомнил обет, который дал Великой Матери перед тем, как разбил германцев: в случае победы я совершу паломничество в ее храм в Пессинунте.
– Гай Марий, ты не можешь этого сделать! – молвил Рутилий Руф.
– Могу, Публий Рутилий! И сделаю!
Сулла опрокинулся на спину, хохоча.
– О, тень Луция Гавия Стиха! – проговорил он.
– Кого-кого? – переспросил Рутилий Руф, неизменно готовый внимать слухам, чтобы потом их разболтать.
– Покойного племянника моей покойной мачехи, – объяснил Сулла, не переставая смеяться. – Много лет тому назад он перебрался в мой дом – тогда дом принадлежал моей ныне покойной мачехе. Он намеревался излечить Клитумну от привязанности ко мне, полагая, что сможет меня превзойти. Но я просто уехал – вообще уехал из Рима. В результате бороться стало не с кем. И очень скоро он превзошел самого себя, смертельно надоев Клитумне. – Сулла перевернулся на живот. – Через некоторое время после этого он скончался. – Голос Суллы звучал задумчиво; продолжая улыбаться, он издал театральный вздох. – Я разрушил все его планы!
– Что ж, будем надеяться, что возвращение Квинта Цецилия Метелла Нумидийского Свина окажется такой же пустой победой, – ответил Марий.
– За это я и пью, – сказал Сулла и выпил.
Вновь воцарилось молчание: былое единодушие исчезло, и тост Суллы не мог его возродить. Возможно, размышлял Публий Рутилий Руф, прежнее единодушие зиждилось на общих целях и боевом товариществе, а не на истинной, глубоко укоренившейся дружбе. Но как они могли забыть годы, проведенные в битвах с врагами родины? Как могли позволить домашней римской склоке затмить память о прошлом? Трибунат Сатурнина положил конец прежней жизни. Сатурнин, возжелавший сделаться правителем Рима, – удар, постигший Мария так не вовремя… Нет, все это чепуха, сказал Публий Рутилий Руф самому себе. Оба они – мужи, рожденные для великих дел, таким негоже сидеть дома, маясь от безделья. Случись война, которая потребует от них совместно взяться за оружие, или мятеж, раздуваемый новым Сатурнином, – и они заурчат на пару, словно довольные коты.
Конечно, время не стоит на месте. Ему, Руфу, как и Гаю Марию, уже под шестьдесят, Луцию Корнелию Сулле – сорок два. Не имея привычки разглядывать себя в зеркале, Публий Рутилий Руф не очень-то задумывался, как возраст сказался на нем, однако зрение его пока еще не подводило: сейчас он отлично видел обоих – и Гая Мария, и Луция Корнелия Суллу.
В последнее время Гай Марий несколько отяжелел, из-за этого даже пришлось заказать новые тоги. Впрочем, он всегда был крупным мужчиной, хотя и хорошо сложенным. Даже сейчас лишний вес равномерно распределялся по плечам, спине, бедрам и брюшку, вовсе не казавшемуся оплывшим; дополнительный груз не столько отягощал его, сколько разглаживал морщины на лице, которое стало теперь крупнее, округлее и значительнее, поскольку лоб сделался заметно выше из-за поредевших волос. И эти его знаменитые брови – кустистые, непокорные… Они всегда восхищали Публия Рутилия Руфа.
О, что за бурю священного ужаса вызывали брови Гая Мария в душах многочисленных скульпторов! Получив заказ на изготовление портрета Мария для какого-нибудь города, общины или просто незанятого пространства, куда просилась статуя, ваятели, жившие в Риме и в Италии, еще до встречи с Гаем Марием, уже знали, с чем им предстоит иметь дело. Но какой ужас отражался на лицах хваленых греков, выписанных из Афин или Александрии, стоило им узреть эти брови!.. И несмотря на все усилия мастеров, лицо Гая Мария, и не только на скульптурных, но и на живописных портретах, неизменно превращалось всего лишь в фон для его восхитительных бровей.
Как ни странно, самым лучшим портретом друга, какой доводилось видеть Рутилию Руфу, был грубый набросок, сделанный черной краской на внешней стене его, Рутилия Руфа, дома. Всего несколько линий: чувственный изгиб пухлой нижней губы, блеск глаз – как можно черным цветом передать блеск? – и не меньше дюжины штрихов на каждую бровь. Но Гай Марий был словно живой: горделивый, умный, упрямый, весь как на ладони. Вот только что это за искусство? «Vultum in peius fingere» – «с лицом искаженным»…[1] Когда искажение оборачивается правдой. Увы, прежде чем Рутилий Руф сообразил, как снять кусок штукатурки, не дав ему рассыпаться на тысячу кусочков, прошел ливень – и самого достоверного портрета Гая Мария не стало.
А вот с Луцием Корнелием Суллой этот номер бы не прошел, черно-белый набросок не передал бы его индивидуальности. Если бы не магия цвета, Сулла мало чем отличался бы от тысяч красавцев с правильными, истинно римскими чертами, о чем Гаю Марию не приходилось и мечтать. Портрет Суллы можно было бы написать только в красках. В сорок два года у него совершенно не поредели волосы – и что это были за волосы! Рыжие? Золотистые? Густая вьющаяся шевелюра – разве что длинновата. Глаза – словно горный ледник, светло-голубые, окаймленные синевой грозовой тучи. Сегодня его узкие изогнутые брови, как и длинные густые ресницы, имели темно-каштановый цвет. Однако Публию Рутилию Руфу доводилось лицезреть Суллу неготовым к приему посетителей, поэтому он знал, что тот их подкрасил сурьмой: на самом деле брови и ресницы Суллы были настолько светлыми, что вовсе потерялись бы, если бы не удивительно-белая, даже мертвенно-бледная кожа.
При виде Суллы женщины теряли благоразумие, добродетельность и всякое соображение. Они забывали осмотрительность, приводили в неистовство мужей, отцов и братьев, начинали бессвязно бормотать и хихикать – стоило ему бросить на них мимолетный взгляд. Какой способный, какой умный человек! Великий воин, непревзойденный администратор, муж несравненной храбрости; единственное, чего ему недостает, – так это умения организовать себя и других. И все же женщины – его погибель. Так, по крайней мере, думал Публий Рутилий Руф. Уж его-то внешность, приятная, но ничем не выдающаяся, и мышиный цвет волос никак не выделяли его среди множества других людей. Сулла не был ни развратником, ни коварным соблазнителем – во всяком случае, насколько было известно Рутилию Руфу, вел себя с похвальной сдержанностью. Но у человека с посредственной внешностью было больше шансов добраться до вершины римской политической лестницы: красавцы вызывали у соперников удвоенную зависть, не говоря уже о недоверии, а то и пренебрежении: мол, красавчики все неженки и мастера наставлять ближнему рога.
Рутилий Руф погрузился в воспоминания. В прошлом году Сулла выставлял свою кандидатуру на выборах преторов. Казалось, победа была ему обеспечена: он отличился в боях, о его доблести было хорошо известно, поскольку Гай Марий позаботился, чтобы избиратели знали, какую неоценимую помощь оказывал ему Сулла в качестве квестора, трибуна и легата. Даже Катул Цезарь воздал должное подвигам Суллы в год разгрома германского племени кимвров. (Хотя у Катула Цезаря имелись основания недолюбливать Суллу, который стал причиной его конфуза в Италийской Галлии, когда поднял против командующего мятеж, дабы спасти армию от полного истребления.) Именно Сулла, не ведающий усталости, энергичный и находчивый, вынудил Гая Мария покончить со смутой Луция Аппулея Сатурнина. Гай Марий только издал приказ, исполнение же взял на себя Сулла. Квинт Цецилий Метелл Нумидийский – тот, кого Марий, Сулла и Рутилий Руф дружно именовали Свином, – до своего изгнания неустанно разъяснял всем и каждому, что счастливым завершением африканской кампании против Югурты Рим обязан исключительно Сулле и что Марий приписал себе чужую победу. Ведь только благодаря усилиям Суллы удалось захватить в плен Югурту – а каждому ясно: останься Югурта на свободе, война в Африке продолжалась бы. Катул Цезарь и некоторые другие ультраконсервативные предводители сената согласились со Свином в том, что победа в Африке – заслуга Суллы. Звезда Луция Корнелия начала стремительное восхождение, и его избрание в числе шести преторов не вызывало теперь сомнений. К чести Суллы, следовало признать, что его поведение в этом деле было безукоризненным – он явил образец скромности и беспристрастности. До самого завершения избирательной кампании он настаивал, что пленение Югурты – заслуга Мария, поскольку сам он всего лишь выполнял приказ командующего. Подобное поведение обычно вызывало одобрение избирателей: преданность командиру на поле брани и на Форуме ценилась неизменно высоко.
И все же, когда выборщики от центурий собрались в Септе на Марсовом поле и стали по очереди оглашать результаты голосования, имени Луция Корнелия Суллы так и не прозвучало в числе шести удачливых кандидатов. Сулла был уязвлен таким итогом, тем более что некоторые избранники не могли похвастаться ни личными достоинствами, ни знатным происхождением.
Почему? После голосования Сулла то и дело слышал этот вопрос, однако хранил молчание. Сам он, впрочем, знал причину своего провала; спустя некоторое время она перестала быть тайной и для Рутилия Руфа, и для Мария. Все дело было в одном хрупком создании по имени Цецилия Метелла Далматика, особе всего девятнадцати лет от роду. Она приходилась супругой Марку Эмилию Скавру – консулу в год первого появления германцев, цензору в тот год, когда Метелл Нумидийский Свин отправился в Африку сражаться с Югуртой, и принцепсу сената со времен своего консульства, то есть на протяжении последних семнадцати лет. Далматика предназначалась в жены сыну Скавра, однако тот покончил с собой после отступления Катула Цезаря из-под Тридента, стыдясь собственной трусости. Тогда Метелл Нумидийский Свин, опекун семнадцатилетней племянницы, поспешно выдал ее за самого Скавра, несмотря на сорокалетнюю разницу в возрасте.
Никто, разумеется, не спрашивал у Далматики ее мнения относительно этого брачного союза, да оно и не сразу у нее сложилось. Сперва ей немного вскружили голову auctorias и dignitas новоиспеченного супруга. К тому же она была рада вырваться из дома своего дядюшки Метелла Нумидийского, где в то время обитала его сестрица, чьи порочные наклонности и истеричность делали совместное проживание невыносимым. Однако вскоре молодой матроне суждено было встретиться с Суллой – и вспыхнуло почти неодолимое взаимное влечение, чреватое бедой.
Сознавая, сколь это опасно, Сулла даже не пытался продолжить знакомство с юной супругой Скавра. У той, однако, возникли иные намерения. После того как изувеченные тела Сатурнина и его приспешников были со всеми полагающимися почестями преданы огню, а Сулла начал появляться на Форуме и в городе, набирая политический вес, в преддверии преторских выборов, Далматика тоже зачастила на Форум. Куда бы ни направлялся Сулла, повсюду присутствовала Далматика, должным образом закутанная и скрывающаяся за постаментом или колонной, дабы не быть замеченной.
Сулла скоро научился избегать мест, подобных портику Маргаритария, где женщины из благородных семейств имели обыкновение обходить ювелирные лавки и где их «случайная» встреча могла показаться вполне невинной. Это уменьшало шансы Далматики вступить с ним в беседу. Однако ее поведение все равно воскрешало в памяти Суллы старый кошмар, когда Юлилла буквально засыпала его любовными письмами, которые она или ее служанка запихивали в складки его тоги при любой возможности. Что ж, результатом этого стал брак – воистину нерасторжимый союз confarreatio, который принес обоим немало горестей, докуки и унижений, а завершился самоубийством Юлиллы. Еще одна жертва в нескончаемой череде женщин, жаждавших приручить Суллу.
Тогда-то Сулла и отправился в убогую, зловонную и многолюдную Субуру, чтобы выложить все единственному другу, чья поддержка была ему в тот момент столь необходима, – Аврелии, невестке его покойной супруги Юлиллы.
– Что же мне делать? – кричал он в отчаянии. – Я в ловушке, Аврелия! Повторяется история с Юлиллой: я не могу от нее избавиться!
– Беда в том, что все они изнывают от скуки, – с прискорбием молвила Аврелия. – С их детьми возятся няньки, встречи с подругами – только повод посплетничать, ткацкий станок заброшен, а головы чересчур пусты, чтобы они могли искать утешение в книгах. Большинство не питает никаких чувств к мужьям, ибо их выдают замуж по расчету: либо их отцам нужен дополнительный политический вес, либо их мужьям – приданое и знатность. Проходит год – и они готовы на любовную интрижку. – Аврелия вздохнула. – В конце концов, Луций Корнелий, хоть в любовных делах у них есть свобода – где еще она им предоставлена? Те, кто поумнее, развлекаются с рабами. А дуры влюбляются всерьез. Именно это, на беду, и случилось с Далматикой. Глупышка потеряла голову! Причина ее безумия – ты.
Сулла закусил губу и принялся рассматривать свои руки, чтобы не выдать потаенных мыслей.
– Я этого не хотел, – был его ответ.
– Я-то знаю. А как насчет Марка Эмилия Скавра?
– О боги! Надеюсь, он ни о чем не догадывается.
– А я полагаю, что он неплохо осведомлен, – возразила Аврелия.
– Почему он не ищет встречи со мной? Может, мне самому следует к нему явиться?
– Об этом я и размышляю, – ответила хозяйка инсулы, которой многие поверяли свои секреты, мать троих детей, одинокая жена, деятельная натура, удивительным образом сочетавшая кипучесть и такт.
Аврелия сидела у своего рабочего стола, просторного, но заваленного свитками и отдельными листочками; впрочем, на столе не было беспорядка: все свидетельствовало о большой занятости.
«Если она не сможет помочь, – размышлял Сулла, – то не поможет никто». Она – единственная, к кому он мог обратиться. Аврелия была искренним другом – и только. Метробий, другой давний и преданный друг Суллы, был еще и его любовником, а это всегда влечет дополнительные сложности. Накануне Сулла встречался с Метробием, и молодой греческий актер позволил себе едкое замечание по адресу Суллы и Далматики. Сулла был поражен: он впервые осознал, что о нем и Далматике судачит, должно быть, весь Рим, поскольку миры Метробия и Суллы почти не соприкасались.
– Так следует ли мне встретиться с Марком Эмилием Скавром? – повторил Сулла свой вопрос.
– Мне кажется, тебе стоит поговорить с Далматикой, только пока не соображу, как это устроить, – ответила Аврелия, закусив губу.
– Может, пригласишь ее сюда? – воодушевился Сулла.
– Об этом не может быть и речи! – возмутилась Аврелия. – Луций Корнелий, ты слывешь умным человеком, но порой здравый смысл тебе изменяет! Разве ты не понимаешь? Марк Эмилий Скавр наверняка следит за женой. Если что и спасало до сих пор твою белую шкуру, так только отсутствие улик.
Ее собеседник показал длинные клыки, и то была не улыбка: на мгновение Сулла сбросил маску, и Аврелия вдруг увидела кого-то совсем незнакомого. Но явилось ли это для нее неожиданностью? Вернее было бы сказать, что она догадывалась о существовании незнакомца, но никогда прежде с ним не сталкивалась. Лишенное человеческих свойств, оскаленное чудовище, способное только выть на луну. Впервые в жизни она испугалась всерьез.
По ее телу пробежала дрожь. Это насторожило чудовище и заставило спрятаться; Сулла снова укрылся за маской и застонал:
– Так что же мне делать, Аврелия? Что?
– Последний раз, когда я слышала от тебя упоминание о ней, – это было два года тому назад: ты говорил, что влюблен, хотя встречался с ней всего единожды. Опять-таки очень похоже на Юлиллу, и тем невыносимее. Конечно, она ничего не знает о Юлилле – за исключением того, что у тебя когда-то была жена, которая покончила с собой. Но это только прибавляет тебе привлекательности в ее глазах. Ведь это значит, что женщине опасно водить с тобой знакомство и уж тем более любить тебя. Каков соблазн! Нет, я боюсь, что малютка Далматика безнадежно запуталась в твоих сетях, хотя раскинул ты их ненамеренно.
Она немного поразмыслила, потом посмотрела ему прямо в глаза:
– Ничего не говори, Луций Корнелий, и ничего не предпринимай. Дождись, чтобы Марк Эмилий Скавр сам явился к тебе. Так тебя ни в чем нельзя будет упрекнуть. Только не дай ему повода для подозрений, даже самого пустякового. Запрети жене уходить, пока ты дома, чтобы Далматика не могла подкупить твоих слуг и таким путем проникнуть к тебе. Беда в том, что ты не понимаешь женщин и не слишком их любишь. Поэтому, когда они сходят по тебе с ума, ты теряешься и в тебе просыпается все самое худшее. Ее муж обязательно объявится у тебя. Но постарайся быть с ним любезным, заклинаю! Ему будет ох как неприятно наносить тебе визит – ведь он старик, муж молодой жены! И не носит рогов только из-за твоего безразличия. Поэтому ты должен сделать все, что в твоих силах, чтобы не задеть его гордость. В конце концов, он занимает не менее высокое положение, чем Гай Марий. – Она улыбнулась. – Знаю, Гай Марий с этим не согласился бы, но это так. Если ты стремишься стать претором, тебе нельзя оскорблять его.
Сулла выслушал советы, однако последовал не всем из них. Итак, он обзавелся непримиримым врагом, ибо не проявил должной обходительности – и не приложил ни малейших усилий, чтобы поберечь самолюбие Скавра.
Шестнадцать дней после его встречи с Аврелией прошли без происшествий, теперь он держался настороже, опасаясь соглядатаев Скавра и стараясь не дать ему ни малейшего доказательства неверности жены. Друзья Скавра и друзья самого Суллы обменивались понимающими ухмылками; уж они бы не пропустили ничего интересного; однако Сулла нарочито не замечал их.
Хуже всего было то, что он по-прежнему вожделел Далматику – или любил ее, или был ослеплен ею, или все вместе. Одним словом, история с Юлиллой повторялась: боль, ненависть, желание ринуться на любого, кто встанет ему поперек дороги. Мечты о любовных ласках Далматики сменялись мыслями о том, как он свернет ей шею и заставит плясать в агонии на залитой лунным светом поляне в Цирцеях, – о нет, так он убил свою мачеху! И все чаще Сулла выдвигал потайной ящичек шкафа, где хранилась посмертная маска его предка Публия Корнелия Суллы Руфина, фламина Юпитера, и вынимал пузырьки с ядами и коробочку со смертоносными порошками – так он убил Луция Гавия Стиха и силача Геркулеса Атланта. Грибы? Ими он отравил свою любовницу Никополис – отведай-ка их, Далматика!
Однако со времени смерти Юлиллы он многое переосмыслил и теперь лучше понимал самого себя; он не мог убить Далматику – так же как не мог лишить жизни Юлиллу. С женщинами из древних благородных семейств не существовало иного пути, кроме одного: довести дело до самого конца. И Сулла хорошо знал, что настанет день, когда они с Цецилией Метеллой Далматикой доведут до конца то, что он пока не решался даже начать.
Наконец Марк Эмилий Скавр постучался в его дверь – дверь, словно источавшую злодейство, помнившую руки тех, кто давно обратился в тени. Стоило Скавру коснуться этой двери, как яд проник внутрь, а у него лишь мелькнула мысль, что разговор будет тяжелее, чем он предполагал.
Усевшись в клиентское кресло, несгибаемый старик не сводил с бледного лица хозяина дома своих ясных зеленых глаз, словно споривших с морщинами на его лице и лысым черепом. Как бы ему хотелось не переступать этого порога, не ронять своей гордости, участвуя в этом фарсе!
– Я полагаю, ты знаешь, почему я здесь, Луций Корнелий, – молвил Скавр, глядя в глаза хозяину.
– Думаю, да, – был краткий ответ Суллы.
– Я намерен принести извинения за поведение моей жены и заверить тебя, что после нашего разговора приму меры, чтобы впредь у нее не было возможности досаждать тебе.
Уф! Кажется, проговорив заранее заготовленные слова, он остался жив и не сгорел со стыда. Однако, как ни бесстрастен был взгляд Суллы, старику все же почудилась в нем тень презрения, – вполне вероятно, только почудилась, но это сделало его врагом Суллы.
– Мне очень жаль, Марк Эмилий.
Ну скажи хоть что-нибудь, Сулла! Сними тяжесть с души старого олуха! Не вынуждай его сидеть перед тобой униженным! Вспомни советы Аврелии! Однако ему на ум не приходило ни единого спасительного словечка. Затем слова начали медленно шевелиться у него в мозгу, но язык будто окаменел.
– Было бы лучше для всех, если бы ты покинул Рим. Удались на время, скажем в Испанию, – наконец произнес Скавр. – Я слышал, что Луцию Корнелию Долабелле требуется помощь опытного человека.
Сулла замигал с деланым изумлением.
– Неужто? Я и не знал, что дело там приняло столь серьезный оборот! Однако, Марк Эмилий, я не могу сейчас сорваться с места и отправиться в Дальнюю Испанию. Я уже девять лет заседаю в сенате; настало время выдвинуть свою кандидатуру на должность претора.
Скавр судорожно проглотил слюну, но заставил себя продолжить учтивую беседу.
– Не в этом году, Луций Корнелий, – мягко произнес он. – На следующий год, годом позже… Сейчас тебе следует покинуть Рим.
– Марк Эмилий, я не совершил ничего предосудительного! – Нет, совершил, Сулла! Предосудительно то, что ты делаешь сейчас, ты топчешь его гордость! – Минуло уже три года с тех пор, как я достиг возраста, когда могу претендовать на должность претора, мое время истекает. Я выдвину свою кандидатуру в этом году, значит я должен оставаться в Риме.
– Прошу тебя пересмотреть это решение, – произнес Скавр, вставая.
– Не могу, Марк Эмилий.
– Если ты выдвинешь свою кандидатуру, Луций Корнелий, то, поверь, тебя будет ждать неудача. Как и на будущий год, годом позже и так далее, – предостерег Скавр, не повышая голоса. – Это я тебе обещаю. Запомни! Лучше уезжай.
– Повторяю, Марк Эмилий: я опечален происшедшим. Но я просто обязан остаться в Риме и добиваться преторской должности, – молвил Сулла.
Вот как обернулось дело. Оскорбленный и в auctoritas, и в dignitas, принцепс сената Марк Эмилий Скавр обладал достаточным влиянием, чтобы воспрепятствовать избранию Суллы. В списке фигурировали мелкие людишки, сплошь ничтожества, посредственности, дурачье. Что не помешало им стать преторами.
Публий Рутилий Руф узнал об истинном положении дел от Аврелии, своей племянницы. И, в свою очередь, пересказал историю Гаю Марию. То, что принцепс сената Скавр воспрепятствовал избранию Суллы, ни для кого не было секретом; но о причинах догадывались немногие. Поговаривали, правда, что виной всему было увлечение Далматики, однако после жарких дебатов общее мнение склонилось к тому, что это объяснение слишком поверхностно. Сам Скавр представлял дело так, будто он дал жене достаточно времени одуматься, а потом поговорил с ней (по его словам, обходительно, но с должной твердостью), из чего опять же не делал тайны ни от своих друзей, ни на Форуме.
– Бедняжка, этого следовало ожидать, – сочувственно делился он с каким-нибудь сенатором, убедившись, что его слышат и те, что прохаживаются неподалеку. – Я, правда, мог надеяться, что она выберет кого-нибудь другого, а не беспомощную креатуру Гая Мария, но, увы… Впрочем, готов признать: внешне он довольно привлекателен.
Проделано все было мастерски: завсегдатаи Форума и члены сената решили, что истинная причина неприятия Скавром кандидатуры Суллы заключается в известной всем и каждому связи между Суллой и Гаем Марием. Ведь карьера Гая Мария, шесть раз избиравшегося консулом, клонилась к закату. Его лучшие дни остались в прошлом, и он не мог заручиться достаточным количеством голосов, чтобы получить цензорскую должность. Это означало, что Гай Марий, прозванный Третьим Основателем Рима, никогда не сравняется с самыми выдающимися консулярами, которые все без исключения становились цензорами. Карта Гая Мария была бита, он слыл скорее любопытным экспонатом, нежели реальной угрозой, человеком, которого поддерживает разве что третий класс.
Рутилий Руф налил себе еще вина.
– Ты действительно намереваешься отправиться в Пессинунт? – спросил он Мария.
– Почему бы и нет?
– Как – почему? Я бы еще понял, если бы речь шла о Дельфах, Олимпии, даже Додоне. Но Пессинунт? Это же где-то в центре Анатолии, во Фригии! Самая настоящая дыра, дикая и полная суеверий! Ни капли благородного вина, ни одной пристойной дороги – только тропы для вьючных ослов! Сплошь грубые пастухи, галатийские дикари! Ну, Гай Марий! Уж не Баттакеса ли ты собрался лицезреть – в его расшитой золотом мантии и с драгоценными камнями в бороде? Так вызови его опять в Рим! Уверен, он будет рад возможности продолжить знакомство с нашими матронами – некоторые из них до сих пор безутешно оплакивают его отъезд.
Марий и Сулла начали смеяться задолго до того, как Рутилий Руф закончил свою пламенную речь; напряженная обстановка этого вечера неожиданно рассеялась, и они снова почувствовали себя вполне свободно в обществе друг друга.
– Ты хочешь взглянуть на царя Митридата, – произнес Сулла, и это был не вопрос, а утверждение.
У обоих его собеседников взлетели вверх брови. Марий хмыкнул:
– Что за невероятное предположение? Откуда у тебя такая мысль, Луций Корнелий?
– Просто я хорошо тебя знаю, Гай Марий. Для тебя не существует ничего святого. Единственный обет, который я от тебя слышал, заключался в обещании надрать легионерам задницы; военным трибунам ты тоже давал такой обет. Есть лишь одна причина, которая побудила бы тебя тащиться в анатолийскую глушь, невзирая на тучность и дряхлость: ты хочешь своими глазами посмотреть, что творится в Каппадокии, и выяснить, насколько в этом замешан царь Митридат.
Говоря это, Сулла улыбался такой счастливой улыбкой, какая не озаряла его лицо уже многие месяцы.
Марий в изумлении повернулся к Рутилию Руфу:
– Надеюсь, не все могут читать мои мысли, как Луций Корнелий!
Пришел черед Рутилия Руфа расплыться в улыбке.
– Сомневаюсь, что кто-то еще мог бы разгадать даже часть твоих намерений. А я-то поверил тебе, старый безбожник!
Голова Мария помимо его воли (во всяком случае, так показалось Рутилию Руфу) повернулась в сторону Суллы, и они снова принялись обсуждать вопросы высокой стратегии.
– Беда в том, что наши осведомители крайне ненадежны, – с жаром принялся объяснять Марий. – Ну скажи, кто из стоящих людей бывал в тех краях за последние годы? Выскочки, мечтающие стать преторами, среди которых я никому не доверил бы написать подробный доклад. Что мы, собственно, знаем?
– Очень мало, – ответил ему увлекшийся Сулла. – С запада в Галатию несколько раз вторгался царь Вифинии Никомед, с востока – Митридат. Несколько лет назад старикан Никомед женился на матери малолетнего царя Каппадокии, – по-моему, она состояла при сыне регентшей. Благодаря этому браку Никомед стал именоваться царем Каппадокии.
– Стал-то он стал, – подхватил Марий, – но, полагаю, очень огорчился, когда Митридат приказал убить ее и посадить на трон мальчишку. – Он тихонько засмеялся. – Не видать Никомеду Каппадокии! Не понимаю, как он мог вообразить, что ему сойдет это с рук, тем более что убитая царица приходилась Митридату сестрой!
– Ее сын правит страной до сих пор, именуясь – о, у них такие чудные имена! – кажется, Ариаратом? – спросил Сулла.
– Точнее, Ариаратом Седьмым, – молвил Марий.
– Что же там, по-твоему, происходит на самом деле? – не отставал Сулла, заинтригованный очевидной осведомленностью Мария в запутанных родственных отношениях восточных властителей.
– Обычные трения между Никомедом Вифинским и Митридатом Понтийским. Больше наверняка я ничего не знаю, но сдается, молодой царь Митридат – занятный субъект. Мне и впрямь хочется с ним повидаться. В конце концов, Луций Корнелий, ему немногим более тридцати, а он уже существенно расширил свое царство, раньше он правил только Понтом, а теперь его владения включают лучшие земли вокруг Эвксинского моря. У меня мурашки бегут по коже. Я предвижу, что он станет угрозой интересам Рима.