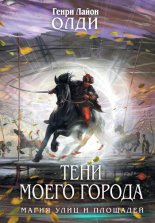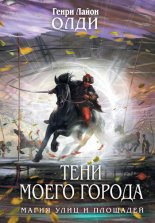Битва за Рим Маккалоу Колин
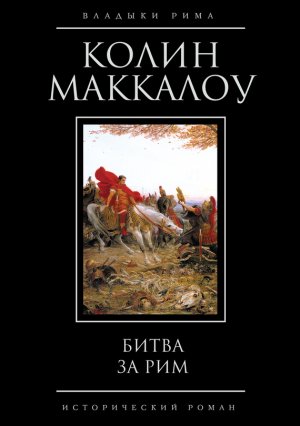
Прошу, Квинт Поппедий, сделай все, что можешь, чтобы убедить этрусков и умбров прекратить жалобы. Мне совсем ни к чему препятствия, чинимые прежними владельцами земель, которые я пытаюсь раздать.
Но ответ Силона настораживал:
Увы, Марк Ливий, в Умбрии и в Этрурии я не пользуюсь влиянием. Там и там живет упрямый народ, сильно приверженный своей автономии и настороженно относящийся к марсам. Готовься к двум трудностям. Об одной открыто говорят на севере. О другой я услышал по чистой случайности и весьма встревожен.
Сначала о первой. Крупные этрусские и умбрийские землевладельцы собираются отправить в Рим депутацию, которая будет протестовать против раздела римских общественных земель. Их довод (не могут же они признать, что жульничали с межеванием) состоит в том, что римские ager publicus в Этрурии и Умбрии существуют так давно, что изменили и способы хозяйствования, и население. Они утверждают, что наплыв мелких землевладельцев погубит Этрурию и Умбрию. По их словам, в городах уже нет лавок и рынков, которыми бы заправляли мелкие собственники; лавки превращены в склады, потому что владельцы латифундий и их управляющие предпочитают оптовые закупки. Кроме того, крупные землевладельцы готовы освободить своих рабов, не заботясь о последствиях. В итоге тысячи вольноотпущенников превратятся в бродяг, что приведет к разным бедам, включая грабежи и мародерство. Этрурии и Умбрии, дескать, придется самим оплачивать возвращение этих людей домой. И так далее. Будь готов к встрече с этой депутацией!
Вторая помеха может быть еще опаснее. Некоторые горячие головы у нас в Самнии, утратив надежду как на гражданство, так и на мир, намерены показать Риму степень своего недовольства на празднике Юпитера Лацийского на Альбанской горе. Они задумали убить консулов Секста Цезаря и Филиппа. План тщательно проработан: они кучей набросятся на консулов, когда те будут возвращаться в Рим из Бовилл, превысив числом участников этой мирной процессии.
Постарайся сделать все, чтобы успокоить землевладельцев из Умбрии и Этрурии и предотвратить покушение. Есть и более радостное известие: все, кому я предлагаю дать клятву личной преданности тебе, делают это с большой охотой. Клиентура Марка Ливия Друза неуклонно разрастается.
Хотя бы одна добрая весть! Друз задумался над остальным, безрадостным содержанием письма Силона. С италийцами из Этрурии и Умбрии он мало что мог поделать, разве что выступить перед ними на Форуме с какой-нибудь потрясающей речью. Что касается плана убийства консулов, то ему ничего не оставалось, кроме как предостеречь самих консулов. Те же непременно станут выпытывать, откуда он об этом узнал и не примут уклончивых ответов, особенно Филипп…
Поэтому Друз решил увидеться не с ним, а с Секстом Цезарем и не делать тайны из источника своих сведений.
– Я получил письмо от моего друга Квинта Поппедия Силона, марса из Маррувия, – начал он разговор с Секстом Цезарем. – Похоже, шайка недовольных самнитов решила, что единственный способ заставить Рим предоставить гражданство италикам – продемонстрировать, что они не остановятся даже перед насилием. На тебя и на Луция Марка готовится напасть большой вооруженный отряд самнитов. Это произойдет во время вашего возвращения с Латинского праздника по Аппиевой дороге, где-то между Бовиллами и Римом.
Для Секста Цезаря это был неудачный день: он дышал с громким свистом, у него посинели губы и мочки ушей. Но он привык к своему недугу и даже пролез, невзирая на него, в консулы, опередив своего кузена Луция Цезаря, раньше его занимавшего должность городского претора.
– Я выражу тебе благодарность в сенате, Марк Ливий, – молвил старший консул, – и позабочусь, чтобы принцепс сената отправил от нашего имени благодарственное письмо Квинту Поппедию Силону.
– Прошу тебя, Квинт Юлий, не делай этого! – взмолился Друз. – Гораздо лучше будет никому ничего не говорить, а просто привести из Капуи несколько бравых когорт и попытаться захватить самнитов. Иначе они будут предупреждены, что заговор раскрыт, и откажутся от своего намерения. Луций Марций, второй консул, усомнится в его существовании. Заботясь о своей репутации, я бы предпочел, чтобы недовольных самнитов поймали с оружием в руках. Тогда мы смогли бы преподать Италии урок, подвергнув бичеванию и казнив всех участников покушения. Италия убедилась бы, что насилием ничего нельзя добиться.
– Понимаю тебя, Марк Ливий, и поступлю соответственно, – решил Секст Юлий Цезарь.
Несмотря на недовольство италийских землевладельцев и готовность самнитов пойти на убийство, Друз продолжил свой труд. Этруски и умбры, нагрянувшие на Форум, повели себя, к счастью, так надменно и вызывающе, что всех настроили против себя, получили резкий отпор и были отправлены восвояси, не приобретя сторонников. Секст Цезарь поступил в точности так, как просил его Друз, поэтому когда самниты напали на мирную с виду процессию близ Бовилл, их смяли прятавшиеся на кладбище на другой стороне Аппиевой дороги когорты легионеров; некоторые погибли в бою, но большинство были схвачены живыми, подвергнуты бичеванию и казнены.
Друза заботило другое, хотя именно этого, как он понимал, и следовало ожидать. Согласно его аграрному закону, вступившему в силу, всем римским гражданам полагалось по десять югеров общественных земель. Члены сената и представители первого класса должны были получить свои участки первыми, а неимущие, capite censi, последними. Считалось, что в Италии набираются миллионы югеров общественной земли, но Друз сомневался, что когда дойдет до самого низа, до неимущих, тем хоть что-то достанется. А как знали все, гневить чернь было опасно. Значит, за землю им полагалась компенсация. Вариант был один – хлеб по сниженной цене, не меняющейся даже в голодные времена. Друз отлично представлял, какая битва развернется в сенате из-за lex frumentaria, подразумевающего неизменно дешевый хлеб для неимущих.
В дополнение к его тревогам попытка покушения во время Латинского праздника так потрясла Филиппа, что он поднял на ноги своих друзей по всей Италии, а в мае заявил в сенате, что в Италии неспокойно, ходят разговоры о войне с Римом. При этом всем своим видом он давал понять, что совсем не напуган и собирается преподать италикам заслуженный урок. Он предложил отрядить одного претора на север от Рима, одного на юг, чтобы они доложили сенату и народу Рима, что, собственно, происходит.
Катул Цезарь, сильно пострадавший в Эсернии, где председательствовал в специальной комиссии, учрежденной во исполнение lex Licinia Mucia, счел это прекрасной идеей. Претора Сервия Сульпиция Гальбу без промедления отправили на юг, претора Квинта Сервилия из семейства Авгуров – на север. Обоим позволили взять с собой легата, обоих наделили проконсульским империем и дали в дорогу денег, которых хватило даже на оплату телохранителей из бывших гладиаторов.
Известие об отправке сенатом двух преторов для изучения того, что Катул Цезарь упорно называл «италийским вопросом», очень не понравилось Силону. Самнит Мутил, и без того возмущенный бичеванием и казнью двухсот храбрецов на Аппиевой дороге, был склонен счесть это новое оскорбление объявлением войны. Друз в отчаянии писал обоим письмо за письмом, умоляя успокоиться и дать ему шанс.
Одновременно он препоясывал чресла, не страшился битв и настойчиво твердил в сенате о своих планах раздачи дешевого зерна. Дешевое зерно, как и общественная земля, не могло предназначаться одной лишь черни. Всякий римский гражданин, готовый выстоять длинную очередь к столу эдилов у портика Минуция, мог получить официальную расписку на пять модиев общественного зерна, явиться в государственное зернохранилище под Авентинским холмом, предъявить расписку и везти свое зерно домой. Некоторые весьма богатые и уважаемые граждане не брезговали этой привилегией – кто-то из-за патологической скупости, кто-то из принципа. Но большинство тех, кто мог себе позволить сунуть управляющему несколько монет и приказать ему купить зерна у торговца на Этрусской улице, пренебрегали своим правом и не получали расписок на дешевое зерно. В сравнении с другими расходами на жизнь в городе – например, с астрономической арендной платой, пятьюдесятью-ста сестерциям в месяц на человека, – деньги, уходившие на покупку зерна у частных торговцев, составляли столь малую сумму, что ей можно было пренебречь. Поэтому подавляющее большинство толпившихся в очереди за расписками были либо нуждающимися гражданами пятого класса, либо вовсе неимущими.
– Земли точно не хватит на всех, – объяснял Друз в сенате, – но мы не должны ни о ком забывать, не должны давать им оснований думать, что их снова обошли. Римская житница велика, отцы, внесенные в списки, она способна накормить все рты Рима! Если мы не можем дать неимущим землю, то обязаны дать им дешевый хлеб. По твердой цене – пять сестерциев за модий – в любой, урожайный и неурожайный, год. Это само по себе облегчит бремя, лежащее на нашей казне: в годы, когда пшеницы избыток, казна покупает ее за два-четыре сестерция за модий. Продавая по пять, она получит хоть небольшую, но прибыль, что снизит нагрузку в неурожайные годы. По этой причине я предлагаю завести особый казенный счет на покупку исключительно пшеницы. Мы не должны допустить ошибку, не должны финансировать закон за счет других государственных средств.
– Как же, Марк Ливий, ты предлагаешь оплачивать эту великую щедрость? – протянул Луций Марций Филипп.
Друз улыбнулся:
– Я все продумал, Луций Марций. В моем законе есть раздел о снижении стоимости обычной нашей денежной единицы.
Сенат зароптал; слово «обесценивание» никому не нравилось, потому что отношение к fiscus у большинства было резко консервативное. В римской политике не было принято обесценивать монету, что считалось греческой уловкой. К ней прибегали только во времена Первой и Второй Пунических войн с Карфагеном, но и тогда больше с целью стандартизировать вес монеты. При всем своем радикализме в других областях вес серебряной монеты Гай Гракх только повысил.
Неустрашимый Друз принялся разъяснять:
– Каждый восьмой денарий будет отливаться из бронзы с примесью свинца, чтобы уравнять его вес с весом серебряной монеты, а потом покрываться серебром. Я произвел подсчеты, исходя из самой безрадостной предпосылки: предположил, что на пять неурожайных лет у нас будет приходиться только два урожайных года, хотя на самом деле, как вам всем известно, это чрезмерный пессимизм. В действительности урожайных лет у нас бывает больше, чем неурожайных. Тем не менее нельзя исключить новый период голода, как случилось во время войны с рабами на Сицилии. К тому же чеканить посеребренную монету более трудоемко, чем чисто серебряную. Потому я и свел свою программу к одному денарию из восьми, да и получится это, вероятно, только с каждым десятым. Как вы понимаете, казна в убытке не останется. Тем, кто ведет расчеты на бумаге, это тоже не навредит. Наибольшая тяжесть ляжет на плечи тех, кто пользуется исключительно монетами, и – по-моему, это важнее всего – мы избежим проклятия прямого налогообложения.
– Зачем утруждаться и покрывать серебром каждую восьмую монету, не проще ли чеканить так каждую восьмую партию монет? – спросил претор Луций Луцилий, никогда не лезший за словом в карман (как и вся его семейка), зато полный тупица в арифметике, не ведавший, что такое практичность.
– Полагаю, – терпеливо отвечал Друз, – жизненно важно, чтобы никто не мог отличить серебряную от посеребренной монеты. Если отлить целый выпуск бронзы, то такие монеты никто не станет принимать.
Lex frumentaria Друза каким-то чудом прошел. При поддержке казначейства (произведшего подсчеты и представившего те же, что и Друз, выводы о выгоде девальвации) сенат одобрил вынесение закона на обсуждение народным собранием. Там самые влиятельные всадники быстро смекнули, что почти ничего не теряют, поскольку при расчетах редко пользуются наличностью. Конечно, все прекрасно понимали, что закон затрагивает каждого, и видели различие между полновесной монетой и клочками бумаги; но они были прагматиками и отлично знали, что подлинная цена всяких денег зависит от веры людей, которые ими пользуются.
К концу июня закон уже красовался на медных досках. В последующие годы общественное зерно должно было продаваться по пять сестерциев за модий; квесторы, приставленные к казне, уже планировали первый выпуск подешевевшей монеты, а viri monetales готовились к чеканке. Все это требовало, конечно, некоторого времени, но ответственные чиновники докладывали, что к сентябрю каждый восьмой новый денарий будет посеребренным. Конечно же, раздавались и недовольные голоса. Цепион не переставал протестовать, всадников не слишком устраивало победоносное шествие Друза, а римская беднота подозревала, что властители каким-то образом водят ее за нос. Но Друз не был Сатурнином, и сенат был признателен ему за это. Проводя contio в плебейском собрании, он настаивал на соблюдении благопристойности и законности; если тому или другому что-либо угрожало, он немедленно распускал людей. Он не бросал вызова авгурам, никому не выкручивал рук.
В конце июня претворение в жизнь программы Друза пришлось прервать: наступил летний сезон, и в работе сената и комиций был сделан перерыв. Радуясь передышке – всеобщая расслабленность действовала и на него, – Друз тоже покинул Рим. Мать и всех шестерых детей, вверенных ее заботам, он поселил на своей роскошной приморской вилле в Мизене, а сам отправился сперва к Силону, потом к Мутилу, чтобы объехать вместе с ними всю Италию.
Ему не могла не броситься в глаза готовность всех италийских племен в центре полуострова взяться за оружие; путешествуя в обществе Силона и Мутила по пыльным дорогам, он наблюдал хорошо вооруженные укомплектованные легионы, тренировавшиеся вдали от Рима и поселений Лация. Но он помалкивал и не задавал вопросов, убедив себя, что их военное мастерство не понадобится. Предприняв невиданные законотворческие усилия, он сумел убедить сенат и плебейское собрание в необходимости судебной реформы, увеличения числа сенаторов, раздачи общественных земель и хлеба. Никому еще – ни Тиберию Гракху, ни Гаю Гракху, ни Гаю Марию, ни Сатурнину – не удавалось провести столько спорных законов ненасильственно, без борьбы в сенате и без противодействия всадников. Все потому, что ему верили, его уважали. Теперь он знал, что, когда он огласит свое намерение предоставить римское гражданство всем италикам, римляне пойдут за ним, хотя и не все. Цель будет достигнута! А значит, его, Марка Ливия Друза, клиентурой станет четверть населения всего римского мира, ибо в личной верности ему теперь клялись по всему Апеннинскому полуострову, даже в Умбрии и Этрурии.
За восемь дней до возобновления заседаний сената в сентябрьские календы Друз подался на свою виллу в Мизене, чтобы немного отдохнуть перед началом трудной работы. Он уже давно понял, что мать – не только радость, но и утешение его жизни: она была остроумна, начитана, понятлива, почти по-мужски разбиралась в этом мужском мире. Живо интересуясь политикой, она гордо и с удовольствием следила за законотворческой деятельностью сына. Свободолюбие, унаследованное от Корнелиев, толкало ее к радикализму, но присущий тем же Корнелиям консерватизм позволял ей оценить то, как хорошо ее сын разбирается в реалиях сената и народного собрания. Она одобряла его решение отказаться от насилия и угроз и прибегать к единственному оружию – убедительным и разумным речам. Это и есть по-настоящему великий политик! Именно им был Марк Ливий Друз, и она не могла нарадоваться, что он пошел в нее, а не в своего тупоумного, заносчивого скандалиста-папашу.
– Что ж, ты блестяще провел аграрный закон и разобрался с низшими классами, – похвалила она его. – Что дальше?
Он набрал в легкие воздуха и, глядя ей в глаза, твердо ответил:
– Теперь я внесу закон о предоставлении полного римского гражданства всем до одного италикам.
Мать сделалась бледнее своего белого одеяния.
– Не вздумай, Марк Ливий! – вскричала она. – Пока что тебе не препятствовали, но этого они не допустят!
– Почему? – удивился он, уже привыкший делать то, перед чем отступают все остальные.
– Охранять право гражданства римляне почитают своим священным долгом, заветом богов, – стала объяснять ему бледная мать. – Даже если сам Квирин спустится на Форум и повелит раздать всем гражданство, его не послушаются! – Она вцепилась в его руку. – Отступись, Марк Ливий! Даже не пытайся! – Она поежилась. – Умоляю, только не это!
– Я поклялся это сделать, мама, и я сделаю это!
Она долго со страхом вглядывалась в темные глаза сына. Наконец, вздохнув и пожав плечами, молвила:
– Что ж, вижу, тебя не переубедить. Недаром ты потомок Сципиона Африканского. О, сын мой, сын мой, тебя убьют!
Он приподнял треугольную бровь:
– Почему, мама? Я не Гай Гракх и не Сатурнин. Я действую строго по закону, от меня не исходит угроза ни отдельным людям, ни нашему mos maiorum.
Чтобы не продолжать этот тяжелый разговор, она проворно встала:
– Лучше загляни к детям, они соскучились по тебе.
Если это и было преувеличением, то несильным. Друз пользовался у детей искренней любовью.
Подойдя к комнате, где играли дети, Друз понял, что у них разгорелась ссора.
– Я тебя убью, Катон-младший! – донесся до слуха взрослых голос Сервилии.
– Довольно, Сервилия! – прикрикнул Друз, входя: он расслышал в голосе девочки серьезные нотки. – Катон-младший – твой сводный брат, не смей его трогать.
– Ничего, я до него доберусь, лишь бы мне никто не мешал! – прозвучал грозный ответ.
– Тебе не застать его одного, Шишконосая! – вмешался Цепион-младший, заслоняя Катона-младшего.
– Никакая я не шишконосая! – крикнула Сервилия.
– Шишконосая, шишконосая! – не сдавался Цепион-младший. – Вон какая шишка на кончике носа, брр!
– Тихо! – гаркнул Друз. – Вы что, только и делаете, что ссоритесь?
– Делаем! – крикнул Катон-младший. – Мы спорим!
– Как же нам не спорить, когда здесь он? – вставил Друз Нерон.
– Умолкни, черномазый Нерон! – вступился за Катона-младшего Цепион-младший.
– Я не черномазый!
– Черномазый, черномазый! – обрадовался Катон-младший, сжимая кулачки.
– Ты не Сервилий Цепион! – сказала Сервилия Цепиону-младшему. – Ты происходишь от рыжего раба-галла, тебя подсунули нам, Сервилиям Цепионам.
– Шишконосая, шишконосая, шишконосая уродина!
– Tacete! – повысил голос Друз.
– Сын раба! – прошипела Сервилия.
– Дочь дурака! – крикнула Порция.
– Веснушчатая толстуха! – отрезала Лилла.
– Посидим, сынок, – молвила Корнелия Сципиона, совершенно равнодушная к детской перепалке. – Пусть уймутся, тогда они обратят на нас внимание.
– Они всегда попрекают друг друга происхождением? – спросил Друз, стараясь не обращать внимания на вопли.
– В присутствии Сервилии всегда, – ответила их avia.
Сервилию, уже сформировавшуюся к своим тринадцати годам, миловидную, но замкнутую, следовало отделить от остальных детей уже два-три года назад, но этого не делали ей в наказание. Теперь, став свидетелем их ссоры, Друз устыдился, что решил держать ее в детской.
Сервилия-Лилла, которой только что исполнилось двенадцать, тоже быстро созревала. Она была симпатичнее Сервилии, ее смуглая открытая озорная мордашка сразу говорила о ее характере. Третьим в группе старших, воевавшим вместе с ними против младших, был приемный сын Друза – Марк Ливий Друз Нерон Клавдиан. В свои девять лет он был хорош собой, унаследовав смуглость и строгую красоту Клавдиев, умом он не блистал, зато был послушен и мил.
Дальше шли Катоновы отпрыски (Друз не мог думать о Цепионе-младшем как о ребенке Цепиона вопреки всем настояниям Ливии Друзы). Уж слишком похож он был на Катона Салониана: та же мускулистая стройность, предвещавшая высокий рост, та же форма головы и ушей, длинная шея, длинные руки и ноги – и ярко-рыжие волосы. Глаза, даром что светло-карие, тоже были не как у Цепиона: широко расставленные, большие, глубоко сидящие в глазницах. Из всех шестерых детей именно Цепион-младший был любимцем Друза. В нем угадывалась сила и готовность брать на себя ответственность, что нравилось Друзу. В свои без трех месяцев шесть лет он беседовал с Друзом как умудренный опытом старец. Говорил он очень низким голосом, выражение его рыжеватых глаз всегда было серьезным и задумчивым. Он был неулыбчив, снисходя только до своего братика Катона-младшего, когда тот выкидывал что-нибудь забавное или трогательное; его симпатия к Катону-младшему переходила в недвусмысленное покровительство, и они были неразлучны.
Порции – все называли ее Порцеллой – вот-вот должно было исполниться четыре года. Простодушное дитя, усыпанное крупными бурыми веснушками, она подвергалась насмешкам старших сводных сестер, которые ее терпеть не могли и исподтишка щипали, пинали, кусали, царапали, шлепали. Ее портил катоновский утиный носик, но ей достались прекрасные темно-серые глаза и добрый от природы нрав.
Катон-младший, которому еще не исполнилось трех лет, был настоящим уродцем как обликом, так и характером. Нос, украшенный римской горбинкой, рос, казалось, быстрее, чем он сам. Этот нос был непропорционально велик по сравнению с остальным лицом, поразительно красивым: рот изысканных очертаний, прекрасные глаза – огромные, светло-серые, лучистые, – высокие скулы, волевой подбородок. Широкие плечи намекали на будущее хорошее телосложение, но мальчонка был болезненно худ, ибо не проявлял ни малейшего интереса к еде. По натуре он был неприятно навязчив, а такие люди вызывали у Друза наибольшее раздражение: получив на свой громкий, напористый вопрос ясный и толковый ответ, он снова засыпал собеседника вопросами, что свидетельствовало либо о тупости, либо об упрямстве и неумении прислушиваться. Приятнее всего в нем – надо же было найти в нем хоть что-то хорошее! – была беззаветная преданность Цепиону-младшему, от которого он отказывался отходить и днем и ночью; когда он становился совсем уж невыносимым, оставался один способ принудить его к покорности – пригрозить увести брата.
Незадолго до того, как Катону-младшему исполнилось два года, Силон нанес Друзу последний визит; тот стал народным трибуном, и Силон счел неразумным и дальше демонстрировать Риму их крепкую дружбу. Силон, сам будучи отцом, любил общество детей, когда навещал Друза. Он, конечно, обратил внимание на маленькую шпионку Сервилию, наговорил ей комплиментов и со смехом отнесся к тому презрению, которым она облила его, простого италика. Он с удовольствием поиграл с четырьмя средними детьми и не пожалел для них веселых шуток, но Катон-младший привел его в ужас, хотя он не сумел объяснить Друзу причину своей неприязни к двухлетнему ребенку.
– В его присутствии я чувствую себя безмозглым животным, – признался Силон Друзу. – Все мои чувства и инстинкты кричат, что он – враг.
Все дело было в спартанской стойкости этого ребенка, хотя этим качеством полагалось восхищаться. Видя малыша, умудрявшегося не пролить ни слезинки, а только крепче сжать челюсти, даже сильно поранившись или получив незаслуженную взбучку, Силон чувствовал, что в нем вскипает гнев и что волосы у него встают дыбом. «Почему так происходит?» – спрашивал он себя, но никак не мог найти разумного ответа. Возможно, причина была в нескрываемом презрении Катона-младшего к простым италикам. Повинно в этом было, без сомнения, вредное влияние Сервилии. Правда, сталкиваясь с ней самой, он лишь безразлично отмахивался. Приходилось сделать вывод, что Катон-младший не из тех, от кого можно отмахнуться.
Однажды поток наглых вопросов, обрушенных Катоном-младшим на Друза, и полное бесчувствие малыша к доброте и терпению дяди настолько вывели Силона из себя, что он сгреб мальчонку в охапку, поднес к окну и, держа его над острыми камнями, пригрозил:
– Образумься, Катон-младший, не то я тебя выброшу!
Катон-младший умолк, замер, но на лице его застыло всегдашнее дерзкое выражение; сколько Силон его ни тряс, сколько ни грозил разжать руки, решимость ребенка оставалась прежней. Пришлось Силону поставить его на пол и, признавая свое поражение, покачать головой, глядя на Друза.
– Наше счастье, что Катон-младший еще так мал, – проговорил он. – Будь он взрослым, Италии было бы не убедить римлян!
В другой раз Силон спросил Катона-младшего, кого он любит.
– Брата, – ответил тот.
– А после него?
– Брата.
– Но кого еще, кроме него?
– Брата.
Силон повернулся к Друзу:
– Неужели он больше никого не любит? Даже тебя? Даже свою avia, твою мать?
Друз пожал плечами:
– Это сама очевидность, Квинт Поппедий. Он никого не любит, кроме своего брата.
Силон реагировал на Катона-младшего в точности так же, как почти все остальные; выходило, что Катон-младший не способен внушать к себе любви.
Дети давно разбились на две враждебные группы: старшие объединились против потомства Катона Салониана, вследствие чего детскую непрерывно оглашали вопли и визг схваток. Логично было бы предположить преимущество Сервилиев-Ливиев хотя бы по причине их старшинства и весового превосходства, однако с тех пор, как Катону-младшему исполнилось два года и он смог сказать свое веское мужское слово, чаша весов склонилась на сторону Катонов. С Катоном-младшим никто не мог сладить, никому не удавалось обуздать его ни словесно, ни силой. Факты доходили до него медленно, зато он обладал всеми необходимыми для победы качествами: непробиваемым спокойствием, неутомимостью, упорством, голосистостью, непримиримостью кровного врага и беспощадностью маленького чудовища.
– Короче говоря, – сказал матери Друз, подытоживая свои впечатления от посещения детской, – мы собрали здесь все недостатки, присущие Риму.
Не только Друз и вожди италийцев провели лето в неустанных трудах. Цепион усердно обрабатывал всадников, совместными усилиями Варий и Цепион сплотили сопротивление комиция Друзу, а Филипп, чьи желания всегда обгоняли возможности его кошелька, не погнушался продаться группе всадников и сенаторов, основное богатство которых составляли латифундии.
Никто не знал, конечно, что грядет, но сенаторы были осведомлены о заявке Друза выступить на заседании всадников в сентябрьские календы и уже сгорали от любопытства. Многие из сенаторов, раньше поддавшиеся силе ораторского искусства Друза, теперь сожалели, что он был так речист; первоначальное стремление поддержать его пошло на спад, поэтому люди, собравшиеся в Гостилиевой курии в первый день сентября, были полны решимости не дать Друзу себя заговорить.
В кресле председателя восседал Секст Юлий Цезарь, ибо в сентябре фасции держал он, а значит, ритуалы, предварявшие начало заседаний, строго соблюдались. Сенаторы ерзали на своих местах, пока изучались предзнаменования, возносились молитвы, убирались следы священного жертвоприношения. Наконец сенат перешел к делу. Все, что предшествовало речи народного трибуна, было рассмотрено очень быстро.
Настал черед Друза. Он поднялся со скамьи трибунов под помостом консулов, преторов и курульных эдилов и занял свое привычное место у больших бронзовых дверей, которые он, как и в прошлый раз, попросил запереть.
– Досточтимые отцы нашей страны, члены римского сената, – негромко начал он, – несколько месяцев назад я говорил в этом собрании о преследующем нас великом бедствии под названием «общественные земли». Ныне я намерен говорить о зле куда большем, чем ager publicus. Если его не одолеть, оно нас погубит. Риму придет конец.
Я говорю, конечно, о тех, кто обитает бок о бок с нами на этом полуострове. Я говорю о людях, называемых нами италиками.
Вся масса сенаторов в белом издала дружный возглас взволнованного изумления, больше похожий на ветер в ветвях деревьев или на гул роя ос вдали, чем на хор человеческих голосов. Друз, слыша этот звук и понимая, что он означает, тем не менее продолжил:
– Мы относимся к ним, к тысячам и тысячам, как к людям третьего сорта. Судите сами! Люди первого сорта – римляне. Люди второго сорта – это те, кто обладает латинскими правами. Люди третьего сорта – италики. Они не удостаиваются права участвовать в общественной жизни Рима. Их облагают налогами, бичуют, штрафуют, изгоняют, грабят, эксплуатируют. Мы представляем угрозу для их сыновей, для их жизни и собственности. Они должны воевать в наших войнах, оплачивать содержание войск, которые сами же нам поставляют и отдают под наше командование. Если бы мы выполняли наши обещания, им не пришлось бы мириться у себя дома с римскими и латинскими колониями – ведь мы обещали полную автономию италийским племенам в обмен на их войска и налоги, а потом обманули их, разместив в их пределах наши колонии и тем самым отняв у них лучшую часть их мира, притом что мы не пускаем их в наш мир.
Шум нарастал, но еще не заглушал голос Друза; гроза надвигалась, рой гудел все ближе. У Друза пересохло во рту, ему пришлось прерваться, облизнуть губы и сглотнуть, изо всех сил изображая спокойствие и естественность. Выказать волнение было бы губительно. Он продолжил:
– У нас, римлян, нет царя. Однако в краю италиков любой из нас действует как царь. Нам нравится это чувство, нравится видеть, как те, кто ниже нас, пресмыкаются перед нами. Нам нравится играть в царей! Будь италийцы и вправду ниже нас, это служило бы хоть каким-то оправданием. Но истина заключается в том, что италийцы ни в чем нас не ниже. Они наши кровные братья. Если бы это было не так, разве звучали бы в этом собрании обвинения, что в ком-то из нас течет «италийская кровь»? Я слышал, как великого, прославленного Гая Мария называли италиком. А ведь он разгромил германцев! Благородного Луция Кальпурния Пизона, как я слышал, называют инсубром, хотя его отец доблестно сложил голову при Бурдигале! Великого Марка Антония Оратора осуждают за то, что его второй женой стала дочь италика, – его, победителя пиратов и цензора!
– Да, он был цензором, – подал голос Филипп, – и, будучи цензором, позволил многим тысячам италиков записаться римскими гражданами!
– Уж не намекаешь ли ты, Луций Марций, что я этому попустительствовал? – грозно осведомился Антоний Оратор.
– Именно на это я и намекаю, Марк Антоний!
Огромный кряжистый Марк Антоний поднялся с места.
– Выйди и повтори, что ты сказал, Филипп! – крикнул он.
– К порядку! Выступает Марк Ливий, – молвил Секст Цезарь с громким свистом в груди. – Луций Марций и Марк Антоний, вы оба нарушаете порядок! Сядьте и молчите!
– Повторяю, – снова заговорил Друз. – Италийцы – наши кровные братья. Они – важные участники наших успехов и в Италии, и в чужих краях. Они отменные воины. Отменные земледельцы. И дела у них спорятся. У них есть богатства. Есть своя знать, такая же древняя, как наша, их вожди не менее образованны, женщины столь же культурны и утонченны. Они живут в таких же домах, как мы, едят такую же еду. У них не меньше знатоков вин, чем у нас. Они не отличаются от нас даже внешне.
– Чепуха! – не выдержал Катул Цезарь и презрительно указал на Гнея Помпея Страбона из Пицена. – Полюбуйтесь на него! Приплюснутый нос, волосы цвета песка. Римляне могут быть рыжими, желто- и беловолосыми, но песочный цвет?! Он галл, а не римлянин! Будь моя воля, он и все прочие неримские грибы, мозолящие глаза в нашей возлюбленной Гостилиевой курии, были бы выдраны и выброшены на свалку! Гай Марий, Луций Кальпурний Пизон, Квинт Варий, Марк Антоний, взявший жену ниже себя по статусу, любой Помпей из этой пиценской дыры, каждый Дидий из Кампании вместе с Педием оттуда же, все Сауфеи, Лабиены и Аппулеи – пора от вас избавиться, говорю я!
Сенат взревел. Катул Цезарь сумел оскорбить, назвав по имени или сделав намек, добрую треть его членов; зато сказанное им пришлось по сердцу другим двум третям – хотя бы потому, что Катул Цезарь напомнил им об их превосходстве. Один Цепион не сиял, хотя мог бы – ведь Катул Цезарь не пощадил Квинта Вария.
– Все равно вы будете меня слушать! – крикнул Друз. – Пусть для этого нам придется досидеть здесь дотемна.
– Я не буду тебе слушать! – проорал Филипп.
– И я! – подхватил Цепион.
– Слово имеет Марк Ливий! Те, кто отказывается дать ему возможность говорить, будут удалены! – закричал Секст Цезарь. – Секретарь, приведи моих ликторов!
Главный секретарь вернулся с двенадцатью ликторами в белых тогах, с фасциями на плече.
– Стойте здесь, в глубине курульного помоста, – громко распорядился Секст Цезарь. – У нас бурное заседание, и я могу попросить вас кое-кого вывести. – Он кивнул Друзу. – Продолжай.
– Я намерен внести в concilium plebis законопроект о предоставлении полного римского гражданства всем от Арна до Регия, от Рубикона до Брундизия, от Тусканского до Адриатического моря! – провозгласил Друз, надрывая связки, чтобы его расслышали. – Пора покончить с этим ужасным злом, – с тем, что мы, Рим, настаиваем на своей исключительности! Отцы, внесенные в списки, Рим – это Италия! Италия – это Рим! Так признаем же раз и навсегда этот факт и уравняем всех в Италии!
Сенат разом обезумел, раздались крики: «Нет, нет, нет!» Кто-то топал ногами, кто-то яростно вопил, кто-то свистел, рядом с Друзом разлетелся в щепки брошенный кем-то табурет, со всех ярусов, с обеих сторон, Друзу грозили кулаками.
Но Друз не дрогнул и остался на месте.
– Я это сделаю! – гаркнул он, перекрывая все крики. – Я – сделаю – это!
– Только через мой труп! – прорычал с помоста Цепион.
Теперь Друз сошел с места и подскочил к Цепиону:
– Да, и через твой труп, если понадобится, безмозглый олух! Говорил ли ты когда-нибудь, совещался ли когда-нибудь с италийцами, знаешь ли, что они за люди? – крикнул он, дрожа от ярости.
– В твоем доме, Друз, в твоем доме! Там говорили о мятеже! Там свили гнездо грязные италики! Силон и Мутил, Эгнаций и Видацилий, Лампоний и Дуроний!
– Только не в моем доме! Только не мятеж!
Побагровевший Цепион вскочил:
– Ты изменник, Друз! Позор своей семьи, язва на лице Рима! Я отдам тебя за это под суд!
– Нет, это ты – гнойный нарыв, судить надо тебя! Куда делось все золото Толозы, Цепион? Расскажи про него сенату! Расскажи сенату, какую бурную деятельность ты ведешь, как процветают твои дела и как мало соответствуют они званию сенатора!
– Вы собираетесь ему это спустить? – взревел Цепион, вертясь перед сенатом и в мольбе простирая руки. – Вот он, изменник! Вот коварная змея!
Тем временем Секст Цезарь и принцепс сената Скавр призывали собрание к порядку. Наконец Секст Цезарь сдался, щелкнул пальцами, подзывая ликторов, поправил тогу и удалился, окруженный своей стражей и не глядя по сторонам. Некоторые преторы последовали за ним, но Квинт Помпей Руф спрыгнул с помоста в направлении Катула Цезаря в тот самый момент, когда к тому уже направился из дальнего конца сената Гней Помпей Страбон. Оба были готовы совершить убийство – об этом свидетельствовало выражение их лиц и сжатые кулаки. Но прежде, чем оба Помпея добрались до высокомерно ухмыляющегося Катула Цезаря, в дело вмешался Гай Марий. Тряхнув седой головой, он схватил Помпея Страбона за запястья и принудил опустить руки. Красс Оратор тем временем усмирял разбушевавшегося Помпея Руфа. Помпеев без церемоний выпроводили из зала, Марий при помощи Антония Оратора успокоил Друза. Катул Цезарь остался с улыбкой стоять у своего табурета.
– Я задел их за живое, – пробормотал Друз, пытаясь отдышаться.
Группа покинувших заседание сенаторов спустилась в нижнюю часть комиция, чтобы прийти в себя. Их быстро окружили немногочисленные возмущенные сторонники.
– Как смеет Катул Цезарь говорить такое о нас, Помпеях! – не унимался Помпей Страбон, хватаясь за своего кузена Помпея Руфа, словно тот был спасительным плотом в штормовом море. – У самого волосы песочного цвета!
– Quin tacetis, все! – приказал Марий, тщетно ища глазами Суллу. До этого дня тот принадлежал к самым воодушевленным сторонникам Друза и не пропускал ни одного его выступления. Куда он сейчас подевался? Или его отпугнули сегодняшние события? Не переметнулся ли он на сторону Катула Цезаря? Здравый смысл подсказывал, что это маловероятно, хотя даже Марий не ждал от сената такого взрыва. И где принцепс сената Скавр?
– Как смеет этот неблагодарный распутник Филипп утверждать, что я подделал ценз? – вопрошал краснолицый от природы Антоний Оратор, теперь густо побагровевший. – Стоило мне потребовать, чтобы он повторил свою клевету за пределами Форума, как этот жалкий червь струсил!
– Обвиняя тебя, Марк Антоний, он обвинил и меня! – подхватил Луций Валерий Флакк, стряхивая свою обычную апатию. – Он за это поплатится, клянусь!
– Я задел их за живое… – продолжал твердить Друз.
– Ты ждал чего-то другого, Марк Ливий? – раздался из-за спин голос Скавра.
– Ты по-прежнему со мной, принцепс сената? – спросил Друз Скавра, проталкивавшегося в центр группы.
– Да-да! – заверил его Скавр, всплескивая руками. – Я согласен, пришла пора сделать этот логичный шаг, хотя бы во избежание войны. Но, увы, большинство отказывается верить, что италики способны объявить Риму войну.
– Скоро они поймут, насколько не правы, – предрек Друз.
– Так и будет, – согласился с ним Марий, озираясь. – Где Луций Корнелий Сулла?
– Ушел, – сказал Скавр.
– Уж не примкнул ли он к оппозиции?
– Нет, ушел, и все, – повторил Скавр со вздохом. – Боюсь, после смерти бедняжки-сына он ко всему безразличен.
– Верно, – подтвердил Марий с облегчением. – Вся эта суматоха не могла его воодушевить.
– Лучший лекарь – время, – молвил Скавр, тоже потерявший сына, причем при еще более трагических обстоятельствах, чем Сулла.
– Что ты теперь предпримешь, Марк Ливий? – спросил Марий.
– Я выступлю перед плебейским собранием, – сказал Друз. – Через три дня я созову contio.
– Там оппозиция будет еще сильнее, – предостерег Красс Оратор.
– Не важно, – упрямо ответил Друз. – Я поклялся провести этот закон, и я добьюсь своего.
– А мы тем временем продолжим обрабатывать сенат, – обнадежил его Скавр.
– Попробуй повлиять на тех, кого оскорбил Катул Цезарь, – посоветовал ему Друз со слабой улыбкой.
– Беда в том, что многие из них будут самыми ожесточенными противниками предоставления гражданства, – с усмешкой сказал Помпей Руф. – Ведь тогда им вновь придется общаться со своей италийской родней, от которой они открестились.
– Ты, похоже, уже забыл об оскорблении, – фыркнул Помпей Страбон, все еще кипевший от возмущения.
– Вовсе нет, – возразил Помпей Руф, не переставая улыбаться. – Просто затаил обиду, чтобы обрушить гнев на истинных виновников. Что толку вымещать его на тех, кто ни при чем?
Друз созвал contio в четвертый день сентября. Плебс явился на зов с охотой, ожидая бурных дебатов, но не предчувствуя опасности: раз бразды правления находились в руках Друза, насилие исключалось. Но стоило Друзу заговорить, как появился Луций Марций Филипп со своими ликторами и с большой группой молодых всадников и сенаторских сынков.
– Это собрание противозаконно! Требую разойтись! – крикнул Филипп, продираясь сквозь толпу следом за ликторами. – Пошевеливайтесь! Приказываю разойтись!
– У тебя нет полномочий распускать народное собрание, – спокойно, с деланым равнодушием заявил Друз. – Занимайся своими делами, младший консул.
– Я плебей, я вправе здесь находиться, – возразил Филипп.
Друз изобразил ласковую улыбку:
– В таком случае, Луций Марций, прошу, веди себя как представитель народа, а не как консул. Стой и слушай вместе с остальными.
– Собрание противозаконно! – не унимался Филипп.
– Предзнаменования сочтены благоприятными; созывая contio, я следовал букве закона, а ты отнимаешь у нас бесценное время, – сказал Друз под громкие одобрительные крики присутствующих, которые, возможно, возражали против того, что собирался говорить Друз, но были возмущены вмешательством Филиппа.
Это послужило сигналом для пришедшей с Филиппом молодежи: толпу стали расталкивать, снова зазвучали призывы расходиться, из-под тог были извлечены дубинки.
При виде оружия Друз крикнул с ростры:
– Расходитесь! Я никому не позволю превратить законное собрание в потасовку!
Но собравшихся это не устроило. Некоторые принялись отбиваться, кто-то уже пустил в ход дубинку. Друзу пришлось спрыгнуть с ростры и, увертываясь от ударов, самому уговаривать людей мирно разойтись.
В этот момент кто-то из расстроенных италийских клиентов Гая Мария потерял самообладание и, не обращая внимания на попытки его остановить, а также пользуясь вялостью ликторов младшего консула, подбежал к Филиппу, нанес ему удар наотмашь в нос и был таков. Кровь хлынула на белоснежную тогу Филиппа, тщетно пытавшегося ее остановить.
– Ты получил по заслугам, – бросил ему с усмешкой Друз и покинул собрание.
– Молодец, Марк Ливий, – сказал принцепс сената Скавр, наблюдавший за происходящим со ступенек курии Гостилия. – Что теперь?
– Теперь – снова в сенат, – ответил ему Друз.
Опять представ перед сенатом в седьмой день сентября, Друз, к немалому своему удивлению, был принят более благосклонно: его союзники-консуляры потрудились на славу.
– Сенат и народ Рима должны понять, – заявил Друз громко, твердо и серьезно, произведя на слушателей должное впечатление, – что если мы и впредь будем отказывать италийцам в нашем гражданстве, то разразится война. Поверьте, я не бросаюсь словами! Прежде чем кто-то из вас примется отрицать, что италийцы способны быть грозными врагами, и поднимать их на смех, я напомню, что вот уже четыреста лет они участвуют в наших войнах, а порой поднимают меч и против нас. Они знакомы с нами как с воюющим народом, знают, как мы воюем, и сами воюют так же. В прошлом Риму приходилось напрягать все силы, чтобы сокрушить одно или два италийских племени – или кто-то здесь забыл про битву в Кавдинском ущелье? Тогда нам пришлось иметь дело всего с одним италийским племенем – самнитами. До Аравсиона самые тяжелые поражения Риму наносили самниты. И если ныне италийские племена решат объединиться и вместе воевать против нас, то я задаю себе и всем вам вопрос: сможет ли Рим их победить?
По белым рядам справа и слева от Друза пробежал, как ветерок по лиственному лесу, шумок беспокойства. Общий вздох тоже был подобен дуновению.
– Знаю, подавляющее большинство сидящих здесь сейчас считает, что война совершенно невозможна. Тому есть две причины. Первая: вы не допускаете, что италийские союзники способны объединиться против общего врага. Вторая причина: вам не верится, что кто-либо в Италии, кроме Рима, готов к войне. Даже среди моих решительных сторонников есть те, кто не в силах в это поверить. Почти никто из моих сторонников не считает Италию достаточно подготовленной. «Где ее оружие и доспехи? – вопрошают они. – Где снаряжение, где солдаты?» Все это есть, отвечаю я. Все готово и ждет своего часа. Италия готова! Если мы не предоставим Италии гражданства, Италия разгромит нас!
Он помолчал, стоя с раскинутыми руками.
– Ответьте, отцы, внесенные в списки, вы отдаете себе отчет, что война Рима и Италии будет гражданской войной? Братоубийственной войной. Столкновением на земле, которую и мы, и они зовем своей. Чем оправдаемся мы перед внуками за уничтожение их богатства, их наследства – теми ли шаткими доводами, которые я всякий раз слышу в этом собрании? В гражданской войне не бывает победителя, не бывает трофеев, в ней нельзя захватить рабов, чтобы потом их продать. Поразмыслите над моими словами, подумайте с большей ответственностью, чем та, которую вы проявляли когда-либо раньше! Сейчас не до эмоций, не до предрассудков, легкомыслие губительно. Я пытаюсь уберечь мой возлюбленный Рим от ужасов гражданской войны, и только!
В этот раз сенат обратился в слух. У Друза появилась надежда. Даже Филипп, сидевший с сердитым видом и что-то бормотавший себе под разбитый нос, не вмешивался. Что еще важнее, горластый злобный Цепион тоже помалкивал. Правда, это была, возможно, новая тактика, придуманная ими за истекшие шесть дней. Вероятно, Цепион боялся, что вслед за Филипповой и его физиономия украсится окровавленным и распухшим носом.
После речи Друза в его поддержку выступили принцепс сената Скавр, Красс Оратор, Антоний Оратор и Сцевола. Сенат внимательно выслушал и их.
Но когда встал и попробовал заговорить Гай Марий, сенат взорвался. Это произошло как раз тогда, когда Друз уже решил, что победил. Впоследствии он был вынужден признать, что Филипп и Цепион все подстроили заранее.
Филипп вскочил и крикнул, спрыгивая с курульного помоста:
– Довольно, слышите? Кто ты такой, Марк Ливий Друз, чтобы морочить нам голову и покушаться на принципы таких людей, как принцепс нашего сената? Италик Марий не мог не встать на твою сторону, но глава сената? Неужели некоторые почтеннейшие наши консуляры позволяют себе такие речи? Что я слышу, о мои уши?!
– Вспомни лучше про свой нос! От тебя скверно попахивает! – попытался поднять Филиппа на смех Антоний Оратор.
– Tace, любитель италиков! – крикнул Филипп. – Заткни свой поганый рот и втяни свою италолюбивую головку!
Последние слова были недопустимыми в сенате, оскорбительным намеком на мужскую анатомию, и Антоний Оратор немедленно вскочил. Марий и Красс Оратор насильно усадили его, не позволив накинуться на Филиппа.
– Внемлите! – продолжал кричать Филипп. – Очнитесь, не дайте вас обмануть, овцы-сенаторы! Война! Какая еще война? У италиков нет ни оружия, ни людей! Или они пойдут воевать со стадом овец – даже таких, как вы?
Секст Цезарь и принцепс сената Скавр тщетно призывали к порядку с той секунды, когда Филипп вмешался в ход заседания; теперь Секст Цезарь поманил своих ликторов, из предосторожности находившихся сегодня рядом. Но Филипп, стоявший посередине сената, не дожидаясь их приближения, сорвал со своих плеч тогу с пурпурной каймой и швырнул ее Скавру:
– Забирай, Скавр, изменник! И вы все! Я обращусь к Риму и буду взывать к его власти!
– Я тоже, – подхватил Цепион, покидая помост, – отправляюсь в комиции и соберу весь народ, патрициев и плебеев!
В сенате воцарился хаос: рядовые сенаторы с задних скамей бесцельно метались, Скавр и Секст Цезарь снова и снова призывали всех к порядку, но большинство с передних и средних рядов высыпало из дверей следом за Филиппом и Цепионом.
Нижний сектор Римского форума был полон людей, жаждавших узнать, чем кончится это заседание сената. Цепион устремился к ростре, крича, чтобы народ собирался по трибам. Не заботясь о формальностях и о том, что сенат не был распущен по прописанным в законе правилам, из чего вытекала невозможность созыва комиций, Цепион разразился отповедью в адрес Друза, стоявшего теперь рядом с ним на ростре.
– Полюбуйтесь на этого изменника! – вопил Цепион. – Он занялся раздачей нашего гражданства всем до одного грязным италикам на полуострове, каждому вшивому самнитскому пастуху, каждой тупоголовой пиценской деревенщине, каждому зловонному разбойнику в Лукании и Бруттии. И что же наш сенат? Наш безмозглый сенат готов позволить этому изменнику творить его черное дело! Но я этого не допущу, нет, не допущу!
Друз устремил взгляд на девять народных трибунов, поднявшихся вместе с ним на ростру; как бы они ни относились к предложению Друза, наглость патриция Цепиона пришлась им не по вкусу. Да, Цепион взывал ко «всему народу», но он делал это до роспуска сената, самым бесцеремонным образом узурпировав территорию народных трибунов. Даже Миниций пребывал в смущении.
– Сейчас я покончу с этим фарсом, – проговорил Друз, стискивая зубы. – Вы все со мной?
– Мы с тобой, – подтвердил верный Сауфей.