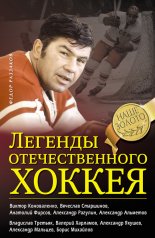Страна Рождества Хилл Джо
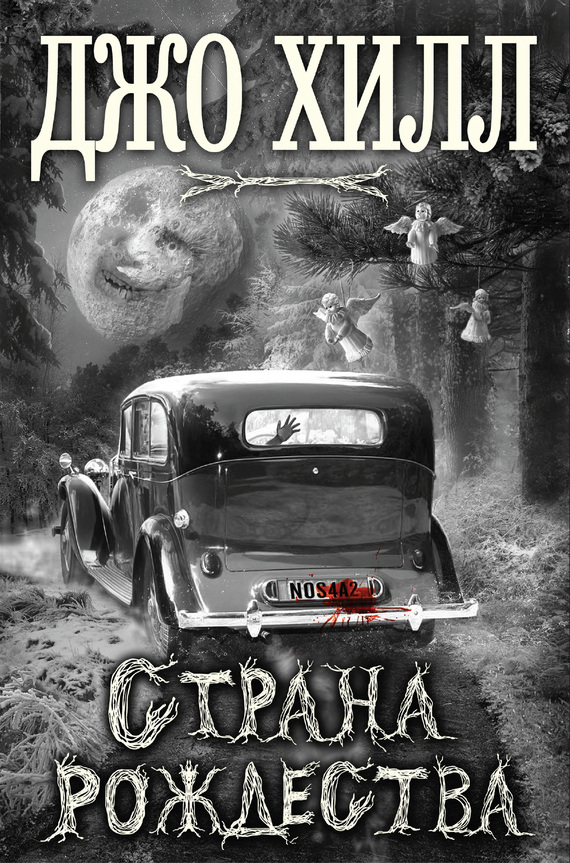
— В эти выходные, — сказала Вик. — Поедем туда в эти выходные.
— Тебе придется заглянуть в мой календарь, — сказала мать. — Может, у меня что-то запланировано.
Дождь прекратился на следующее утро, и вместо того чтобы в предстоящие выходные отвезти мать на озеро Уиннипесоки, в первый ясный и теплый день мая Вик отвезла ее на кладбище и похоронила.
Позвонив Лу в час ночи по восточному времени, то есть в одиннадцать по горному, она сказала:
— Как ты думаешь, чем он захочет заниматься? Впереди два месяца. А я не знаю, смогу ли развлекать Уэйна хотя бы два дня.
Лу, казалось, был совершенно сбит с толку ее вопросом.
— Ему одиннадцать. С ним просто. Я уверен, что ему понравится все то, что нравится тебе. Тебе что нравится?
— «Мейкерс Марк».
Лу издал жужжащий звук.
— Знаешь, я, кажется, больше склоняюсь к теннису.
Она купила теннисные ракетки, не зная, умеет ли Уэйн играть. Она сама так долго не играла, что даже забыла, как там ведется счет. Помнила только, что даже если у тебя ничего нет, при тебе все равно остается любовь[93].
Она купила купальники, шлепанцы, солнечные очки, фрисби. Купила лосьон для загара, надеясь, что ему не захочется проводить много времени на солнце. В перерыве между сумасшедшим домом и центром реабилитации Вик полностью покрыла себе руки и ноги татуировками, а избыток солнца делал их чернила ядовитыми.
Она предполагала, что Лу прилетит на восточное побережье вместе с сыном, и удивилась, когда Лу дал ей номер рейса, которым летит Уэйн, и попросил ее позвонить, когда тот доберется
— Он когда-нибудь летал один?
— Он вообще никогда не летал, но я об этом не беспокоюсь. Чуня. Малыш вполне может за себя постоять. Чем уже какое-то время и занимается. Ему, типа, можно дать хоть двенадцать, хоть пятьдесят. По-моему, он больше радуется самому полету, а не тому, куда прилетит. — За этим последовало неловкое, смущенное молчание. — Прости. Получилось совсем уж безмозгло, я не хотел.
— Да ладно, Лу, — сказала она.
Ее это не задело. Ни Лу, ни Уэйн не могли сказать ничего такого, что бы ее огорчило. Она все это заслужила. Долгие годы ненавидя собственную мать, Вик никогда не думала, что сама будет еще хуже.
— Кроме того, он на самом деле отправится не один. Он поедет с Хупером.
— Хорошо, — сказала она. — Но он-то что ест?
— Обычно все, что лежит на полу. Пульт дистанционного управления. Нижнее белье. Коврик. Он вроде тигровой акулы из «Челюстей»[94]. Той, что Дрейфус[95] скрывает в подвале рыбака. Вот почему мы зовем его Хупером. Помнишь ту тигровую акулу? У которой в желудке обнаружили номерной знак?
— Я «Челюсти» ни разу не видела. Нарвалась только на какой-то сиквел по ТВ, когда была на реабилитации. На тот, что с Майклом Кейном[96].
Снова последовало молчание, на этот раз исполненное благоговейного ужаса и недоумения.
— Господи. Неудивительно, что долго мы не протянули, — сказал Лу.
В шесть утра тремя днями позже она стояла у окна на цокольном этаже аэропорта Логан, глядя, как «Боинг-727» Уэйна выруливает через стоянку на взлетно-посадочную полосу. Пассажиры выходили из туннеля и устремлялись мимо нее безмолвными группами, катя за собой ручную кладь. Толпа редела, а она старалась не подпускать к себе никакого беспокойства — где же он, черт возьми? Может, Лу напутал с номером рейса? Уэйн еще даже не под ее опекой, а она уже облажалась… как вдруг малыш наконец вышел, обхватив свой рюкзак, словно это был его любимый плюшевый мишка. Он бросил его на пол, а Вик обняла его, засопела в ухо, стала хватать его губами за шею, пока он со смехом не крикнул, чтобы она его отпустила.
— Понравилось летать? — спросила она.
— Так понравилось, что я заснул, как только мы взлетели, и все пропустил. Десять минут назад я был в Колорадо — и вот я здесь. Разве это не безумие? Вдруг ни с того ни с сего так далеко перенестись?
— Так и есть. Совершенное безумие, — сказала она.
Хупер сидел в собачьей переноске размером с детскую кроватку, и им обоим пришлось немало потрудиться, чтобы стянуть его с ленточного транспортера. Изо рта у здоровенного сенбернара свисала слюна. Внутри клетки возле его лап лежали остатки телефонной книги.
— Что это было? — спросила Вик. — Обед?
— Он любит что-нибудь грызть, когда нервничает, — сказал он. — Совсем как ты.
Они поехали обратно в дом Линды, чтобы перекусить сэндвичами с индейкой. Хупер полакомился банкой собачьих консервов, одной из новых пар вьетнамок и теннисной ракеткой Вик, еще не вынутой из полиэтиленовой обертки. Даже при открытых окнах в доме пахло сигаретным пеплом, ментолом и кровью. Вик не терпелось отправиться в путь. Она собрала купальники, листы бристольского картона, свои туши и акварели, усадила в машину собаку и мальчика, которого любила, но — как она боялась — не знала или не заслуживала, и они нацелились на север, чтобы провести там лето.
«Вик МакКуин пытается быть матерью, часть II», — подумала она.
Их ждал «Триумф».
В то утро, когда Уэйн нашел «Триумф», Вик сидела на причале с парой удочек, лесок которых никак не могла распутать. Эти удочки она обнаружила в чулане коттеджа — тронутые ржавчиной мощи восьмидесятых с монофильными лесками, спутавшимися в клубок размером с кулак. Вик вроде бы видела коробку со снастями в каретном сарае, и она отправила Уэйна поискать ее.
Она, сняв туфли и носки и опустив ноги в воду, сидела на краю причала и сражалась с узлом. Пробавляясь коксом — да, было у нее в жизни и такое, — она могла счастливо сражаться с каким-нибудь узлом целый час, наслаждаясь этим не меньше, чем сексом. Она играла этот узел, словно Слэш[97], выдающий соло на гитаре.
Но через пять минут она это дело бросила. Нет смысла. В коробке со снастями найдется нож. Надо знать, когда имеет смысл стараться что-то распутать, а когда эту дрянь лучше просто разрезать.
Кроме того, от вспышек солнца на водной поверхности у нее болели глаза. Особенно левый. Левый глаз казался твердым и тяжелым, словно был не из мягких тканей, а из свинца.
Вик распростерлась на жаре, ожидая возвращения Уэйна. Ей хотелось подремать, но каждый раз, начиная засыпать, она вдруг вздрагивала и пробуждалась, услышав у себя в голове песенку сумасшедшей.
Впервые Вик услышала песню сумасшедшей, находясь в психиатрической больнице в Денвере, куда попала после того, как спалила таунхаус. В песне сумасшедшей было всего четыре строки, но ни Боб Дилан, ни Джон Леннон, ни Байрон и ни Китс — никто и никогда не снизывал вместе четырех строк в такой глубоко проницательный и эмоционально точный стих.
Коль пою я эту песню, то никто здесь не уснет!
Я сегодня в настроенье — ночь петь буду напролет!
Вик жалеет, что не может, сев на байк, умчаться прочь!
А ведь точно так могли бы сани Санты ей помочь!
Эта песня разбудила ее в первый же вечер в клинике. Ее пела неизвестная женщина в какой-то палате строгой изоляции. И пела она ее не просто для собственного удовольствия, но обращалась с ней непосредственно к Вик словно с серенадой.
Сумасшедшая визжала-вопила свою песню по три-четыре раза в ночь, как правило, именно тогда, когда Вик погружалась в сон. Иногда сумасшедшая начинала так сильно смеяться, что не могла воспроизвести мелодию от начала до конца.
Вик тоже приходилось кричать. Она кричала, чтобы кто-нибудь заткнул эту мразь. Начинали вопить другие, всю палату охватывали крики, все кричали, требуя соблюдать тишину, дать им поспать, прекратить это безобразие. Вик кричала до хрипоты, пока не приходили черные мужчины в белых халатах, чтобы скрутить ее и вставить ей в руку иглу.
Днем Вик сердито рассматривала лица других пациенток, ища в них признаки вины и усталости. Но они все выглядели виноватыми и усталыми. На сеансах групповой терапии она внимательно прислушивалась к другим, думая, что полуночная певица выдаст себя хриплым голосом. Но хриплые голоса были у всех — из-за тяжелых ночей, плохого кофе и сигарет.
В конце концов наступил вечер, когда Вик перестала слышать сумасшедшую с ее сумасшедшей песней. Она решила, что ту перевели в другое крыло, в кои-то веки проявив заботу об остальных пациентках. Вик уже полгода как вышла из больницы, когда наконец узнала голос и поняла, кто был той сумасшедшей.
— Тот мотоцикл, что в гараже, — он наш? — спросил Уэйн. И, прежде чем она успела разобраться с этим вопросом, сказал: — Что это ты поешь?
Она не замечала, что напевает ту песенку себе под нос, вплоть до самого этого мига. Исполняемая мягким голосом, она звучала гораздо лучше, чем раньше, когда Вик, заходясь смехом, визжала ее в психушке.
Вик села, потирая лицо.
— Не знаю. Ничего.
Уэйн окинул ее темным сомневающимся взглядом.
Он вышел на причал семенящим, затрудненным шагом, а Хупер, ссутулившись, брел позади него, как ручной медведь. Уэйн нес большой побитый желтый ящик с инструментами, ухватившись за ручку обеими руками. Когда он одолел треть пути, хватка его разжалась и ящик с грохотом упал. Причал содрогнулся.
— Вот, нашел коробку со снастями, — сказал Уэйн.
— Это не коробка со снастями.
— Ты же сказала — поискать коричневую коробку.
— А это желтый ящик.
— Здесь есть коричневые пятна.
— Это ржавые пятна.
— Ну? И что? Ржавчина же коричневая.
Он открыл защелку ящика с инструментами, откинул крышку, хмуро посмотрел на содержимое.
— Запросто можно ошибиться, — сказала она.
— Может, это для рыбалки? — спросил он, вытаскивая любопытный инструмент. Он походил на лезвие тупой миниатюрной косы, достаточно маленькое, чтобы поместиться у него в ладони. — Форма как у крючка.
Вик знала, что это такое, хотя много лет ничего подобного не видела. Потом до нее наконец дошло, что сказал Уэйн, впервые ступив на причал.
— Дай-ка я посмотрю, что это за ящик, — сказала Вик.
Повернув его, она увидела набор, состоявший из ржавых плоскогубцев, манометра давления и старого ключа с прямоугольной головкой, на которой было выдавлено слово ТРИУМФ.
— Где ты это нашел?
— Лежало на сиденье того старого мотоцикла. Мотоцикл — он же вместе с домом?
— Покажи мне, — сказала Вик.
В каретном сарае Вик была только раз, когда впервые осматривала дом и постройки. Она говорила матери, что приберется там и превратит его в студию. Пока, однако, ее карандаши и краски не продвинулись дальше шкафа в спальне, и каретный сарай оставался таким же загроможденным, как в день их приезда.
Это было длинное, узкое помещение, настолько заваленное разнообразным хламом, что по прямой линии до задней стены добраться было невозможно. В нескольких стойлах там когда-то держали лошадей. Вик очень нравился запах сарая — аромат бензина, земли, старого сухого сена и дерева, прокаленного и состаренного восьмьюдесятью периодами летней жары.
Будь Вик ровесницей Уэйна, она бы жила там в стропилах, среди голубей и белок-летяг. Но Уэйн, казалось, не был склонен к чему-то подобному. Уэйн не взаимодействовал с природой. Он снимал ее на свой айфон, а затем склонялся над экраном и тыкал в него пальцем. В озерном доме ему больше всего нравилось наличие Wi-Fi.
Не то чтобы он не хотел выходить под открытое небо. Он хотел оставаться в своем телефоне. Тот служил ему мостом, уводившим от мира, в котором его мама была сумасшедшей алкоголичкой, а папа — автомобильным механиком весом в триста фунтов, который недоучился в средней школе и, согласно комиксовым конвенциям, в Хэллоуин надевал костюм Железного Человека.
Мотоцикл стоял в задней части каретного сарая, и, хотя на него был накинут забрызганный краской брезент, очертания его оставались вполне различимы. Вик заметила его, как только ступила через порог, и недоумевала, как могла не обратить на него внимания, когда просунула сюда голову в прошлый раз.
Но недоумение ее продлилось всего лишь миг. Никто лучше Вик МакКуин не знал, как легко может что-то важное затеряться среди обильного визуального беспорядка. Весь этот сарай походил на сцену, которую она могла бы нарисовать для одной из книжек серии «ПоискоВик». Найти свой путь к мотоциклу по лабиринту хлама — не задевая растяжек-ловушек, — и улизнуть! В самом деле, неплохой замысел, есть над чем подумать, что обтесать. Ни одну стоящую идею она не могла себе позволить игнорировать. Разве кто-нибудь другой смог бы?
Уэйн взялся за один угол брезента, она — за другой, и они вдвоем его откинули.
Байк был покрыт слоем грязи и опилок толщиной в четверть дюйма. Руль и приборы были затянуты паутиной. Передняя фара свободно свисала из своего гнезда на проводах. Запыленный бензобак в форме слезы был цвета клюквы и серебра, с вытисненным на нем хромом словом «Триумф».
Он походил на мотоцикл из старого байкерского фильма — не из байкерского фильма, полного голых сисек, размытых красок и Питера Фонды[98], но из какого-нибудь более старого, более прирученного мотоциклетного фильма, черно-белого, в котором много гонок и разговоров о Человеке. Вик уже его полюбила.
Уэйн провел рукой по сиденью, посмотрел на серый пушок у себя на ладони.
— Мы можем взять его себе?
Как будто он был приблудным котом.
Конечно, они не могли взять его себе. Он не был их собственностью. Он принадлежал старушке, сдававшей им этот дом.
И все же.
И все же Вик чувствовала, что он в некотором роде уже принадлежит ей.
— Сомневаюсь, чтобы он хотя бы ездил, — сказала она.
— Ну и что? — спросил Уэйн с небрежной уверенностью двенадцатилетнего мальчишки. — Почини его. Папа мог бы объяснить тебе, что да как.
— Твой папа уже объяснил мне, что да как.
Семь лет она пыталась быть девушкой Лу. Это не всегда было хорошо и никогда не было легко, но у них в гараже случались счастливые дни, когда Лу чинил байки, Вик раскрашивала их аэрозольными красками, по радио звучал «Звуковой сад»[99], а в холодильнике стояли холодные бутылки пива. Она вместе с ним ползала вокруг мотоциклов, светила ему и задавала вопросы. Он рассказывал ей о свечах, тормозных тросах, коллекторах отработанных газов. Тогда ей нравилось находиться рядом с ним и почти нравилось быть самой собой.
— Значит, ты думаешь, мы можем его взять? — снова спросил Уэйн.
— Он принадлежит старой даме, которая сдает нам дом. Я могу спросить, не продаст ли она его.
— Готов поспорить, что она согласится, — сказал он и написал слово «НАШ» на пыльном боку бензобака. — Какая старушка захочет втаскивать свою задницу на такую рухлядь?
— Такая, что стоит рядом с тобой, — сказала она, протягивая рядом с ним руку и стирая ладонью слово «НАШ».
Пыль вспорхнула в столб солнечного света раннего утра и заметалась в нем золотистыми хлопьями.
Ниже того места, где было слово «НАШ», Вик написала «МОЙ». Уэйн поднял свой «айфон» и сделал снимок.
Каждый день после обеда у Зигмунда де Зута имелся час для себя, который он посвящал раскраске своих крошечных солдатиков. Это был его любимый час дня. Он слушал Берлинский оркестр, исполнявший секстет Фробишера, «Облачный атлас»[100], и раскрашивал гуннов, одевая их в каски XIX века, шинели с фалдами и противогазы. На листе фанеры размером шесть на шесть футов у него была устроена миниатюрная диорама, представлявшая собой акр земли под Верденом: протяженность пропитанной кровью почвы, сожженных деревьев, запутанных кустарников, колючей проволоки и трупов.
Зиг гордился тем, как тщательно он работает кисточкой. Он рисовал золотую тесьму на эполетах, микроскопические латунные пуговицы на шинелях, пятна ржавчины на касках. У него было такое чувство, что если его человечки будут хорошо раскрашены, то обретут живость, создающую впечатление, что они в любой миг могут начать двигаться по собственному усмотрению и атаковать линию французской обороны.
Он работал над ними в тот день, когда это наконец произошло, в тот день, когда они наконец начали двигаться.
Он раскрашивал раненого гунна, человечка, схватившегося за грудь, раскрыв рот в безмолвном крике. На конце кисточки у Зига была капелька красной краски, которой надо было нанести всплеск красного вокруг пальцев немецкого солдата, но когда он протянул руку, гунн попятился.
Зигмунд уставился на дюймового солдатика под ярким светом лампы на шарнирной стойке. Он снова потянулся кончиком кисти, а солдатик опять уклонился.
Зиг попытался в третий раз — да стой же ты тихо, маленький ублюдок, подумал он, — и совсем промахнулся, даже близко не попал, оставив взамен алую черточку на металлическом щитке лампы.
И теперь двигался не только один этот солдатик. Теперь все они начали двигаться. Они подавались друг к другу, колеблясь, как огоньки свечей.
Зигмунд провел рукой по лбу, почувствовал там горячий и скользкий пот. Он глубоко вздохнул и уловил запах пряников.
«Инсульт, — подумал он. — У меня случился инсульт».
Только он подумал это по-нидерландски, потому что английский сейчас ускользал от него, хотя он говорил на английском как на родном, начиная с пятилетнего возраста.
Он потянулся к краю стола, чтобы подняться на ноги, — но промахнулся и упал. Зиг ударился об пол грецкого ореха правым боком и почувствовал, как что-то треснуло у него в бедре. Это что-то сломалось, как сухая палка под немецким сапогом. Весь дом содрогнулся от того, с какой силой он упал, и он подумал — по-прежнему по-нидерландски: «Жизель услышит и придет».
— Hulp! — крикнул он. — Ik heb een slag[101]. — Это звучало как-то не так, но ему потребовалось время, чтобы понять, почему. Нидерландский. Она не поймет по-нидерландски. — Жизель! Я упал!
Она не приходила и никак не отзывалась. Он пытался понять, чем таким она могла заниматься, что не слышит его, потом подумал, не вышла ли она на улицу вместе с мастером по кондиционерам. Этот мастер, приземистый человечек по имени Бинг Имярек, заявился к ним в замызганном жиром комбинезоне, чтобы произвести гарантийную замену конденсационного змеевика.
Здесь, на полу, в голове у него вроде немного прояснилось. Когда он сидел на табурете, воздух начал казаться сырым и медленным, перегретым и немного приторным, с этим внезапным запахом пряников. Но здесь, внизу, он был прохладнее, и жизнь, казалось, налаживалась. Он увидел отвертку, которую не мог найти несколько месяцев, устроившуюся среди залежей пыли под верстаком.
Бедро у него было сломано. Он был уверен в этом и ощущал перелом, как горячую проволоку, вставленную под кожу. Но думал, что если бы смог встать, то сумел бы воспользоваться своим табуретом как импровизированным костылем, чтобы пробраться через всю комнату к двери и выйти в прихожую.
Возможно, ему удастся добраться до двери и позвать этого мастера по кондиционерам. Или Вик МакКуин, через улицу. Нет, это исключено: Вики уехала куда-то в Нью-Гемпшир с этим своим мальчиком. Нет — если он доберется до телефона на кухне, то просто позвонит в экстренные службы и будет надеяться, что Жизель найдет его до приезда неотложки. Он не хотел шокировать ее больше чем надо.
Зиг дотянулся своей длинной рукой до табурета и с трудом поднялся на ноги, стараясь, чтобы тяжесть не приходилась на левую ногу. Она все равно болела. Он слышал, как щелкает кость.
— Жизель! — снова крикнул он, и на этот раз его голос обратился в хриплый рев. — Gott dam, Жизель!
Он оперся на табурет, держа обе руки на его краю, сделал долгий дрожащий вдох — и снова обонял рождественский пряничный запах. Он чуть не вздрогнул, настолько сильным и отчетливым был этот аромат.
Инсульт, снова подумал он. Вот что происходит, когда у человека инсульт. Мозг дает осечку, и ты ощущаешь запахи, которых нет, меж тем как мир вокруг скукоживается и тает, словно грязный снег под теплым весенним дождем.
Он повернулся лицом к двери, до которой было не больше двенадцати шагов. Дверь в его мастерскую была широко открыта. Он не мог себе представить, как Жизель, находясь хоть где-нибудь в доме, могла не слышать его криков. Она либо снаружи, рядом с шумным кондиционером, либо отправилась за покупками, либо мертва.
Он еще раз перебрал этот список возможностей — снаружи, рядом с шумным кондиционером, отправилась за покупками, мертва, — и встревожился, найдя третий вариант не вполне нелепым.
Приподняв табурет, он передвинул его вперед, опустил и кое-как шагнул вслед за ним. Теперь, когда он стоял, голова у него снова начинала кружиться, а мысли витали, как гусиные перья в теплом ветре.
В голове у него снова и снова прокручивалась какая-то песенка, застряв в идиотском цикле. Старушка проглотила мушку, приняв, наверно, за горбушку. За жизнь той взбалмошной старушки не дам теперь я и полушки. Только песенка становилась все громче, нарастала и нарастала, пока не стало казаться, что она звучит уже не у него в голове, но в воздухе вокруг него, доносится из прихожей.
— Старушка выпила слегка и проглотила паука — тот ерзает, щекочется, а ей загнуться хочется, — пел этот голос, высокий, фальшивый и на удивление глухой, словно слышимый издалека, через вентиляционную шахту.
Зиг поднял взгляд и увидел человека в противогазе, двигавшегося мимо открытой двери. Человек в Противогазе держал Жизель за волосы и тащил ее по коридору. Жизель, казалось, не возражала. На ней было аккуратное голубое льняное платье и в тон ему голубые туфельки на шпильках, но, пока Жизель волочили, одна из туфелек сползла и упала с ноги. Человек в Противогазе намотал себе на кулак ее длинные каштановые волосы, тронутые сединой. Глаза у нее были закрыты, а узкое, худое лицо оставалось безмятежным.
Человек в Противогазе повернул голову и посмотрел на него. Зиг никогда не видел ничего более ужасного. Это было как в том фильме с Винсентом Прайсом, где ученый скрестил себя с насекомым[102]. Его голова была черной резиновой грушей с блестящими линзами вместо глаз и уродливым клапаном вместо рта.
Что-то не так было в мозгу у Зига, что-то, может быть, худшее, чем инсульт. Может ли инсульт вызывать галлюцинации? Это же один из его раскрашенных гуннов, вышедший прямо из его диорамы мясорубки под Верденом, похищал его жену. Может, поэтому Зиг изо всех сил пытался удержаться на ногах. Гунны вторгались в Хэверхилл и обстреливали улицы снарядами с горчичным газом. Хотя пахло не горчицей. Пахло пряниками.
Человек в Противогазе поднял палец, давая понять, что скоро вернется, затем пошел дальше по коридору, таща Жизель за волосы. Он снова запел.
— Одна старушка не со зла, — пел Человек в Противогазе, — однажды слопала козла. Открыла пасть — и все дела, взяла да слопала козла. Так жадность сучку довела!
Зиг осел на табурет. Ноги — он не чувствовал своих ног. Подняв руку, чтобы утереть пот с лица, он ткнул пальцем себе в глаз.
По полу мастерской протопали сапоги.
Зигу потребовалось усилие воли, чтобы поднять голову. Было такое чувство, словно на макушке у него балансирует большая тяжесть, двадцатифунтовая чугунная чушка.
Уперев руки в бока, Человек в Противогазе стоял над моделью битвы при Вердене, глядя на испещренные воронками руины, переплетенные колючей проволокой. Зиг наконец узнал одежду этого типа: на нем был промасленный комбинезон мастера по ремонту кондиционеров.
— Человечки, маленькие человечки! — сказал Человек в Противогазе. — Люблю мелюзгу! Ни в скалы, что открыты, ни в чащи, где ни зги, на зверя не ходи ты — побойся мелюзги[103]. — Он посмотрел на Зига и добавил: — Мистер Мэнкс говорит, что я рифмующий демон. А я говорю, что я просто поэт, а раньше этого не знал. Сколько лет вашей жене, мистер?
У Зига не было намерения отвечать. Он хотел спросить, что этот ремонтник сделал с Жизель. Но вместо этого он сказал:
— Я женился на ней в 1976 году. Моей жене пятьдесят девять. Она на пятнадцать лет моложе меня.
— Ну и хват же вы! Ограбили колыбельку. Детей нет?
— Нет. У меня в голове мурашки.
— Это севофлуран, — сказал Человек в Противогазе. — Я закачал его через ваш кондиционер. Я и так вижу, что у вашей жены никогда не было детей. Такие твердые маленькие сиськи. Я их потискал и могу доложить вам, что у рожавших женщин этаких сисек не бывает.
— Зачем вы это делаете? Почему вы здесь? — спросил Зиг.
— Вы живете через улицу от Вик МакКуин. И у вас есть гараж на две машины, но всего один автомобиль, — объяснил ему Человек в Противогазе. — Мистер Мэнкс вот-вот вернется, и у него будет место для парковки. Колеса у «Призрака» крутятся, крутятся, колеса у «Призрака» крутятся день-деньской.
Зиг де Зут начал замечать последовательность звуков — шипение, царапанье и глухой удар, — повторяющуюся снова и снова. Он не мог понять, откуда они исходят. Казалось, они пребывают у него в голове, как раньше какое-то время казалось, что пение Человека в Противогазе раздается у него в его голове. Шипение, царапанье, глухой удар — это теперь заменяло ему мысли.
Человек в Противогазе смотрел на него сверху вниз.
— А вот у Виктории МакКуин, похоже, парочка настоящих материнских сисек. Вы их видели лично. Что вы думаете об ее сиськах?
Зиг уставился на него. Он понимал, о чем спрашивает Человек в Противогазе, но не мог сообразить, как ответить на такой вопрос. Вик МакКуин было всего восемь лет; в сознании Зига она снова стала ребенком, девочкой с мальчишеским велосипедом. Время от времени она заходила к нему раскрашивать фигурки. Приятно было наблюдать за ее работой — она раскрашивала человечков с тихой преданностью, сузив глаза, как будто щурилась, заглядывая в длинный туннель и пытаясь увидеть, что там, на другом конце.
— Это же ее дом вон там, через улицу, верно? — спросил Человек в Противогазе.
Зиг не хотел ему говорить. Не хотел идти на коллаборационизм. Ему в голову пришло именно слово «коллаборационизм», а не «сотрудничество».
— Да, — услышал он собственный голос. Потом добавил: — Почему я вам это сказал? Почему я отвечаю на ваши вопросы? Я не коллаборационист.
— Это тоже севофлуран, — сказал Человек в Противогазе. — Вы не поверите, какие вещи порой говорили мне люди, которым я давал подышать добрым старым пряничным дымом. Одна старушка, которой, самое меньшее, было шестьдесят пять лет от роду, сказала мне, что кончила всего раз в жизни, когда ей засадили в задницу. Шестьдесят пять лет! Тьфу, да же? Будешь ли нежить, будешь ли тешить в шестьдесят пять лет![104] — Он захихикал — это был невинный, захлебывающийся смех ребенка.
— Это сыворотка правды? — сказал Зиг. Ему потребовалось основательное усилие, чтобы озвучить этот вопрос: каждое слово было ведром с водой, которое приходилось с трудом доставать из глубокого колодца вручную.
— Не совсем, но этот газ, конечно, высвобождает подсознание. Размягчает его для внушения. Подождите, вот скоро ваша жена начнет приходить в себя. Станет лакомиться моим членом, словно это ее обед, а она пропустила завтрак. Она просто будет считать, что так и надо! Не беспокойтесь. Я не заставлю вас смотреть. К тому временем вы будете мертвы. Слушайте: где Вик МасКуин? Я целый день наблюдал за домом. Там, похоже, никого нет. Она что, уехала на лето, да? Это была бы досада. Для головы и зада!
Но Зигмунд де Зут не ответил. Он отвлекся. До него наконец дошло, что такое он слышал, что производило это шипение, это царапанье, этот глухой стук.
Это было вовсе не у него в голове. Это была пластинка, которую он слушал, секстет «Облачный атлас» в исполнении Берлинского оркестра.
Музыка кончилась.
Когда Уэйн отправился в дневной лагерь, Вик начала работать над новой книжкой… и «Триумфом».
Ее редактор полагал, что, возможно, пришла пора для «ПоискоВика» на праздничную тему, и считал, что большим спросом могло бы пользоваться рождественское приключение. От этой мысли поначалу несло запахом скисшего молока, из-за чего Вик морщилась, испытывая к ней рефлекторное отвращение. Но, несколько недель так и этак повертев ее в уме, она поняла, каким беспощадно коммерческим окажется такой выпуск. Кроме того, она представляла себе, как мило будет выглядеть ПоискоВик в полосатой, как леденец, шапке и с таким же шарфом. Ей ни разу не пришло в голову, что у робота, созданного на основе двигателя мотоцикла «Вулкан», никогда не возникнет потребности в шарфе. Это будет правильно выглядеть. Она была рисовальщицей, а не инженером; реальностью можно было пренебречь.
В дальнем углу каретного сарая она расчистила место для своего мольберта и положила начало новой книжке. В первый день она проработала три часа, простым синим карандашом рисуя озеро с раскалывающимся льдом. ПоискоВик и его маленькая подруга Бонни хватаются друг за друга на плавающей льдине. Безумный Мебиус Стрипп подобрался к ним снизу, на подводной лодке, сработанной под Кракена, чьи щупальца выбрасывались вокруг них. По крайней мере, ей казалось, что она рисует щупальца. Вик, как всегда, работала, включив музыку и отключив сознание, склоняя в задумчивости голову набок. Пока она рисовала, лицо у нее было гладким, лишенным складок, как у ребенка. И таким же безмятежным.
Она корпела над рисунком, пока у нее не свело руку, затем оставила работу и вышла на дневной свет, потянулась, заведя руки за голову, и прислушалась к хрусту в позвоночнике. Вошла в коттедж, налила себе стакан чая со льдом — об обеде Вик не беспокоилась, она вообще почти не ела, когда работала над книгой, — и вернулась в каретный сарай, чтобы обдумать, чему будет место на второй странице. Решила, что если она тем временем будет возиться с «Триумфом», то обдумыванию это не повредит.
Она собиралась ухлопать на мотоцикл час или около того, а затем вернуться к «ПоискоВику». Вместо этого она проработала три часа и забрала Уэйна из лагеря на десять минут позже срока.
После этого она стала заниматься книгой по утрам, а мотоциклом — после полудня. Она приучилась ставить будильник, чтобы всегда забирать Уэйна вовремя. К концу июня она накопила целую стопку эскизных страниц и разобрала «Триумф» вплоть до двигателя и голой металлической рамы.
За работой она пела, хотя редко это осознавала.
— Коль пою я эту песню, то никто здесь не уснет! Я сегодня в настроенье — ночь петь буду напролет! — пела она, когда работала над мотоциклом.
А работая над книгой, она пела:
— К Рождеству везет нас папа — сани Санты ждут там нас. К Рождеству везет нас папа, чтобы день прошел, как час.
Но это была одна и та же песня.
Первого июля Вик с Уэйном поместили озеро Уиннипесоки в зеркало заднего вида и поехали обратно к дому ее матери в Массачусетсе. Теперь это был дом Вик. Она все время об этом забывала.
Лу летел в Бостон, чтобы провести четвертое вместе с Уэйном и впервые в жизни увидеть фейерверк в большом городе. Вик собиралась провести выходные в доме матери — теперь в своем доме — и постараться не пить, разбирая вещи мертвой женщины. У нее была мысль продать дом осенью и вернуться в Колорадо. Это стоило обсудить с Лу. Над «ПоискоВиком» она могла работать где угодно.
В коридоре маршрута 1, ведшем в Хэверхилл, движение было из рук вон плохим. Они застряли на дороге, под отдающимся головной болью небом с низко клубящимися облаками. Вик чувствовала, что никто не должен мириться с вот таким небом, оставаясь холодно трезвым.
— Тебя сильно тревожат призраки? — спросил Уэйн, пока они стояли на холостом ходу, ожидая, когда поедут автомобили перед ними.
— А что? Тебя пугает, что мы остановимся на ночь в доме бабушки? Если ее дух еще там, он не причинит тебе никакого вреда. Она тебя любила.
— Нет, — безразличным тоном сказал Уэйн. — Просто я знаю, что призраки любили с тобой поговорить, вот и все.
— Уже нет, — сказала Вик, меж тем как поток машин наконец поредел, и ей удалось проехать по правой полосе до поворота. — Уже все, малыш. Твоя мама повредилась умом. Вот почему мне пришлось лечь в больницу.
— Они были ненастоящими?
— Конечно, нет. Мертвые остаются мертвыми. Прошлое — это прошлое.
Уэйн кивнул.
— Кто это? — спросил он, глядя через двор, когда они свернули на подъездную дорогу.
Вик, задумавшись о привидениях, не обратила внимания на его вопрос и не заметила женщины, сидевшей у нее на крыльце. Когда Вик загнала машину на стоянку, посетительница поднялась на ноги.
На гостье были застиранные джинсы, распадающиеся на нити на коленях и бедрах, причем совсем не в соответствии с модой. В одной руке она держала сигарету, испускавшую бледную струйку дыма. В другой руке у нее была папка. У нее был тягучий, нервный взгляд наркоманки. Вик ни с чем не могла ее сопоставить, но была уверена, что знает ее. Она понятия не имела, кто это, но как-то чувствовала, что уже много лет ожидала появления этой женщины.
— Твоя знакомая? — спросил Уэйн.
Вик помотала головой. На какое-то время она лишилась дара речи. Большую часть последнего года Вик провела, крепко держась за здравомыслие и трезвость, словно старушка, сжимающая пакет с продуктами. Глядя во двор, она чувствовала, что дно у пакета начинает рваться.
Наркоманка в расползшихся джинсах «Чак Тейлор» вскинула руку в нервном, ужасно знакомом коротком взмахе.
Открыв дверцу машины, Вик вылезла и обошла капот, чтобы оказаться между Уэйном и этой женщиной.
— Могу я чем-то помочь? — прохрипела Вик. Ей требовался стакан воды.
— Надеюс-с-сс-ссс… — Голос у нее звучал так, словно она вот-вот чихнет. Лицо у нее потемнело, и она выдавила: — сь, да. Он с-с-су-свободен.
— О чем вы говорите?
— О Приз-з-зраке, — сказала Мэгги Ли. — Он с-с-снова разъезжает п-п-по дорогам. Я думаю, ты должна вос-с-спользоваться с-с-своим мос-с-стом и попытатьс-с-ся найти его, Вик.
Она слышала, как Уэйн вылез из машины позади нее, как захлопнулась его дверца. Он открыл заднюю дверцу, и с заднего сиденья спрыгнул Хупер. Она хотела сказать ему вернуться в машину, но тогда она выдала бы свой страх.
Женщина улыбнулась ей. Ее лицо было отмечено невинностью и простой добротой, что для Вик очень живо ассоциировалось с сумасшествием. В психиатрической больнице она достаточно часто видела такие лица.
— Из-з-зз-звини, — сказала гостья. — Я не хотела начинать с-с-с-с… — Теперь голос у нее звучал так, как будто ее могло вырвать. — …с-СС-с этого. Я Ммм-мм-мм — о боже. Ммм-МММ-мм-мммм-МЭГГИ. С-с-сильно з-з-з-заикаюсь. Из-з-вини. Однажды мы с-с тобой пили чай. Ты поц-ц-царапала колено. Давно. Ты была не намного с-с-старше, чем твой с-су-сс-сс… — Она замолчала, глубоко вздохнула, попробовала еще раз. — Мальчик. Но, думаю, ты точно долж-ж-жна это помнить.
Ужасно было слушать, как она пытается говорить, — все равно, что смотреть, как безногая женщина перетаскивает себя по тротуару. «Раньше она не заикалась так сильно», — подумала про себя Вик, в то же время оставаясь убежденной, что эта наркоманка — невменяемая и, возможно, опасная незнакомка. Оказалось, она в состоянии совмещать эти два понятия, совсем не чувствуя, что противоречит сама себе.
Наркоманка коснулась руки Вик, но ладонь у нее была горячей и влажной, и Вик быстро отстранилась. Вик посмотрела на руки девушки и увидела, что их испещряют множественные блестящие шрамы, похожие на оспины, — ожоги от сигарет. Некоторые из них были лиловато-розовыми, недавними.
Мэгги бросила на нее краткий взгляд, в котором смущение граничило с болью, но, прежде чем Вик смогла что-то сказать, Хупер, протиснувшись мимо, уткнулся носом в промежность Мэгги Ли. Мэгги засмеялась и оттолкнула его морду.
— Ой, ну и ну! У тебя ес-с-сть свой Йети. Какой милый, — сказала она. Она посмотрела поверх собаки на сына Вик. — А ты, должно б-б-быть, Уэйн.
— Откуда вы знаете его имя? — хриплым голосом спросила Вик, в голову которой пришла сумасшедшая мысль: «Фишки «Эрудита» не могут сообщать ей настоящих имен».
— Ты посвятила ему свою первую ис-с-с-с… книгу, — сказала Мэгги. — Раньше все они были у нас в библиотеке. Я тебя обож-жжжжжжжжжала!
— Уэйн? Отведи Хупера в дом, — сказала Вик.
Уэйн свистнул, щелкнул пальцами, прошел мимо Мэгги, и собака неуклюже затрусила вслед за ним. Уэйн плотно закрыл дверь за ними обоими.
Мэгги сказала:
— Я всегда думала, что ты напишешь. Ты обещала. Гадала, подашш-ш-шь ли ты весточку, когда арестовали М-М-МУ-мммМэнкса, но потом подумала, что ты решила вычеркнуть его из своей жизни. Несколько раз я ч-ч-чуть тебе не написала, но с-с-сначала боялась, что твоя с-с-су… твои родные с-с-станут рас-с-с-с-спрашивать тебя обо мне, а потом подумала, что ты, м-мм-может быть, хочешь вычеркнуть из с-своей жизни и меня.
Она снова попыталась улыбнуться, и Вик увидела, что у нее недостает зубов.
— Мисс Ли. По-моему, вы что-то путаете. Я вас не знаю. И ничем не могу вам помочь, — сказала Вик.
Вик пугало именно ощущение, что все было ровно наоборот. Мэгги ничуть не путалась — лицо у нее так и блестело от сумасшедшей определенности. Если кто и путался, так это сама Вик. Она видела все это перед своим мысленным взором: темную прохладу библиотеки, пожелтевшие фишки «Эрудита», разбросанные на столе, бронзовое пресс-папье, похожее на пистолет.
— Если ты меня не знаешь, то откуда тебе известна моя фамилия? Я ее не называла, — сказала Мэгги, только с сильным заиканием — на то, чтобы вывести эту фразу наружу, потребовалось около полуминуты.
Вик подняла руку, требуя тишины, и отмела это заявление как нелепое. Конечно, Мэгги упомянула свою фамилию. Она назвала ее, когда представлялась, Вик в этом не сомневалась.