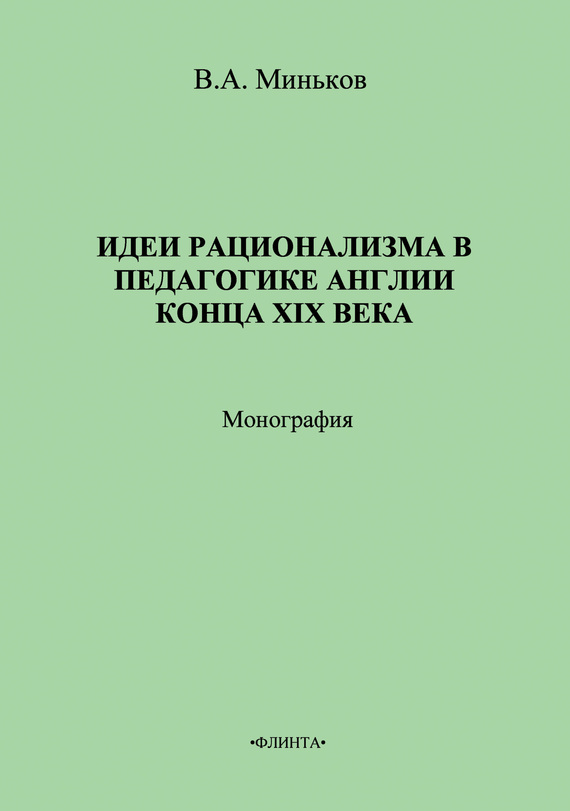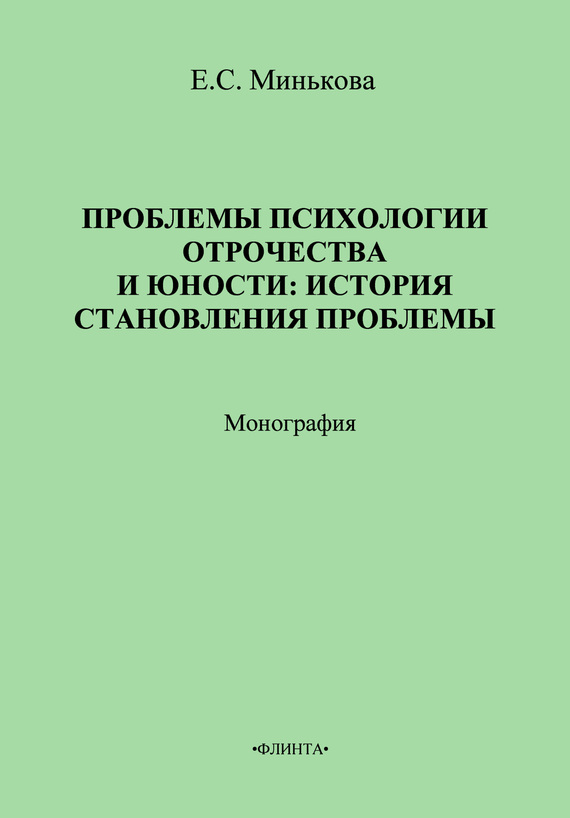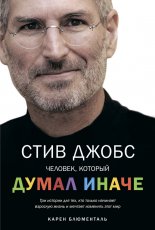У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

– Да здесь плохое качество… да и гитара слабая…
Он улыбнулся:
– Ну, при чем тут гитара! Вы знаете, очень неплохо. Представьте, я даже не ожидал…
Мне просто не верилось. Вот это я понимаю. Как жаль, что никто этого не слышал.
Я ему предложил:
– А давайте я вам лучше запишу сам…
Но оказалось, что у наших магнитофонов могут не совпасть параметры: ведь у Булата Шалвовича «Грюндиг». И когда он говорил, что у него «Грюндиг», то при этом он, мне показалось, почему-то застеснялся. И добавил, что «Грюндиг» ему подарили друзья.
Я вообще обратил внимание, что у Булата Шалвовича очень много подарков. Какая-то не квартира, а прямо настоящий музей. Все стены увешаны картинами и рисунками. И почти везде сам Булат Шалвович.
Припоминается одна картина, на которой Булат Шалвович изображен в гимнастерке, а вместо погон – карты. На картах вместо червей и крестей – нотные знаки. А вместо винтовки – гитара.
Мы еще немного послушали, и Булат Шалвович сделал несколько замечаний. Например, когда слушали «Март», то он мне дал даже практический совет.
– Вы знаете, какая-то плясовая. Тут надо или изменить мелодию, или добавить припев.
Теперь он мой учитель. А я его ученик.
В это время зазвонил телефон, и Булат Шалвович схватил трубку. Звонила его мама.
Булат Шалвович заулыбался и точно переместился на другую планету. Он меня совсем не стеснялся.
Он произнес – как будто пропел – своим бархатным голосом:
– Мамочка, это ты? Взял, взял (речь, как я понял, шла о билетах в театр). В «Современник». Нет, нет, не «Таганка». Хорошо. Я буду тебя ждать. Мы подъедем.
Мне сразу же вспомнились его песни. Вот он стоит такой печальный и такой мудрый, похожий не то на большого мальчика, не то на птицу. Он стоит и поет. « Не клонись-ка ты, головушка, От невзгод и от обид. Мама, белая голубушка, Утро новое горит …» И еще припомнилось его стихотворение. Там, кажется, так: « Настоящих людей очень мало./На планету – совсем ерунда./ На Россию – одна моя мама./ Только что она может одна …»
И как-то сделалось грустно. Почему и я тоже не могу написать такое стихотворение про свою маму? Я даже чуть не заплакал. Но это так. Про себя.
Булат Шалвович повесил трубку, и мы с ним дослушали все до конца. Концовку Булат Шалвович слушал уже не так внимательно. Он еще не отошел от разговора с мамой.
Когда песни закончились, Булат Шалвович вдруг вскочил и снова куда-то вышел. Я поглядел на часы. Уже без четверти два. А как же его гости? Ведь он их ждал к часу. Но никаких гостей не было. Булат Шалвович возвратился с пластинкой. Пластинка оказалась болгарская. На одной стороне «Ленька Королев» и «Наденька», а на другой – «Моцарт».
Он меня спросил:
– Как вас…
Я промямлил:
– Толя…
Он переспросил:
– Анатолий… – и поднял голову.
Я опять промямлил:
– Михайлов…
Он что-то на пластинке написал и протянул ее мне. Он еще раз повторил:
– Вы знаете, очень, очень неплохо. Вы меня просто порадовали.
Я прочитал: «Анатолию Михайлову в память встречи. Б. Окуджава». Как-то плохо соображая, я прошептал:
– Спасибо…
Я думал, что визит уже окончен. Но, против ожидания, Булат Шалвович расположился в кресле напротив и будто бы пригласил меня с собой побеседовать. Я с ним заслужил разговор.
Булат Шалвович спросил:
– Вы давно занимаетесь песнями?
Я ответил:
– Да нет. Да я, можно сказать, ими не занимаюсь. Я вообще-то занимаюсь прозой. А песни просто помогают.
Он сказал:
– Понятно. А сколько вам лет?
Я смутился – как-то все-таки стыдно, что еще почти ничего не сделал:
– Скоро тридцать три.
Он улыбнулся:
– Это еще не много. А у меня уже сыну скоро двадцать. Сейчас в Тикси. Служит. Недавно приезжал.
Я переспросил:
– В Тикси? А я из Магадана. Вообще-то я москвич… сейчас, правда, уже ленинградец…
Он оживился:
– Из Магадана? Вот не бывал. Во Владивостоке был. А в Магадане не приходилось. Ну, как там, много… – он, наверно, хотел сказать «заключенных», но не подобрал слова.
Я Булата Шалвовича понял:
– Да сейчас и не разберешь, кто там теперь заключенный, а кто наоборот. Сейчас все перемешалось.
Он усмехнулся:
– Понятно. Вы женаты?
Я опять смутился:
– Да нет… – и запнулся. – А вообще-то женат… но только… развелся…
Он протянул:
– А…
– Ваши переводы Челидзе… – я опять запнулся, – понимаете…
Он признался:
– Я и сам их люблю. Мы с Отаром друзья. Он у меня часто бывает.
Я тоже признался:
– Ну, прямо про меня…
Булат Шалвович на меня посмотрел и спросил:
– Ну, и как, встречаетесь? Дети есть?
Я опустил голову:
– Да нет. Не встречаемся. Она вышла замуж. А дочь… – тут я снова запнулся и замолчал.
Он меня поддержал:
– Это ужасно… я сам знаю, что это такое…
– Она сестра… вы, наверно, слышали, самый знаменитый сейчас бард… – и я назвал Сережину фамилию: – Сережа Никитин.
Булат Шалвович поморщился:
– Никитин? А… Припоминаю. Агитбригада, студенты… – Булат Шалвович снова поморщился. – Знаете, я вообще не любитель всех этих «ча-ча-ча».
Как все-таки жалко, что эту его фразу нельзя было записать на пленку. Конечно, некрасиво. Но если бы мне предложили кусок пленки с этой фразой, а взамен бы потребовали пластинку, которую мне подарил Булат Шалвович, то я бы еще подумал.
– Пойдемте лучше, я вам кое-что покажу. – С этими словами Булат Шалвович поднялся. – Пойдемте в ту комнату.
В другой комнате он достал что-то вроде складной гармошки, бывают такие детские книжки из картона, только эта намного больше. Он стал ее разворачивать, и каждая картонка превращалась в футляр с пластинкой. А на другой стороне – тексты. По-русски и по-французски. Выпущено в Париже. И еще фотографии. Я их, правда, не успел запомнить, он показывал слишком быстро. Но примерно такие: Булат Окуджава на рыбалке или Булат Окуджава собирает грибы. А в самом начале – биография; и тоже по-русски и по-французски.
Вслед за Парижем Булат Шалвович теперь достал Нью-Йорк, а потом еще и Лондон, и все в том же духе. Но только по-русски и по-английски. Я уж не говорю о Варшаве.
Я смотрел на Булата Шалвовича и тоже с ним вместе радовался. И думал, что недалек тот час, когда песни Булата Окуджавы начнут изучать на уроках пения в школах.Когда пластинки были показаны, Булат Шалвович вынул одну из них из футляра и поставил на проигрыватель. А наверху две такие колонки. Пластинка оказалась польская.
Он включил, и густой женский голос запел: « Простите пехоте …»
– Люблю поляков! – восхищенно произнес Булат Шалвович. – Прекрасный народ!
Полячка все пела, а Булат Шалвович стоял и наслаждался.
– Послушайте, нет, вы послушайте… Сейчас вступит флейта… Слышали?..
Потом вдруг спохватился, нахмурился и, не дослушав, выключил.Скрипичный ключ
1
Олечка покопалась в кармане фартука и, протянув мне два кулака, засмеялась:
– В каком?
Я тоже засмеялся:
– Вот в этом. – И в ее разжатых пальцах оказался засушенный цветок. Посередине – желтый зрачок, а вокруг зрачка – белые лепестки. Я думал сначала, ромашка, но Олечка меня укоризненно поправила:
– Эх, ты, даже не узнал маргаритку! – Олечка ее сорвала еще в прошлом году на клумбе.
Напротив нас на газете притаился рак, а возле него с букетом в руках сидела девочка.
Девочка перевернула рака на спину и, вытащив из букета стебель, почесала раку живот. Заслоняясь клешнями, рак приготовился к бою, но, сообразив, что это еще только разминка, тут же успокоился. Лежащий на спине он был похож на застывшего в оборонительной стойке уверенного в себе профессионала-боксера.
Следя за его маневрами, Олечка вдруг вспомнила черепаху; в прошлое лето черепаха проводила каникулы на веранде в Манихине и, если пощекотать стеблем, то все запрятывала свою дрожащую на прутике голову под панцирь. В корзине для грибов ей постелили траву и напихали туда вместе с морковкой листья капусты, но, несмотря на такое питание, черепаха все равно убежала. Первый раз она успела доползти только до калитки, и утром ее проэтапировали обратно в корзину. А на следующий день она сменила направление и, запутав следы, убежала насовсем.
Когда уже было выходить, Олечка потянула меня за рукав:
– Папк, а давай поедем с ними дальше.
Но я Олечке возразил, мотивировав свое решение тем, что нам с этим товарищем не по пути: ведь он, если его поставить на ноги, потащится задом наперед.
Выслушав мое объяснение, Олечка задумалась. Мы с ней уже шагали по платформе.
Олечка у меня спросила:
– А что значит задом наперед?
Я порывисто развернулся и, дурашливо косолапя, затопал «коленками назад».
Мы вышли на шоссе. Раздраженно сигналя и огибая нас выхлопами бензина, проносились машины. Мы перешли на другую сторону и, прижимаясь к обочине, пошли против движения. Машины теперь неслись навстречу, и во избежание дорожно-транспортного происшествия нам пришлось свернуть на тропинку.
…Олечка остановилась и поставила мне ультиматум: если мы с ней немедленно не съедим шоколадку, то она никуда дальше не пойдет. (Олечка собиралась ее «скушать» еще в электричке.) С фантика шоколадки, совсем еще не предчувствуя приближающейся развязки, нам улыбалась Красная Шапочка.
Но я свою дочь пристыдил.
Я сказал:
– Ты же не Серый Волк.
Олечка подумала и возразила:
– Ей в кармане темно.
Я тоже подумал и предъявил еще один аргумент.
– На солнце ей придется щуриться, и у нее заслезятся глаза.
Олечка поморщилась и, ничего не придумав, опять остановилась. У нас теперь ничья.
Все еще помня о недавнем поражении, Олечка пошла в ответную атаку.
– Но ведь она же, наверно, вспотела.
И оказалась права. Шоколадка уже совсем расквасилась. Олечка взяла у меня реванш.
Мы жевали с ней «Красную Шапочку», и я все смотрел на кладбищенские кресты. Возле каждой ограды стоял свой порядковый номер: могила 811… могила 940… На этом кладбище похоронен Борис Пастернак.
2И вдруг мы увидели ручей. Он протекал под мостом, мост был даже и не мост, а расхлябанный мостик, и когда по нему проезжала машина, то он от досады скрипел.
Олечка присела на корточки и поглядела между досками вниз. Перекрывая все остальные звуки, ручей, просвечиваясь камушками, переливался. Я тоже присел на корточки и, облюбовав себе соседнюю щель, присоединился к Олечке.
Так бы вот все сидеть и смотреть, и слушать. И чтобы никуда не надо было идти. Но, сзади, заскрежетав тормозами, возмущенно засигналили.
Мы уступили машине дорогу и, оторвавшись от перил, оказались на территории «Союза писателей».
3Мы попали в страну чудес: на курьих ножках стояла изба, но вместо часового у входа в нее насупился нарисованный индюк, и Олечка сразу у меня спросила, а почему у него на голове корона.
Я улыбнулся:
– Потому что…
И, не дав мне договорить, Олечка меня тут же продолжила:
– Потому что… кончается на учто?
Мы покосились на индюка и, переступив через порог, оказались в игрушечной комнате. На бревенчатой стене, в оправе с позолоченными завитушками, висела фотография совсем еще юного Катаева (и почему-то сразу же вспомнилось, как в кинофильме «Белеет парус одинокий» он обчистил у своего младшего брата копилку, и тот, перестав реветь, все еще потом удивлялся: «где денежка? – нету денежки!»); на столиках под стеклом музейными экспонатами красовались подарки, и на одном из таких подарков – это была какая-то редкостная книжка Маршака – я прочитал: «В дар библиотеке им. К.И. Чуковского от автора».
В комнате, в которую мы с Олечкой проследовали дальше, бренчало пианино: на круглой табуретке сидела пионерка и разучивала гаммы. Наискосок от пианино стоял стул, и на стуле сидела другая пионерка. Та, что сидела на стуле, изображала смотрительницу и, строго уставившись на посетителей, следила за порядком.В следующей комнате помещались подарки самих пионеров – в окружении пароходов и танков – вылепленные из пластилина освобождающий Муху-Цокотуху Комар-Победитель под присмотром взирающего из глубины коридора огромного Черного Кота. А под одним из рисунков было написано: «Дорогому Корнею Ивановичу Чуковскому от пионеров 4-го класса «Г» 331-й школы г. Москвы».
Мы еще раз заглянули в комнату, откуда доносилось пиликанье, и, не обнаружив там ничего интересного, вышли в действительность.
4Писательские дачи выглядели все на одно лицо, но что-то заставило меня остановиться возле именно этой. В нескольких шагах от нас за штакетником забора с папироской в зубах стоял совсем не писательского вида малый; малый курил с каким-то странным выражением – воинственной смесью собственного достоинства и почти дремотной скуки. Весь его облик словно бы говорил: да, он сейчас не при деле, но каждую минуту может поступить команда, и тогда без него ни шагу. И тут меня удивила еще одна деталь: из расположенного на участке сарая показалась девочка, еще меньше Олечки, в совсем не писательском тряпичном платьице, из-под которого высовывались совсем не писательского покроя синие панталоны, какие носят взрослые женщины, работая где-нибудь на шпалах с лопатами и ломами в руках. Возле сарая, со снедью и графинами на подносах, ломились столы, на крыше дымилась труба, а на протянутой между столбами веревке колыхалось бельишко. Но когда я пригляделся, то все встало на свое место: на окраине усадьбы, как и положено, по соседству с летней кухней помещалось подсобное хозяйство, девочка была, наверно, оттуда, а воинственно скучающий малый был скорее всего личный шофер.
И не успели мы войти в калитку, как нам навстречу выкатилась низкорослая и аккуратно подстриженная собачка; я держал Олечку за руку, а собачка все вертелась у нас под ногами: она не кусалась и даже не лаяла, а только все норовила нас обнюхать; но Олечка ее все равно испугалась и, еще сильнее стиснув мою ладонь, в страхе ко мне прижалась, и тогда мне пришлось взять Олечку на руки.
Из зелени кустов торчало крыло «Победы», а возле двухэтажного особняка была вбита лавочка, и на лавочке, похоже, сидел сам хозяин; ближе к нам, загораживая сидящего, стояла толпа, скорее всего журналистов, и некоторые из них были в шортах, и у каждого журналиста из перекинутого через шею футляра торчал объектив.
Я уже хотел повернуть назад, и в это время раздался звонок: следом за нами с длинным козырьком надвинутого на лоб гоночного кепарика в калитку въехал велосипедист. Объезжая нас, велосипедист обернулся и, поставив одну ногу на землю, поинтересовался: «Вы к кому?»
(При этих словах Олечка обхватила меня за шею и прижалась ко мне еще сильнее.)
Я аккуратно Олечку опустил и, вытащив из сумки свернутую в трубочку рукопись, поправил резинку. Рукопись называлась «У нас в саду жулики».
Велосипедист окинул нас оценивающим взглядом:
– Одну минуту… – и, нажав на педаль, подъехал к собравшимся.
При появлении велосипедиста толпа расступилась. Велосипедист каждого удостоил рукопожатием и, наклонившись, что-то сказал, и тот, что сидел на скамейке, покачал вместо ответа головой; в темных очках и в полосатой в обтяжку тенниске он смахивал на уже немолодого, но все еще не теряющего спортивную форму подтянутого рекордсмена. Это был Валентин Катаев.
Велосипедист удовлетворенно закивал и, развернув велосипед, снова направился к нам.
Конечно, он сожалеет, но Валентин Петрович сейчас очень занят и поэтому принять нас не может.
Когда мы шли назад, девочка из подсобного хозяйства забралась на качели; перебирая тапочками, она оттолкнулась и уже раскачивалась между деревьями; скучающего вида малый глядел на нас с безразличием и превосходством; его снисходительный взгляд словно бы нам выговаривал: ну, вот и поделом, что не пустили. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. А он вот, хотя и не с ними, тем не менее совсем не посторонний и всеми даже очень уважаем. (Точно так же когда-то гляделся и личный шофер Клима Ворошилова. Климент Ефремович тогда не побрезговал и прикатил на семидесятипятилетие бабушки Груни на дачу в Челюскинскую, и его любимец был даже приглашен к столу вместе с домработницей на сладкое: в саду с клубничным вареньем и любимым дедушкиным «хворостом» пили из самовара чай.)
5Поравнявшись с ворчливой развалюхой, мы опять заглянули в щель: все продолжая переливаться, ручей теперь просвечивал гривой водорослей – и с души как будто свалился камень.
…Я покопался в карманах и, протянув два кулака, засмеялся:
– В каком?
Олечка тоже засмеялась:
– Вот в этом…
И уверенная в своей правоте прошептала:
– Ключ…
Но, разжимая пальцы, я ее укоризненно поправил:
– Эх ты, даже не узнала ручей!
Олечка подумала и остановилась:
– Ручей?
Я объяснил:
– Тоже ключ. Но только не от квартиры, а скрипичный.
Олечка спросила:
– А что значит скрипичный?
Я пошутил:
– Скрипичный – значит от слова «скрип».
Но Олечка со мной не согласилась:
– А как же тогда слово «скрипка»?
6Мы вышли на тропу, и впереди таинственным полукругом развернулся закованный в решетки железнодорожный мост, а по бокам, переваливаясь через холмы и напоминая заплутавших странников, налезали друг на друга пронумерованные кресты…
И мы «… прошли сквозь мелкий, нищенский, нагой, трепещущий ольшаник …»… и там, где растут три сосны, с их «притихшими вершинами» «важно» «соседствовало небо…».
…Снизу послышались голоса, и прямо возле нас, завьюченная рюкзаками, выросла целая делегация туристов, и один из них держал на плече гитару (наверно, из тех, орущих на весь вагон «Пилигримы», услышав которые Иосиф Бродский чуть не выпрыгнул на ходу из электрички). Изображая почетный караул, толпа, наконец, угомонилась и застыла…
– Пойдем… – взял я Олечку за руку, – не будем ребятам мешать…Обходчик
Памяти Володи Ежова
У изголовия Бориса Пастернака
все помнят молодого человека,
закрыв глаза, качаясь и дрожа,
закинув голову и конвульсивно заикаясь,
читающего АВГУСТ, словно плач,
навзрыд, как заклинанье, как молитву.
Его хватились и хотели пригласить
туда, где люстры, где камин и где поминки.
Но след его простыл: он был уже в Москве,
а может быть, садился в электричку.
Но раз в полгода ровно сорок лет,
нет, даже сорок три, последним заклинаньем
он возвращается в «трепещущий ольшаник»
и делает обход своих владений,
где каждая сосна ему сестра.
Невольный поводырь
1
Лестница мало того что была крутая, но еще оказалась и раздолбанная, и, в отсутствие лампочки, каждый пролет приходилось брать штурмом на ощупь: в шершавых зазубринах перила то и дело прерывались и, сохраняя направление движения, оголялись сиротливо торчащими прутьями.
…Я пошарил по стене и, нащупав предполагаемую кнопку, позвонил. В задумчивости постоял и в ожидании приближающихся шагов прислушался. Тишина.
Опять нажал на кнопку и, пустившись на хитрость, подержал ее некоторое время утопленной. Но вместо шагов прямо у меня под ногами что-то стремительно прошуршало. Скорее всего, крыса. И снова тишина.
Уже собравшись уходить и усомнившись в исправности сигнализации, я решил напоследок устроить «контрольную канонаду», но, не успев еще сложить пальцы в кулак, нечаянно дотронулся до двери, и та, чуть слышно заскрипев, неожиданно сама отворилась и медленно поехала…
Все продолжая хозяйничать, темнота пошла на убыль: впереди откуда-то снизу и сбоку просачивался свет. Нацелившись на мерцающую полоску, я в нерешительности остановился и, все еще в сомнении – стучать или не стучать, – вдруг очутился прямо в комнате.
Несмотря на утро, окна в комнате были занавешены.
Как будто на сцене, колченогий торшер освещал швейную машинку и склонившийся над ней силуэт.
Посередине разбросанных по половицам лоскутков – в полосатых подтяжках, точно застигнутый врасплох, стоял похожий на старого парикмахера человек. Это был Михаил Светлов.
– Прошу… – Михаил Аркадьевич сделал по направлению ко мне шаг и вдруг протянул руку.
Я этого не ожидал, и, не достигнув кульминации, рукопожатие, скукожась, забуксовало; правда, рука, не соответствуя внешнему облику своего хозяина, оказалась совсем не мягкой.
– Странно, очень странно… И как это вы меня здесь откопали?
Произнес он это быстро-быстро и с каким-то чуть ли не дворянским изяществом грассируя.
Прокручивая заранее приготовленную фразу и окончательно в ней запутавшись, я опустил голову.
– Что, стихи принесли? – он еще раз внимательно меня оглядел. – Выкладывайте, голубчик, выкладывайте…
– Здравствуйте, – выдавил я, так и не выйдя из ступора, – я к вам по поручению «Пропеллера». «Пропеллер» – это наша газета. А мы… – тут я запнулся, – студенты… Не могли бы вы нам рассказать про Иосифа Уткина… Ведь он ваш друг…
– Э-э… – как-то сразу поникнув, невесело усмехнулся Михаил Аркадьевич, – тогда вам надо к уткиноведу…
Я удивился:
– А разве такие бывают?
– Представьте, – точно и сам удивляясь своему пророчеству, печально улыбнулся он, – и уткиноведы бывают, и светловеды будут…
Я промолчал.
– Додик, Додик, Додик… – опять быстро-быстро заговорил Михаил Аркадьевич, – какая же у него фамилия? – и, порывшись у себя в карманах, вдруг достал что-то похожее на бланк, а может, эта была квитанция; и, оторвав от нее клочок, вручил его мне. – Вы лучше вот что: вот вам мой телефон, только не сюда, сюда телефона нет, и вы мне позвоните. И мы с вами разыщем этого удивительного Додика…
– Уткиноведа Додика, – словно примеривая диковинное украшение, добавил он мне на прощание.
Я засунул квиток за пазуху, и Михаил Аркадьевич, проводив меня до порога, опять протянул мне ладонь. И на этот раз рукопожатие совсем не смазалось.
Склонившаяся над рукавом пиджака, с гребнем в копне седых волос, женщина все продолжала крутить свой штурвал, а сопровождающий эту картину стрекот так и напрашивался на сравнение со звуком строчащего пулемета.
2Я позвонил.
– Э-э…где же это моя записная книжка? Сейчас мы ее найдем… куда же она задевалась?.. Звоните, голубчик, еще, и я ее непременно найду.