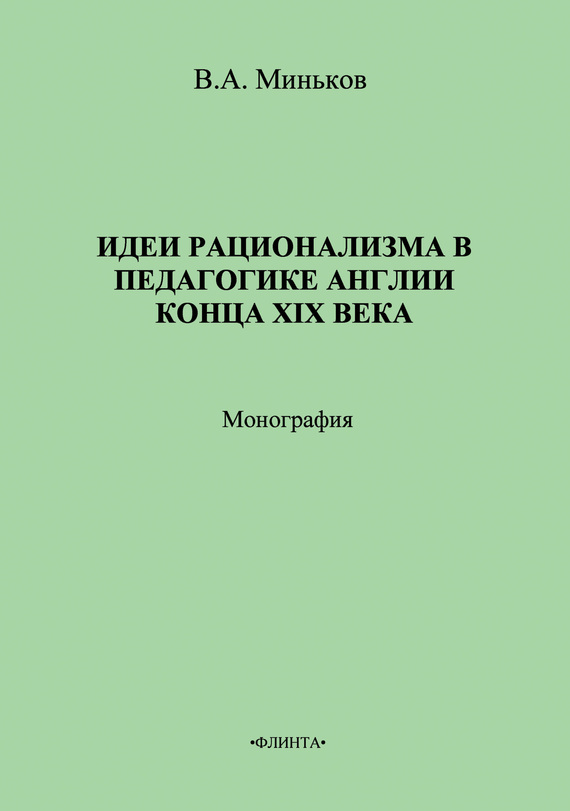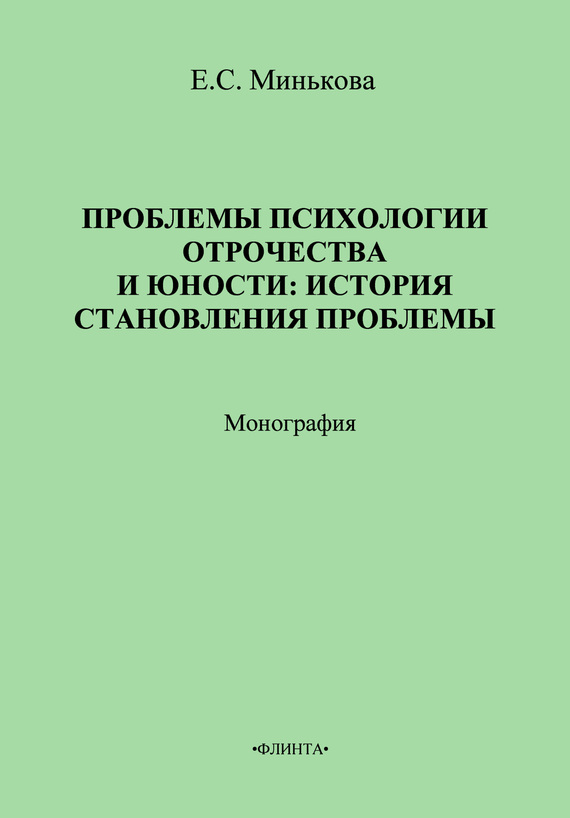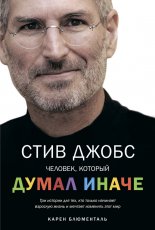У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

маменькин сынок ккк
возлежит куклуксклавишей на диване
у моста через речку делавер
на берегу ручья лордвилль-божедомка
где хозяйничает добродушный опоссум
и два раза в неделю эммилия карловна
подберезкина
делает своему небожителю педикюр
замахнувшийся на небеса
хворостиной матадора гусей
голодный как волк и голый как сокол
раскочегаривая печь
холодный как русское поле
кузьминский суров как исав
и прежде чем попасть на блюдо
в конструкции своей вавилонской башни
воспламеняясь мерцанием
чешуи красногубой плясуньи
все шуршит и шуршит секирой божка
покатившейся головы
зело хмуриша солно горюче дрочило
схлопоташа не бесно пищаль кикимо
зьминский гол как сокол и суров как исав
отсекоша на блю
до октавы
сотворите креста сини звон вавилонскую башню
упадая зане чешуи красногубыя пляс
и секирой божка все шуршит и шуршит
покатиша ку-ку
в противоположность
своему покалеченному подельнику
гран борис обитает без крыши и стен
и даже без маникюра
воспламеняется шуршанием кикиморы
за складным столиком
гаснущей опушки навалившейся темноты
фиксируя звуки наката запаха памяти
все прихвачено морозом
на печи прохладно – минус восемь
и уже не течет
вознесенные в небесную околесицу
товарищами по заточению
по ту сторону зла и добра
пахари с большой буквой
соловеют амбарами зерна
и бороздя нерукопашную мздулю
ворожат обрушенный им на плечи
божественный зуд
Мозги набекрень
А все-таки несправедливо: если ты еврей, то перед тобой открыты любые ворота. Евреи бывают и польские, и венгерские. Бывают и дагестанские, и бухарские. И даже бывают эфиопские.
А русский человек себе такого позволить не может.
Таможня
1
Сначала я его даже и не понял, наверно, решил, просто шутит. А он и не думает шутить. Уставился как баран, и тут ему хоть кол на голове теши…
– …но ведь это, – и чуть ли уже не плачу, – ведь это же я… Вы что, не узнаете? – и даже потрогал у себя на скуле щетину. – Смотрите, – и дотрагиваюсь до фотографии, – вот видите, та же самая…
(А фотография – на обложке, где я с точно такой же щетиной – теперь, правда, еще и поседела – в окружении ящиков за нашим овощным. Но всем почему-то мерещится Сибирь.
И даже иногда читают, что обо мне написал Искандер:
«Мне кажется, самая обаятельная черта в творчестве Анатолия Михайлова – это тонкий скрытый лиризм…»
И тоже потом уставятся и все никак не могут отгадать.
– А это, – спрашивают, – кто, Аксенов?)
Но он все равно ни в какую.
– Нам, – говорит, – нужен документ.
Оказывается, еще не все. Помимо справки, что эти книжки мои, надо еще и доказать, что они не представляют государственной ценности. А если не докажу, то придется платить госпошлину.
– Но я же их издал за свой счет… вот, – говорю, – читайте… «Издание осуществлено за счет средств автора». И везу их, – объясняю, – в подарок студентам и буду раздавать на симпозиуме в фойе…
– В каком еще таком, – прищуривается, – фойе?..
– Как, – удивляюсь, – в каком? – и давай ему опять все по новой разжевывать. Но он опять ничего не понимает.
Теперь, наверно, запомнит и тормознет; я ведь ему и рейс, и число – все, как на блюдечке, выложил. Всего-то было узнать: разрешается провозить шестьдесят четыре килограмма (два места по тридцать два да плюс ручная кладь). А я с ним тут размазываю кашу. Выходит, что баран все-таки я.
2Можно, конечно, бороду сбрить, и тогда он меня вообще не узнает. Но тогда и мой покупатель может усомниться в моей подлинности.
У меня один раз такой случай уже был. На Невском. Стою со своим «Ложным суставом» на троллейбусной остановке, а рядом со мной прямо на костыле сидит одноногий Федя.
Вообще-то ноги у него две. Но это смотря где. Как-то у нас в гастрономе гляжу, меняет у кассирши мелочь. Я даже несколько раз пересчитал: а вдруг обман зрения? Но никакого обмана. А на рабочем месте всегда почему-то одна. И, помимо соотечественников, его еще обслуживают иностранцы. И, помню, один, весь в наколотых на пилотку значках, вдруг хватает меня за локоть и, восхищенно вскинув большой палец, уже выдвигает у себя на груди целую подзорную трубу.
– Ай эм, – и так приветливо нам улыбается, – сори… – не откажу ли я ему в любезности его вместе с моим товарищем сфотографировать.
И за работу отстегнул мне потом доллар. А моему подельнику – за его богатырскую осанку – целый пятерик. (У Феди такая борода, что его тезке на острове Свободы нечего делать.)
Но все почему-то читают не «ложный», а «пожарный». И не «сустав», а «состав». И сразу же все понятно: «Пожарный состав».
И вдруг подходит пьяный и начинает у меня допытываться. А что, спрашивает, на второй странице? Ну, а что на третьей?
– Вот видишь, – говорит, – не знаешь. А знал бы, не молчал.
– Иди, – говорю, – гуляй. Воруй, пока трамваи ходят…
А он все продолжает отираться. Ну, слава тебе, Господи, кажется, ушел. Минут через пятнадцать опять возвращается.
– Покайся, – говорит, – и сразу будет легче!
3У меня еще не было опыта, и свою первую книжку я выпустил без фотографии. Еще не понимал, что самое главное – чтоб на обложке красовалась твоя рожа. А чтобы граждане тебя узнавали, – и на фотографии, и на тыкве – совпадали головные уборы.
Зимой-то, конечно, совпадают, а летом могут и не понять. За двадцать три года ушанка уже вся протерлась и потеряла цвет. Но если опустить уши, то мех еще почти совсем не облез.
Лена считает, что по этой «короне» уже давно плачет мусорный бак. Но я ее все-таки переубедил. Потом ведь народ не простит.В этой ушанке я выходил на рээсе «Иваново» в Охотское море. И еще меня в ней видел Иосиф Бродский. 4
А перед самым вылетом выбрали себе на контроле молодуху, и вместо «симпозиума» пришлось перестроиться на «слет менестрелей». А чтобы вписаться в образ, в Гостином дворе даже приобрели черного цвета гитару. (И уже в Нью-Йорке, еще не успев акклиматизироваться, я тут же ее и толкнул, и моя соседка по торговому ряду, предлагавшая прохожим корвалол, когда потом об этом узнала, то от расстройства чуть не «раздавила» целый пузырек. Я заработал четвертак, а она бы ее у меня даже за тридцатку купила бы своему внуку. Здесь музыкальные инструменты в большом дефиците, и моя гитара могла бы улететь и за полтинник.) А накануне, вооружившись весами, все, разложив по стоимости, взвесили и пересчитали, и в 64 килограмма утрамбовалось 473 экземпляра. И для конспирации давай потом перекладывать шмотками: на самом дне – за пять рублей – носками и полотенцами, посередине – за три – трусами и носовыми платками, а на поверхности уже без всякой маскировки – за рубль с полтиной. И если начнут шмонать, придется открыть всю правду, что все эти «манифесты» – бесплатные приложения к моим песням, и после выступления на бис я буду их дарить не отпускающим меня со сцены соотечественникам.
Я снимаю с плеча гитару и расстегиваю на чемодане ремни. Достаю уже заранее приготовленный сувенир и, повернувшись, протягиваю его контролерше.
Мой сувенир носит название «В тяжелую минуту жизни» и в любую минуту готов мне прийти на помощь.
На фасаде обложки товарищ Сталин опустил на плечо товарища Ворошилова ладонь. Клименту Ефремовичу это в кайф, и, прильнув к Иосифу Виссарионовичу, он расползается в доверчивой улыбке.
А на другой стороне под «затоваренным» в стеклотару «Аксеновым» – такой текст:Обыграл в бильярд Клима Ворошилова,
угощал лимонадом Иосифа Бродского,
сидел в кресле Булата Окуджавы
и был спущен с лестницы
Варламом Шаламовым…
Из автобиографии Анатолия Михайлова
– Вы, – улыбается, – что, писатель?
– Да нет, – говорю, – я вообще-то бард… – так меня научил Володя Бережков, он в прошлом году тоже летал в Америку. Пристроится где-нибудь возле бензоколонки на ящик и поет: «Я совершенно слепой старик…» И каждый ему что-нибудь в шляпу кидает. И потом его даже пригласили выступить на концерте в ООН. Зря, что ли, еще в середине шестидесятых его благословил сам Александр Аркадьевич Галич.
– А вы мне, – и прямо уже вся чуть ли не сияет, – не надпишете?
Как сказал бы Аркаша Северный: «Ну, какой может быть разговор после семи обысков!»
И надписал – и не только ей одной. И из ее коллег даже выстроилась потом целая очередь.Американское метро
1
Я подсчитал: за два жетона в метро здесь можно купить двадцать четыре банана.
Зато у нас в Питере за один банан можно проехать в метро двадцать четыре раза.
2
Мы влетели с Леной в вагон и, когда уже тронулись, спрашиваем:
– Экскьюз ми… гоу… Брайтон-Бич…
Негр мотает головой:
– Ноу, ноу…
Все ясно: не доедем.
На следующей остановке хотели выскочить и поехать обратно. Но все закричали и замахали руками. Мы испугались и снова поехали дальше.
На следующей – рванули и даже успели выскочить.
Уже затилибомкало – значит, посадка окончена. Но негр подставил ботинок, а белый следом за нами тоже сиганул и успел затащить нас обратно.
Оказывается, на этих станциях в обратную сторону нет перехода и один только выход. И чтобы опять попасть в метро, надо снова брать жетон.
А вот на следующей, где уже переход, все заулыбались:
– Йес, йес…
И мы тоже заулыбались:
– Сенк ю…
Американцы спасли нам двадцать четыре банана.
Бизнесмен с кутузовского проспекта
Я нажимаю на тормоз и прочесываю глазами стол. Такой же, как и у нас на Невском. Все те же вперемежку с Агатами Кристи россыпи жемчужин: «Человек без лица», «Странствующие трупы», «Ключ от морга», «Банда-1», «Банда-2», «Банда-3», «Рембо-4», «Рембо-6», «Тарзан-19», «Как стать богатым», «Еврейская кухня».
С распущенными волосьями и сентиментальным оскалом лучезарная «Мадам». А это еще что за б. дь? Оказывается, Мата Хари.
И вдруг Высоцкий. И как его сюда занесло? Но теперь хотя бы есть с кем перекинуться словом.
А вот и мой первый товарищ по производству. Совсем еще зеленый юнец. С рассыпанной на лбу копной чернявых завитушек.
– Вы, – спрашиваю, – не возражаете, я встану рядом с вами? Надо, – говорю, – как-то начинать. Я еще здесь ничего не знаю. Только из Питера.
– А я, – протягивает мне руку, – из Москвы.
Рука, слава Богу, не мокрая. И это уже хорошо.
– Я, – объясняю, – вам не конкурент. Я, – говорю, – автор. А это мои книжки. – И открываю чемодан.
Зовут его почему-то не Эрик, а Элик. Как из рассказа Бабеля «Элья Исаакович и Маргарита Прокопьевна».
Когда Элик уезжал, то над соседним подъездом еще висела мемориальная доска. Что в этом доме жил Леонид Ильич Брежнев.
– Наверно, – улыбается, – уже сняли.
Немного разочарован. Он, был бы писатель, здесь бы на Брайтоне не стоял.
– Недавно, – вспоминает, – дал Наумычу на подпись несколько книжек. И чуть не перевернули стол.
– Какому еще, – спрашиваю, – Наумычу?
Оказывается, Рыбакову.
– Он сейчас тут, – и кивает в сторону океана, – пишет продолжение «Страха».
«Дети Арбата» идут по червонцу. Ну, а с автографом – четвертак.
– А как вы, – улыбается, – думаете, кто это такой? – и кивает теперь на идущего мимо оборванца.
Ну, не совсем оборванца. А так. В ковбойке и в потертых тренировочных.
Оказывается, миллионер. И у него здесь три магазина. А у его брательника – два ресторана.
А вот на Манхэттене есть такое кафе, куда только за вход нужно платить две тонны.
– Всего две тыщи рублей?
– Вы, – улыбается, – шутите. Две тыщи долларов.
Элик мечтает туда сходить. Когда-нибудь потом. А покамест, смеется, не по карману.
Еще меня удивил. Они тут с друзьями по колледжу скоро собираются на пикник, и после пьянки ему надо будет их развозить. Так что придется воздержаться. А туда они поедут на электричке.
– Ну, как это… – и откидывает со лба завитушки, – как это у вас называется…
Он позабыл.
Уже забыл, как называется по-русски вокзал. А ведь всего только два года, как уехал.
Я думал, он еще школьник, а он уже на третьем курсе. А здесь он так. Подрабатывает. Но капуста, говорит, ничего. Клевая.
Слово «вокзал» забыл, зато «клевая» помнит.
– Ну, и сколько, – спрашиваю, – сколько примерно выходит?
– Да, – скромничает, – тонны… четыре… ну, может, пять…
Когда, уточняет, как. Приблизительно тонна в неделю. Но бывает и полторы.
И, что-то вспомнив, куда-то вдруг намыливается.
– Я, – говорит, – сейчас…
Он только сбегает за словарями. Тут рядом.
– Кто подойдет, – тормозните…
Подходит молодая еврейка и смотрит на «Мадам». История одной проститутки.
Спрашивает:
– А это интересно?
– Вообще-то, – улыбаюсь, – то, что надо.
– А это, – узнает меня на фотографии, – вы?
– Да. Это, – говорю, – я.
Читает:
«А потом дедушку обделили – всем давали города, а дедушке не досталось даже паршивой деревни. Екатеринослав так было уже и назвали – Днепромихайловск, но потом почему-то раздумали. Его назвали Днепропетровск, хотя бабушка говорит, что Петровским там и не пахло…»
– И это, – спрашивает, – правда, в честь вашего дедушки?
– Да, – говорю, – это правда.
Она сама «с Одессы», но она всегда думала, что Днепропетровск в честь Петра.
– Да нет, – объясняю, – в честь большевика. Конкурента моего дедушки.
– Да, – улыбается. Она этого не ожидала. Что в честь «какого-то биндюжника». – Надо, – говорит, – купить.
Ну, вот. И я теперь тоже бизнесмен. И тормознул для Элика клиентку.
Мне отслюнила трояк, а Элику за его «Мадам» – чирик. И мы с Эликом оба улыбаемся.
– А как ты думаешь, – мы уже перешли с ним на «ты», – сколько стоит этот словарь?
– Да, – говорю, – долларов двадцать.
– Да ты, – говорит, – что, смеешься?..
И оказалось, что стольник.
Я их потом Коле прогнал, наверно, не один десяток. И оказался прав. От восемнадцати и до двадцати трех.
В таких пределах мне Коля установил коридор.Дети арбата
Анатолий Наумович Рыбаков как-то позвонил моей маме и попросил ее подбросить ему сюжет.
Оказывается, еще в начале двадцатых мама была пионервожатой, а юный пионер Толя руководил у нее в отряде звеном.
Мама ему говорит:
– Я, Толя, уже все забыла.
И так ему ничего и не подбросила.
А если бы вдруг позвонил Варлам Тихонович Шаламов и для своих «Колымских рассказов» попросил бы подкинуть пару-другую деталей, то интересно, рассказала бы ему мама про свою любовь к правой руке «Мальчика из Уржума» Ивану Петровичу Светикову?
Но в «Тяжелую минуту жизни» мама мне все-таки раскололась.
А легендарный «Наумыч» уже, наверно, давным-давно всех обзвонил.
Ромка гершгорин
1
– А ты чего тут, Михайлов, делаешь? Михайлов – и приехал к жидам?!
Уже успел прочитать на обложке. И тоже борода. Но только не лопатой, а ухоженная.
– А что, разве, – улыбаюсь, – нельзя?… – и тоже, в свою очередь, дуркую, – я, – говорю, – больше не буду.
И Элик за меня сразу же заступился.
– Тебе, – спрашивает, – чего? – и так это, по-московски, уже было заделал ему «шмазь». Но в последний момент запричесывался.
– Ты, б. дь, смотри. Я тебе так с нами разговаривать не советую.
И упирает руки в боки.
Я Элику говорю:
– Да это он так. Пошутил.
Зато Элик не шутит.
– Пускай, – говорит, – извиняется.
– Вот видишь, – это я уже Бороде, – испортил человеку настроение.
Хорошо еще, к Элику подошел клиент. А так бы пришлось Бороде извиняться.
А сам все еще хорохорится. Не то чтобы обосрался. А так. Малость не подрассчитал.
– Да ты, – я его успокаиваю, – не огорчайся. Бывает.
И жмет мне петушка.
– Роман.