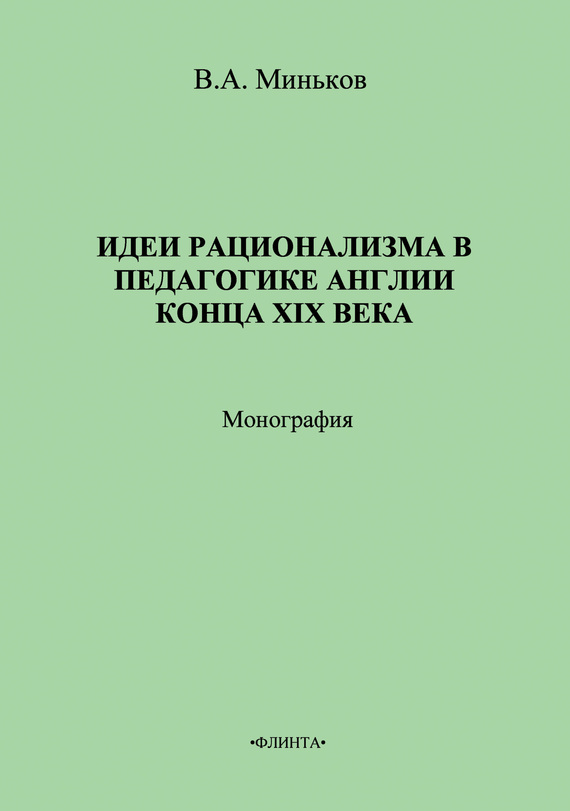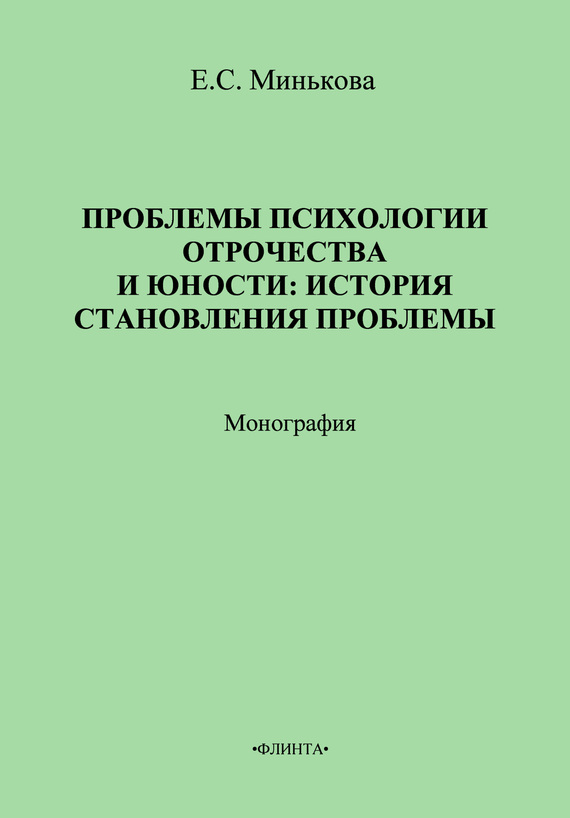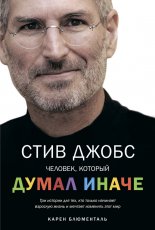У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

Читать бесплатно другие книги:
В монографии рассматривается педагогическое наследие представителей рациональной школы в истории раз...
Монография содержит теоретический материал, посвященный проблемам истории разработки психологии отро...
Стив Джобс (1955–2011) – основатель компаний Apple и Next, глава студии Pixar, создатель первого дом...
Чтобы при жизни стать классиком современной литературы, мало издаваться миллионными тиражами и перев...
В книге самым ценным является информация о каждом из 12 (дюжины) приёмов остроумия и технологии его ...