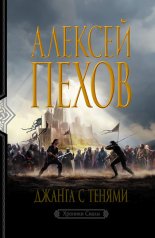Саквояж со светлым будущим Устинова Татьяна

Родионов хлебнул из чашки, поморщился и запил из стакана. Кофе был скверный, едва теплый и слабый.
— Да кто угодно. Предвыборная борьба.
Весник закурил и осторожно засмеялся. Хохотать было как-то не слишком прилично, вот он и старался не хохотать.
— Борьба-то борьбой, только способ убийства какой-то странный. Зарезать кандидата в украинские президенты в чужом доме, да еще в чужой спальне, да еще… так конкретно зарезать?!
— Что значит — конкретно?
— Ты видел, сколько там было кровищи?
Родионов пожал плечами.
— Это я его нашел, — напомнил он. — Все я видел.
— Ну?!
— Что — ну?
Весник вздохнул протяжно, как терпеливый учитель, пытающийся добиться от ученика правильного ответа на вопрос, сколько будет трижды семь.
— Что ты думаешь?
Похоже, Родионову польстило, что начальник и профессионал Илья Весник пытается выяснить у него, что случилось.
— На заказуху не похоже. Киллер стрелял бы из пистолета, пистолет бы бросил и ушел незамеченным.
— Так и этот ушел незамеченным!
— Маша видела нож. Она же все рассказала этим самым, из местной жандармерии!
— Милиции, — буркнул Весник. — Здесь не жандармерия, а милиция.
— Да какая разница!
Весник некоторое время курил в молчании, а потом опять привязался:
— Выходит, тот, который мылся, под каким-то предлогом заманил Головко в комнату, зарезал его… Сколько там ножевых ранений, они сказали?
— Двадцать семь, — уныло ответила Маша Вепренцева. — Двадцать семь ножевых ранений.
— Ну вот. Нанес, значит, ему двадцать семь ножевых ранений и потом зачем-то поперся в соседнюю комнату. Так, что ли, выходит?
Родионов молчал. Глотал кофе и морщился.
Все они были перепуганы и ни за что не желали друг другу в этом признаваться.
Труп Бориса Дмитриевича Головко, «кандидата в украинские батьки», как накануне выразился Весник, был страшен. Так страшен, что писатель Аркадий Воздвиженский, картинно глотая остывший кофе, подумывал трусливо, что, пожалуй, надо бы воздержаться от такого грязного способа убийства, хотя бы в новой книжке. Дмитрий же Родионов, пристально наблюдавший за тем, как его второе — или первое! — «я» глотает дрянной кофе, думал только о том, что нужно срочно отвлечься, перестать думать, вспоминать, как на полу в самой середине светлого ковра лежало «это», потому что «оно» не было человеком!
Уже.
А может, и никогда не было человеком, потому что человек — это все-таки нечто совсем другое, не просто куча обмякшей, пропитанной кровью плоти со странно вывернутыми конечностями.
Знаменитый детективщик Воздвиженский, ловко укладывавший трупы налево и направо в книгах, иногда безмятежно терявший их в загадочных компьютерных файлах, никогда не думал, что убийство — это так… ошеломляюще. Так безысходно. Так грязно. Так отвратительно.
Еще он никогда не думал, что это так тяжело, физически тяжело — перевернуть мертвое тело, как будто оно весит несколько тонн!… Перевернуть и увидеть, во что превратилось то, что раньше было животом. Раньше, когда «это» еще было человеком.
От запаха крови Родионова так мутило, что он сосредоточился только на том, чтобы не помчаться в ванную и не выворачиваться там наизнанку над унитазом, унизительно, позорно.
Если бы не Маша Вепренцева, которая коротко дышала у него за спиной и все время повторяла: «Дима, не волнуйся, не волнуйся, ничего страшного!» — если бы не она, его бы непременно вырвало. И еще он немножко помнил про Сильвестра, которого мать немедленно вытолкала взашей, как только она увидела на полу «это». Она вытолкала его и дрожащим пальцем стала тыкать в кнопки телефона, потом прибежал Весник и еще какие-то люди, и Родионову почему-то запомнилось бледное и ничего не выражающее лицо Катерины Кольцовой.
Катерина моментально увела детей, которые с любопытными и наивными лицами и с разинутыми ртами сразу же замаячили в дверном проеме. Потом завизжала Мирослава, и визжала так, что Родионов несколько раз попытался заткнуть себе уши и все отдергивал руки, потому что этот жест казался ему неприличным, и он ругал себя за него.
Что это такое было? Кто это сделал?! Зачем?!
Приехали какие-то многочисленные машины, и люди в форме и белых халатах, так много, будто собирались отбивать атаку многотысячной армии или проводить сразу несколько сложных хирургических операций. Потом приехали люди в пиджаках и галстуках, несмотря на глухое ночное время, и еще какие-то служивые в другой форме, и теплая южная весенняя ночь постепенно превратилась в вязкий кошмар, залитый желтым электрическим светом, и от осознания этого кошмара словно иголка колола мозг.
Родионов тряс головой, все хотел вытряхнуть из мозга иголку, а она колола все сильнее и сильнее. В глазах темнело от острой и тонкой боли.
Никто не спал, и утро наступило такое же желтое и отвратительное, как давешний электрический свет, измучивший мозг.
Из дому никого не выпускали, и пришлось звонить Ивановой, выдумывать какие-то причины, отменять утренний эфир на телевидении, и завтрак, и совещание, и, возможно, даже встречу с читателями. Неизвестно, когда всех отпустят.
Впрочем, в их положении тоже не было ни общности, ни равенства, потому что Кольцовы уехали сразу же, как только все случилось. Уехали, и все.
По участку пробежала охрана, прочесывая его от Днепра вверх, к стоянке автомобилей, — искали что-то, а может, кого-то, — потом подогнали прямо к подъезду две огромные, страшные, черные машины.
Маша смотрела на них из окна.
Первый джип выглядел несколько более цивилизованно, а второй был похож на дредноут времен Первой мировой войны — косолапый, широкозадый, устойчивый, с узкими окнами и плоским капотом.
— Ужасная машина, — сказала Маша Родионову, когда тот подошел, — гроб с музыкой.
— Это не гроб с музыкой, а «Хаммер», — равнодушно поправил Родионов. — Для охраны — то, что нужно!…
Охранники подошли, стали в круг, и из дому вышли Катерина, ведущая за руку своего сына, а следом и батяня, державший в каждой руке по мобильному телефону. Маше подумалось, что, если бы он мог, как мартышка, держать телефоны еще и в задних лапах, он бы непременно их держал!
Их никто не провожал, ни Мирослава, ни ее «чоловик», ни Нестор — никто!… Тимофей Ильич сбежал с крыльца, не отрываясь от телефона, взял за руку жену и поволок ее в машину. Она пошла. Он пропустил сына, подтолкнул на заднее сиденье жену, охрана закрыла дверь за ними и за «самим», поместившимся на переднем сиденье. Зашуршали шины, приминая гравий, и тяжеленные, здоровенные, бронированные автомобили тронулись почти неслышно и пропали из виду, как будто их и не было.
Маша Вепренцева дорого бы дала, чтобы иметь возможность вот так пропасть из виду, ни на что не обращая внимания, ни о чем решительно не заботясь, только о спокойствии близких, которое было так ужасно, так непоправимо нарушено.
И еще она подумала, что Тимофей Ильич недоволен именно этим — что Головко убили, не спросив у него разрешения, не «приняв в расчет», что здесь рядом он, великий и ужасный Тимофей Кольцов, и его стая, которую он защищает! Как такое возможно — чтобы убили почти у него на глазах, что за неуважение!
Когда прибыла милиция, Тимофея Ильича и след простыл. Нет его и не было никогда.
Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову!…
— Маша!
И ребенка своего спрятали от всех бед и напастей. Увезли, и теперь никто не посмеет ни о чем его спрашивать или напоминать об ужасных событиях или…
— Маша!
— А?
— Маш, свари мне кофе.
— Чего вам сварить?!
— Кофе. Свари, пожалуйста.
Иногда Родионова посещали просто изумительные идеи.
— Дмитрий Андреевич, — пробормотала Маша Вепренцева, — где же я здесь сварю кофе?
В поисках поддержки Маша повела глазами и уставилась на Весника. Ну, хоть ты скажи ему, что кофе в этом доме я варить не могу!
Весник отлично понял ее молчаливые призывы к поддержке.
— Да, — вступил он, — мне тоже свари! Это же надо, какую они бурду подали!
И хотел было захохотать, но вовремя вспомнил, что хохотать при сложившихся обстоятельствах неприлично, и не стал.
И мужчины было заговорили друг с другом, уверенные, что Маша сейчас кинется варить им кофе, но она не кинулась.
— Дом чужой, — сердито сказала она, косясь на Мирославиного «чоловика», который все смотрел в угол, — и полно народу, которого я не знаю. Я на кухню не пойду.
— Ну, если ты знаешь еще какое-то место, где можно сварить кофе, иди туда, — милостиво разрешил Родионов.
Иногда он был просто невыносим.
«Я должна его разлюбить, — подумала Маша мрачно. — Вот прямо сейчас взять и разлюбить. Он мне не подходит. Он совершенно не думает обо мне. Он заставляет меня варить кофе, и ему наплевать на то, как при этом я буду выглядеть в глазах окружающих! Ему наплевать на то, что Мирослава вчера весь день называла меня прислугой, и сегодня он сам отсылает меня на кухню!»
По светлому паркету зацокали каблуки, и в столовую влетела вышеупомянутая Мирослава. На ней был бежевый брючный костюм, очень элегантный и свежий, простенькая блузка а-ля Катерина Кольцова, соломенные босоножки, и на лацкане приколот букетик незабудок — это после бессонной ночи с убийством! Прическа у нее была величиной с дом и сильно налачена, губы неправдоподобно алы, и крохотный кружевной платочек она держала за обшлагом рукава.
— Казимеж! — воскликнула она, завидев «чоловика», — Казимеж, я погано себя почуваю! Видвези мэнэ до ликаря, а то я чуть не померла! Казимеж! Ты бачишь или не бачишь, что жинке дуже треба до лекарни!
Казимеж не подавал никаких признаков жизни, и неясно было, «бачит» он или не «бачит» то, что происходит с его супругой.
Мирослава бухнула на стол кипу свежих газет, повернулась и будто только что увидела московских гостей. Гости молчали, слушали, болтали ложечками в чашках.
— Ах, доброго дня, доброго дня, хотя хде уж то добро!…
Все вразнобой поздоровались. Мирослава Цуганг-Степченко бочком присела на краешек стула, вынула из-за обшлага платочек и прижала его к губам.
— Что же это такое делается, когда людей убивают! Та как это можно назвать, если не беспредельный беспредел?!
Все молчали. Не знали, как еще это можно назвать.
— Та Борис Дмитриевич бул самый что ни на есть шановний чоловик, и в нашом мисте, и во всий незалежной Украйне! И так загинул, загинул, та еще в моем доме! Матерь Божья, шо теперь буде, шо буде з нами?!
Весник осторожно хихикнул, потом кашлянул и старательно утер губы льняной салфеткой, накрахмаленной, как в кремлевском буфете, до состояния картонной твердости.
— Та хто ж посмел его так! Мабуть, нихто и не узнае, хто зробил то черно дило!
— Славочка, — вдруг изрек Мирославин «чоловик», и Маша с изумлением на него воззрилась, — Славочка, ты в экстазе и говоришь на нашей мове, а гости мову не понимают, им по-русски бы надо…
Говорил «чоловик» так, словно пытался объяснить посетителям зоопарка, что макаки не понимают человеческий язык, что уж тут поделаешь, придется жестами, жестами!… На гостей он по-прежнему не смотрел.
— Та боже ж мой, все ж ясно! Борис Дмитриевич наш самый любимый, самый любимый! Нихто из политиков стильки не зробив для Кыева, скильки пан Головко!
— Славочка!
— Да, да! А его убили, та еще в нашем доме, та еще так погано, что зараз никто не ведае, найдут злодия ти не!…
— А милиция? — вдруг спросил Родионов. — Тут полно милиции, и нас всех ночью допросили. Или вы не верите, что они найдут?
— Ах, Матерь Божья, та кого они найдут! Та никого и никогда и искать не станут, потому что оппозиции это… подарок от сатаны! Сам сатана зробил им подарок и убил нашего Бориса Дмитриевича! Нет и не буде ему замены, и теперь все, все загинуло, и мы загинули, и мисто, и держава!…
— Может, хоть что-то не пропало? — не удержался Родионов. — Что-то же должно было остаться!
Мирослава посмотрела на него и покачала головой.
Она была расстроена и напугана. Маша вдруг подумала, что она даже больше напугана, чем расстроена.
Оттого, что в ее доме, в гостевых апартаментах зарезали человека? Да еще так… показательно, как в фильме ужасов, когда кровь льется рекой, хрустят кости и рвутся сухожилия, а камера все смакует и смакует фонтаном бьющую черную кровь, растерзанные внутренности, непристойно и тошнотворно вывороченные напоказ?!
Или оттого, что скандал — в доме полно чужих людей в форме и без оной, и самый почетный московский гость уехал в крайнем раздражении, и остальные знаменитости, как перепуганные куры, забились на свои насесты. Вот и к завтраку вышли только трое, а остальные где? Нет остальных, отсиживаются по комнатам, и дурная слава о доме поэтессы теперь разнесется на две державы — незалежную Украину и свободную Россию?!
Или оттого, что надо сочувствовать вдове, вокруг которой полночи хлопотали врачи в желто-синей форме — в цвет национального флага, как насмешка, ей-богу! А как ей сочувствовать, когда такая неприятность вышла, и надо как-то объясняться с милицией, и Нестор утром уже доложил, что за железными воротами на шоссе дежурят журналисты! Свои бы ничего, от своих отбились бы, но есть и пришлые, с микрофонами, на квадратных насадках которых значится «Первый канал» или, того хуже, «НТВ», и думать можно только о том, как спасти свою шкурку и остатки репутации, и не до вдовы вовсе!
Маша не слишком сочувствовала ввергнутой в горе поэтессе, с некоторым оттенком превосходства не сочувствовала.
Нам— то что, мы, если надо, еще три раза расскажем, как мы в раковине нож видели, как вода шумела, как потом пришли, и уже не было ничего, как труп обнаружили, расскажем да и уедем к себе в Москву. Это не наше горе, и проблема тоже не наша.
Мы наблюдатели. Как из ООН.
— Мирослава Макаровна, — сказала она, когда поэтесса на миг перестала причитать, безбожно мешая русские и украинские слова, — кофе уже остыл. Может быть, я могу сварить новый?
Мирослава вынырнула из-за платка и с разгону повела было плечом вполне презрительно, но вдруг остановилась. Играть стало не перед кем и незачем. Вместо мертвого Гамлета на театральных подмостках оказался вполне реальный труп. Актерам больше не нужно «держать зал», где и так творится невесть что!…
Я лежу на авансцене, муха ползает по лбу. Уходящего сраженья слышу грохот и пальбу.
— Варите, — сказала Мирослава Цуганг-Степченко, словно разрешала Маше покопаться в ее фамильных драгоценностях, — делайте что хотите! Впрочем, я могу кликнуть Нэстора, и он…
— Я здесь, Мирослава Макаровна! Шо нужно?
— Нужно, шоб подали свежую каву!
— 3 вершкамы чи бэз?
— Вам з вэршкамы?
Родионов растерялся. Какую еще «каву»! С какими еще вершками! Тебе вершки, мне корешки! Нет, не так. Тебе корешки, а мне вершки, кажется, именно так умный и ленивый мужик обманывал трудолюбивого, но не искушенного в жизни медведя, который переделал за него все дела и получил — корешки от пшеницы!… Идеал русской оборотистости!
— Мне кофе, а не какао, — быстро сказал Родионов-медведь. — Просто горячий кофе.
— Кава — это и есть кофе, — объяснил подошедший Веселовский. Выдвинул стул и сел. — Вершки — это сливки. Кава з вершкамы — кофе со сливками.
— Нет, — отказался великий писатель, — мне без вершков, то есть без сливок, то есть… Маша, может, ты пойдешь и сваришь, в конце концов!?
— Та не надо ей йты! Тама все зробять и так!
— Кава с вершками! — пробормотал великий.
Веселовский глянул на него насмешливо и потянул газету из пачки, лежавшей рядом с Мирославой. Вообще он вел себя совершенно обыкновенно, как будто и не провел ночь в доме «с убийством». Даже выглядел свежо, несмотря на то, что поспать никому не удалось.
— Мне тоже кофе, — сказал он Мирославе, — покрепче и погорячее, если можно!
— Та теперя усе, усе можно, — с тоской сказала Мирослава. — Нэстор, голубчик…
— Да, Мирослава Макаровна! — воскликнул преданно Нестор и потрюхал в сторону высоких двойных дверей. — Сию минуточку!
Веселовский развернул газету, посмотрел одним глазом и сложил шуршащую бумажную простыню, перевернув ее. Весник явно хотел что-то сказать и выжидал момента, глаза у него блестели. Родионов мрачно молчал. Хорошо хоть Сильвестра с утра забрали «на прогулку»!
Приехал охранник на лимузине, прошел в дом, ни на кого не глядя и ни перед кем не останавливаясь, постучал в Машину дверь и сказал корректно:
— Катерина Дмитриевна просила забрать мальчика. Собирайтесь, пожалуйста.
Мальчик собрался в одно мгновение и завтракать даже не стал — от нетерпения, а Маша не слишком и настаивала. Чем быстрее он покинет «дом с убийством», тем лучше! И так из развеселого путешествия с мамой и по маминым делам вышла просто ужасная катастрофа!
Маша, будучи хорошей матерью, во всем обвиняла себя. То есть не в том, конечно, что «шановний чоловик» Борис Головко оказался прирезанным неизвестным злодеем, а в том, что потащила Сильвестра с собой, а тут — вон что такое! Оставила бы сына в Москве, и дело с концом!
Впрочем, оставить Сильвестра в Москве было никак невозможно — даже Лерку пришлось сдать на попечение Юли Марковой, потому что кто-то звонил и угрожал Маше и приказывал великому ни под каким предлогом не ездить в Киев, а то хуже будет!…
Позвольте, ведь на самом деле кто-то звонил!
Маша совершенно об этом позабыла!
Ну да! Накануне отъезда гнусный тип звонил ей и приказывал остаться в Москве, и начальник службы безопасности издательства потом строго и серьезно выспрашивал ее о том, какой был голос, что именно и как он говорил, а она все повторяла и ненавидела в тот момент начальника службы безопасности лютой ненавистью! Ей было гадко и страшно, а он допрашивал ее с таким холодным и отстраненным профессионализмом!
Может, тот звонок как-то связан с убийством?! Может, должны были убить вовсе не будущего президента, а Дмитрия Родионова?! Ошиблись просто?!
— Звонок, — сказала Маша, и Родионов, знавший все ее интонации, посмотрел на нее внимательно, — Дмитрий Андреевич, помните?! Мы были в Москве, и накануне отъезда нам кто-то звонил?! Говорил, чтобы вы не ездили в Киев?
— Ну, помню.
— А мы поехали, и Головко убили!
— Маша! — предостерегающе сказал Весник, но она не слушала.
— Дмитрий Андреевич! Помните?!
— Ну, помню, помню, но это, по-моему, никакого отношения…
— Вы же детективы пишете! Ну, как же никакого отношения не имеет! Мы еще на следующий день в издательстве обсуждали, что это такое может быть!
— Да, да, ну и что?!
Веселовский закрыл шуршащую газетную простыню и навострил уши. Весник смотрел внимательно и шевелил губами, словно готовился в любую секунду прервать Машины выступления. Мирослава Цуганг-Степченко сделала большие глаза и машинально сунула платочек за обшлаг своего французского костюма.
— Никто не знал, что мы в Киев летим, — продолжала Маша. — Никто, кроме своих! И тем не менее нам звонили и угрожали!
— Так ведь не покойному угрожали, а мне!
— А кто знает? Может, вы как раз и намечались… в покойники!
Воцарилась тишина.
— Ну спасибо, — сказал наконец Родионов, — ну замечательно просто. Умеешь ты утешить, Марья.
Маша собралась было ответить, но не успела.
За двустворчатыми дверьми послышался какой-то шум, чуть ли не крики, и милиционер, дежуривший на лужайке, где еще вчера Сильвестр Иевлев и Михаил Кольцов носились с развеселым гиканьем, повернулся и пристально посмотрел в гостиную, где за столом сидела вся компания.
Один голос говорил нечто такое, что трудно было разобрать, а второй, женский, визгливый, все набирал и набирал обороты, и понятно стало, что, когда наберет, никому здесь не поздоровится.
— А я хочу знать! А я хочу знать, кто эта крыса!… И не смей меня уговаривать!… Я тебе не девочка-ромашка!… Пошел прочь с моей дороги!…
Весник поднял брови и сложил губы, будто намереваясь захохотать. Веселовский пожал плечами, а Родионов всем телом вместе со стулом повернулся в сторону дверей.
Конечно, шумела Лида Поклонная. Это выяснилось, когда одна створка неожиданно распахнулась, как будто с той стороны ее сначала держали, а потом отпустили, и звезда влетела в комнату.
Мисс Фурия, подумала Маша Вепренцева. Нет, пожалуй, мисс Гарпия. Кажется, даже слышался клекот наподобие орлиного.
— Я хочу знать, что это такое! — выпалила Лида, тяжело дыша. — Что это такое, я вас спрашиваю?!
И она потрясла перед всеми газетой, которую держала в руке. Вид у нее был дикий.
Следом за ней ввалился Матвей Рессель, как обычно, безупречный во всех отношениях и джентльменистый донельзя. На нем была парусиновая пиджачная пара и штиблеты на необыкновенной резиновой белой подошве.
Для полноты картины не хватало только тросточки и шляпы-канотье. Даже бутоньерка в петлице присутствовала.
— Лида, Лида, — унимал актрису Рессель и мелкими шажками продвигался к ней, как будто собирался схватить ее за бока и утащить обратно, — Лидочка, не волнуйся ты так!…
— Нет, я хочу знать, кто нас сдал! — визжала Лида. — Кто из них сдал нас прессе!!!
— Лидочка, — начал Веселовский, — что ты кричишь, моя девочка?! Прессе и так все давно известно. Что ты, лапочка?! Такое событие, как же они пропустят?
— Твою мать! — Лида Поклонная смяла газету в огромный неровный ком и швырнула в Веселовского. Он поймал его, как мячик, и кинул на пол. — А ты бы помалкивал в тряпочку, слизняк, подстилка продюсерская! Про тебя даже если напишут, что ты говно, ты счастлив будешь! Мы все знаем, как ты рекламу уважаешь, Игорек!! Вот и сиди в говне, если тебе надо, а мне не надо, я не хочу!
— Лида! — Веселовский сохранял благодушие, но глаза стали злыми, и черты лица обозначились четче. — Лидочка, девочка моя, куда тебя понесло, ласточка?!
— Какая я тебе ласточка?! Это ты для всех ласточка, Игорек, а я актриса! Ак-три-са! А вам всем, гомикам проклятым, на всех наплевать, вам бы только хвосты друг перед другом распускать!
— Да ну что ты за актриса, — ласково сказал Веселовский, — пара эпизодов со словами и роль подруги героини со спины? Вот муж у тебя вроде актер, а ты какая ж актриса, моя кисочка?…
Температура повышалась скачкообразно. У Сильвестра в физике есть такой раздел, про вещество, где температура повышается сначала линейно, а потом скачкообразно. Маша это очень хорошо запомнила.
— Лида, — приказал Рессель, — сядь.
— Да что случилось-то? — осторожно поинтересовался Весник. — Про убийство в газете написали? Так этого следовало ожидать! Такой пиар-повод журналюги не пропустят!
Маша Вепренцева за спинами у всех пробралась к стулу Веселовского, подобрала газетный ком, ушла на диван и стала его разворачивать.
— А ты кто такой? — спросила Лида Поклонная у Весника и залпом выпила стакан морсу, который ей подсунула Мирослава. Вообще хозяйка вела себя странно. Лиду не защищала, не причитала, не выкликала «Нэ-эстор!», только наблюдала. — Тоже подстилка журналистская?! Проваливай отсюда! Все, все проваливайте отсюда, суки, вашу мать!!
— Лида!
— Лидочка, уймись, моя девочка, на нас милиционер смотрит!
— А мне плевать, кто там на нас смотрит! Я хочу знать, кто нас сдал, вашу мать! Кто посмел, мать, мать, мать!…
Родионов отыскал глазами Машу, показал на Лиду и пожал плечами. Странно, что у виска не покрутил.
Статья называлась «Звездный развод», и поначалу Маша пропустила ее, потому что искала информацию об убийстве «шановного чоловика» и всеукраинского батьки, а ничего такого в газете не было! Она бы и не увидела ничего, если бы на глаза не попалась фамилия Поклонный. Тут только она сообразила.
Сообразив, она стала быстро читать вслух:
— «Вчера окончательно определился будущий развод супер— и мегазвезды отечественного экрана Андрея Поклонного и его жены Лидии. Решительное объяснение произошло на даче известной украинской поэтессы Цуганг-Степченко, которая является подругой теперь уже практически бывшей звездной жены. О том, что в семействе неладно, московская тусовка поговаривала уже давно, но никто и не предполагал, что дело зашло так далеко. Андрей Поклонный и Лидия Шумкова поженились пять лет назад, встретившись на съемках киноромана „Золотой дождь“, с успехом идущего и по сей день на ведущих телевизионных каналах». Тра-та-та, — тут Маша Вепренцева непочтительно выпустила несколько строчек, относящихся в основном к гению Андрея Поклонного и всенародной к нему любви. — Ага, вот. «Их свадьба праздновалась во всероссийском масштабе, и эта почти голливудская пара всегда положительно относилась к прессе и никогда не делала тайну из своей личной жизни, за что ее особенно любят поклонники и поклонницы. Несколько месяцев назад Лидия вдруг перестала давать интервью и практически не появлялась на людях вместе с Андреем. Тем не менее ничто не предвещало грозы, и вот вчера…»
Маша отложила газету и обвела глазами собравшихся. У них был вид колхозников, слушающих возле радиоточки дневник восемнадцатого съезда КПСС.
— И вот вчера, — повторила она с удивлением. — Вчера! Да. Кто-то тут был из… них.
— Это ты все шныряла и вынюхивала! — неубедительно вскрикнула Лида, ясно было, что вскрикивает она просто так, по инерции. — Я еще вчера тебя хотела вышвырнуть!… Слава, убери ее отсюда, убери — или я за себя не отвечаю!
— Не отвечаете, лучше пойдите умойтесь, — вдруг резко сказал Родионов, — освежитесь! Или не визжите!
Лида Поклонная посмотрела на великого писателя с совершенно трезвым удивлением, немного подумала и кричать больше не стала.
Зато глаза у нее, будто по команде режиссера, налились слезами. Слезы были чистые и крупные, бриллиантовые, как на заказ. По щекам они тоже покатились очень по-киношному, вот у Маши они никогда так не катились, размазывались и висли на подбородке. Приходилось вытирать их ладонями или рукавом, если платка не находилось в кармане.
— Славочка, — залопотала Лида, истекая бриллиантовыми слезами, — ну, скажи мне, что это не ты! Что ты не знала!… Что ты ни при чем!…
— Шо ты, шо ты, дивчинка моя, — затараторила перепуганная Мирослава, — как же ж я, разве ж я могу!… Та если б я знала, я того предателя своими бы руками задушила, бо он посмел на тебя напраслину возводить!
Маша посоображала немного.
— Лида, — спросила она, — а это что? Неправда? Вы не разводитесь?
— Матвей, скажи, чтоб она заткнулась!
— Уважаемая Маша, — задушевно начал Рессель, — вы же видите, что Лидочка расстроена! Если уж вам так любопытно, могу я ответить.
Он вздохнул протяжно, и выпрямил спину, и выложил руки на стол, словно на пресс-конференции. На пальце блеснуло кольцо с диковинным овальным черным камнем.
Весник посмотрел на него, закрылся ладонью и захохотал беззвучно. Он давно примеривался, как бы ему захохотать, и вот наконец выбрал момент.
— Что касается развода, разумеется, это ложь. Чистой воды ложь и выдумки журналистов. Больше всего в этой статье нас огорчило то, что…
Тут он вдруг остановился и посмотрел беспомощно. Не успел придумать, что именно их огорчило в этой статье больше всего. По крайней мере, вид у него был именно такой.
— Но если это ложь, — сказала Маша осторожно, — то из-за чего такая… паника? Напечатайте опровержение, да и дело с концом!
Тут Мирославин «чоловик» Казимеж вдруг громко икнул, и все посмотрели на него. «Чоловик» вздернул голову на куриной шейке, посмотрел гоголем и сказал: «Пардон!», после чего сник и уставился в стакан. Мирослава вздохнула.
— Вы не понимаете, — морщась, продолжал Рессель, — напечатать опровержение очень легко, но что будет с репутацией?!
— Чьей? — не понял Весник. Он уже не хохотал и слушал очень внимательно. — При чем здесь репутация, дорогой продюсер?! Мы же не вчера родились! Чего только газеты не пишут! Подавайте в суд за оскорбление чести и достоинства, еще деньжат с них срубите! Что это за газета?
На вопрос о газете Рессель почему-то не ответил.
— Лидочка, — сказал он и простер руку в сторону удрученной звезды сериала «Мальчики по вызову», — не выносит, когда на свет вытаскивают ее грязное белье. У нас договоренность, что все, абсолютно все публикации согласовываются с нами, и когда этого не происходит…
— У нас тоже договоренности, — перебил его Весник, — у нас тоже все публикации согласовываются. Вот недавно про Донцову написали, что у нее квартира на Елисейских Полях, а трое ее детей живут на Ибице. И при этом пишет за нее бригада, которая, в свою очередь, живет в подвале ее дома на Истре на положении вьетнамских рабочих! Вот вам и все договоренности!
— Я и не знала, — пробормотала Маша Вепренцева. — Про Донцову-то… Огорчилась она?
— Да ладно! Она боец, каких поискать. Машунь, да таких статей по три в неделю выходит, это все и так знают! — Весник оседлал любимого конька и моментально приобрел вид начальника, восседающего в своем кабинете, — не хватало только ноги задрать на стол, в кресле откинуться и начать распекать всех по громкой связи. — Па-адумаешь, развод! Там ведь не написано, что Лидия Поклонная совращала малолетних мальчиков у себя на даче, аки Майкл Джексон. Не написано, Машунь?
— Нет, — сказала Маша. — Ничего такого не написано.
— Ну вот, ну вот. Так что, Лидочка, валяйте опровержение, и дело с концом!
— Да вы не понимаете ничего, козлы, блин, уроды, вашу мать! Донцова у них на Елисейских Полях живет! Да пусть она хоть где живет, а я хочу найти ту суку, которая журналюгам стукнула, что мы разводимся! Матвей, найди мне ее!
Лида сжала и разжала кулаки, и глаза у нее вдруг округлились.
— Господи, — сказала она и посмотрела остановившимся взглядом, — Господи, что будет, когда узнает он?! Что будет?! Он же еще ничего не видел! Боже, боже, Матвей! Что же делать, что мне делать?! Что теперь со мной будет?
Все это было так странно, так театрально, что Маша Вепренцева совсем перестала что-либо понимать.
«Но позвольте, — вдруг сказал кто-то у нее в голове, — нет-нет, позвольте!… Вчера, еще до всех событий, я заблудилась на этом участке, как в лесу, и Лида Поклонная рыдала в кустах, из которых потом вылез Стас Головко! Вылез и пошел по дорожке, насвистывая, а я в это время пряталась за сосной и переживала, что все время из-за нее вылезает то бюст, то зад!»
— Лида, — спросила она осторожно, — а вчера… днем вы разговаривали с кем-то, я слышала. Вы говорили, что все не так, а ваш собеседник говорил, что у вас есть еще один день, а после этого он все возьмет на себя. О чем шла речь, Лида?
На протяжении этой короткой речи лицо у Лиды менялось, черты его словно застывали, и когда Маша во второй раз назвала ее по имени, она вдруг сорвалась с места, опрокинув стул, который сильно и гулко грохнул о паркет, как выстрелил.