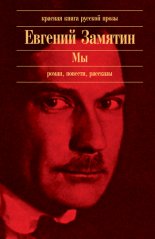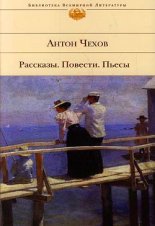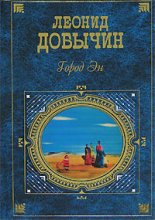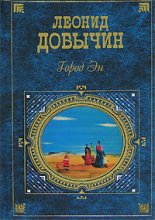Однокурсники Боборыкин Петр
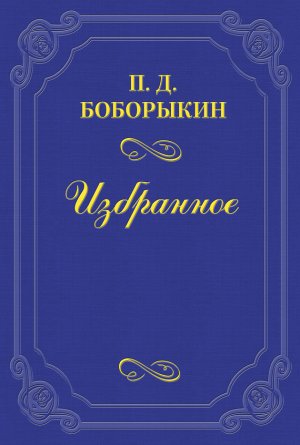
— Еще четыре минуты и двадцать секунд, и я звоню Бжезинскому.
Внезапно Келлер поднял глаза, и выражение его лица изменилось. Он вскочил на ноги и, широко улыбаясь, сказал:
— Привет, милая, я Джордж. А тебя как зовут?
Эндрю повернулся и увидел слегка раскрасневшуюся Сару, которая показалась в двери.
— Я Сара Харрисон, — сказала она, изображая дружелюбие, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. — Добро пожаловать в Гарвард.
Джордж протянул ей руку. Они обменялись рукопожатиями. Затем появился Тед и представился. Джорджа словно подменили.
— Значит, мы все вместе здесь живем? — спросил он с вновь обретенным оптимизмом.
— Ну… не совсем, — замялся Эндрю. — Просто Теду с Сарой негде… ну, ты понимаешь…
— Пожалуйста, — любезно произнес Джордж, — не надо объяснений. У нас в Венгрии тоже есть проблемы с жилплощадью.
— Эй, — шепотом обратился Тед к Эндрю, — прости за это небольшое недоразумение. Но ты нас не предупредил.
— Нет-нет, ребята, это моя вина. Мне надо было позвонить вам, когда я узнал, на каком поезде он прибывает.
— Все нормально, — успокоил его Тед. — Слушай, уже поздно. Мне надо проводить Сару и идти работать. Спасибо тебе, Элиот, ты нас здорово выручал все это время.
Когда Сара, чмокнув Эндрю в щеку, стала выходить, тот сказал им вдогонку:
— Эй, все остается в силе. Я хочу сказать, вы можете продолжать… навещать это место.
Сара снова высунула голову из-за двери.
— Посмотрим. — Она улыбнулась. — Но мне кажется, тебе и так забот хватает.
*****
Столовая «Элиот-хауса» работала в течение всех рождественских праздников, чтобы обеспечивать питанием (весьма лестное название для той кормежки, которую готовили на центральной кухне) всех тех несчастных, кто был вынужден остаться в Кембридже на зимние каникулы.
Это были не те обитатели данного корпуса, которые в учебное время обычно ходят сюда питаться, а студенты со всего кампуса. Здесь было много старшекурсников (выпуск 1957 года), которые лихорадочно работали над своими дипломными работами, а также некоторые первокурсники, которые приехали учиться издалека и не имели достаточных средств даже на автобусный билет, чтобы съездить домой на каникулы.
Впрочем, среди посетителей столовой были и несколько жильцов Элиота — у каждого из них была своя причина остаться на Рождество в холодном Кембридже.
Одним из них был Дэнни Росси. Он наконец дождался свободы, когда можно не посещать занятия и лекции, и с головой погрузился в сочинение музыки для «Аркадии». Повсюду царила тишина. Никто не буянил и не орал под окнами на заснеженном дворе, ничто не мешало ему сосредоточенно работать. Ведь, желая произвести впечатление на Марию, он сгоряча пообещал, что закончит партитуру в канун Нового года.
Он работал без устали с раннего утра и до поздней ночи. Одна тема пришла к нему сразу же, как по волшебству: горестная любовная песня пастухов. Эта была мелодия, которая родилась из его страстного томления по Марии. Над остальными темами пришлось покорпеть как следует, но постепенно нотная тетрадь заполнялась музыкой.
Лучшего занятия у него в жизни еще не было.
Такое усердие было уместно еще по одной причине. Мать в последних письмах настойчиво уговаривала его приехать домой на каникулы и заключить мир с отцом. А поскольку работа над первым и очень важным заказом была вполне обоснованной отговоркой, он по-прежнему мог избежать встречи с отцом.
Святочные дни Дэнни провел взаперти — как физически, так и психологически. Одержимость новым балетом помогла ему отключить все свои эмоции: естественное желание провести Рождество с родными, особенно с матерью. А еще эти чувства к Марии. Такой милой. Такой желанной. И совершенно недосягаемой.
«Какого черта, — он старался рассуждать рационально, — я выплесну всю свою боль на нотную бумагу. Страсть лишь способствует искусству». Но в его случае все попытки выразить страсть к Марии в музыке лишь способствовали возгоранию еще большей страсти.
Джордж Келлер тоже предпочел остаться в Кембридже. И хотя Эндрю Элиот любезно приглашал его поехать вместе с ним на каникулы, Джордж захотел пожить в уединении и еще больше усовершенствовать свой английский язык, которым он и без того овладевал с невероятной скоростью.
На рождественский сочельник столовая предложила кое-что вкусненькое, похожее на жареную индейку. Джордж Келлер не обратил на это никакого внимания. Он сидел на дальнем конце прямоугольного стола, жадно пожирая страницы в словаре. На другом конце стола Дэнни Росси сосредоточенно читал то, что сочинил за день.
Они были настолько поглощены своими занятиями, что так и не заметили друг друга. Как и того, что каждый из них был одинок.
Около полуночи в Дэнни Росси вдруг проснулось то детское, что дремало в его подсознании. Он отложил в сторону партитуру и по какой-то атавистической привычке стал наигрывать на рояле рождественские гимны, импровизируя.
Окно было приоткрыто, и музыка плавно поплыла через опустевший и темный двор, пока не достигла ушей Джорджа Келлера, который, конечно же, все еще занимался как сумасшедший.
Венгерский эмигрант откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Ему всегда очень нравилась мелодия песни «Тихая ночь», даже когда он жил в Венгрии. И теперь, за тысячи и тысячи километров от своего прежнего дома, он вслушивался в слабые отголоски этой музыки, тихо звеневшей в ледяном воздухе Кембриджа.
И на мгновение в памяти всплыло то, о чем он хотел бы забыть навсегда.
Из дневника Эндрю Элиота
18 января 1957 года
От этого Джорджа Келлера я, наверное, скоро свихнусь. Может, он такой из-за того, что у него менталитет эмигранта. Вообще-то в настоящее время я разрабатываю собственную теорию о том, что размеры амбиций у любого американца обратно пропорциональны количеству времени, прошедшего с того момента, когда он ступил на эту землю.
Раньше я думал, будто у Ламброса шило в заднице. А ведь он здесь родился. Это его родители прибыли сюда на корабле. Но ничто, абсолютно ничто на свете не может превзойти бешеную упертость этого венгра, который приехал в Америку всего пару месяцев тому назад. Будь он локомотивом, то давно взорвался бы от перегрева — так сильно он загружает свою топку.
Когда я просыпаюсь в 8 утра — для меня это безбожно рано, — он в это время уже вовсю трудится, давным-давно проглотив свой завтрак. Почти каждый день он сообщает мне чуть ли не с гордостью, что первым пришел утром в столовую. (Сравните с Ньюолом, который счастлив от мысли, что ни разу не встал к завтраку за все время своего пребывания в Гарварде.)
Джордж взял у меня в долг пятьдесят баксов (пообещав обязательно вернуть, когда ему начнут выплачивать стипендию) и купил портативный магнитофон, который носит с собой на все занятия.
И вот теперь он прослушивает лекции еще и днем, в записи на магнитофоне, чаще всего по нескольку раз — до тех пор, пока практически не выучивает их наизусть. Большинство лекций — на русском языке. Для него это, наверное, здорово, но у меня такое чувство, будто я вдруг поселился в Кремле. Не говоря уже о том, что Джордж целыми днями не вылезает из квартиры.
И у нас действительно возникли некоторые проблемы с Тедом и Сарой. Джордж с пониманием отнесся к их потребности бывать вдвоем, наедине друг с другом, но он упорно твердил, что, если они будут пользоваться моей комнатой, это не будет ему мешать, поскольку он сможет продолжать заниматься в гостиной.
Мне пришлось очень тактично объяснить ему, что это они будут сильно возражать. В конце концов Джордж согласился уходить в библиотеку и сидеть там с четырех до полседьмого в те дни, когда Тед и Сара временно занимают наше жилище.
А теперь самое удивительное. Я понятия не имею, в какое время он ложится спать. Если честно, у меня есть смутное подозрение, что этот паренек вообще никогда не спит! И пару ночей тому назад я стал свидетелем жутковатого зрелища.
После обильных возлияний в «Порце» мой организм вынудил меня подняться в два часа ночи по естественной нужде. И когда я стоял над унитазом, стараясь не промахнуться, то вдруг услышал, как из душевой доносится какой-то загробный голос, который выводит что-то вроде «начать — начал — начнет, махать — махал — махнет, петь — пел — споет».
Я позвал Джорджа по имени, но вместо того, чтобы сразу откликнуться, он по-прежнему долдонил глаголы в своей эхо-камере, облицованной кафельной плиткой.
Тогда я отодвинул душевую занавеску. Он стоял почти голый, если не считать модных облегающих плавок, с учебником по английской грамматике в руках. Он почти не обратил на меня внимания, поскольку продолжал бубнить все новые слова, забивая их себе в голову.
Я предостерег его, сказав, что он доведет себя до смерти. На это он ответил: «Доводить — доводил — доведет».
Я пошел к раковине, набрал стакан холодной воды и вылил ему на голову. Он задрожал и посмотрел на меня с удивлением, после чего вырвал из моей руки занавеску, задернул ее и возобновил свою глагольную гимнастику.
«Показать — показал — покажет, сказать — сказал — скажет».
«Какого черта, — подумал я. — Пусть убивает себя — мне-то какое дело».
Я плотно закрыл за собой дверь в ванную комнату, чтобы, по крайней мере, Ньюолу было спокойнее, поплелся назад к себе в постель и уснул.
Или, как сказал бы Джордж, уснуть — уснул — уснет.
*****
— Привет, папа. Это Джейсон. У меня отличная новость.
— Тебя плохо слышно, сынок. Какой-то ужасный гудеж стоит. Откуда ты звонишь?
— Гудеж — подходящее слово. Вся команда по сквошу гудит в моей комнате. Мы выбирали капитана университетской сборной на будущий год, и по глупому недоразумению все проголосовали за меня.
— Сынок, — радостно воскликнул Гилберт-старший, — это же потрясающая новость! Даже не терпится рассказать все твоей матери. Готов поспорить, ты и в теннисной команде тоже станешь капитаном.
Повесив трубку, Джейсон вдруг почувствовал смутную, необъяснимую грусть. Наверное, его расстроило последнее высказывание отца. Ведь он позвонил домой, чтобы сообщить о своем большом успехе. И хотя отец не скрыл своей радости, заключительной фразой он словно дал понять, что ждет от сына еще больших достижений и большей славы. Неужели этому не будет конца?
— Эй, капитан! — Ньюол легкомысленно прервал его раздумья. — Никак ты еще трезвый?
— Да, — рассмеялся Джейсон. — Я же не мог допустить, чтобы отец решил, будто мы — сборище пьяных бездельников, хотя так оно и есть.
Члены команды, довольные, загоготали во все горло. В маленькой комнате их набилось не меньше дюжины, плюс еще несколько человек из группы сопровождения, в том числе Тед с Сарой. Сюда их привел с собой Эндрю Элиот, чтобы они смогли вблизи разглядеть самых мускулистых существ из гарвардского бестиария[31].
Первоначально Ньюол намеревался сделать так, чтобы торжества эти стали для всех приятной неожиданностью. Но Джордж Келлер вдруг заартачился и наотрез отказался предоставить свою комнату для общей вечеринки. Выбора у Ньюола не оставалось, и пришлось заранее сказать обо всем Джейсону, чтобы все смогли собраться у него.
— А как поживает ваш псих? — поинтересовался Джейсон, разливая всем пиво «Бад». — Готов поспорить, он сейчас наверняка заучивает наизусть Британскую энциклопедию.
— Вы только не смейтесь, — предупредил Эндрю. — Кроме того, что этот тип как ненормальный изучает все лекции и учебники по своим предметам, он еще читает в газете «Нью-Йорк таймс» все подряд — даже объявления о недвижимости и рецепты приготовления разных блюд — и выписывает оттуда каждое незнакомое слово.
— И это включая воскресное приложение, — добавил Ньюол, — когда чертова газета разбухает до размеров романа «Война и мир».
— Ну, — сказал Джейсон, — остается только восхищаться такими парнями.
— Я бы, конечно, восхищался им с преогромным удовольствием, — возразил Ньюол, — вот только если бы он жил не по соседству.
Тут все члены команды по сквошу вдруг начали чокаться и шумно требовать тишины. Пришла пора поднимать тосты за только что избранного капитана. Самым красноречивым из всех был Тод Андерсон, бывший капитан Андовера, ныне третья ракетка университета.
Тод поднял свой стакан и толкнул речь, весьма подходящую для подобного сборища крепких парней:
— За нашего нового лидера, всеми любимого Джейсона Гилберта, человека, бесподобно владеющего не только своей ракеткой, но и собственным членом. И пусть он забивает свои мячи на корте не реже, чем заколачивает голы в постели.
Сразу же после семи последние гости вечеринки стали расходиться, а команда по сквошу, как и было запланировано, прогулочным шагом двинулась всем составом по улицам Кембриджа в клуб «Заварной пудинг». По четвергам здесь подавали стейки всего за доллар и семьдесят пять центов — во всем Кембридже дешевле не найти.
Проходя сплоченной группой по Маунт-Оберн к Холиок-стрит, доблестные рыцари сборной по сквошу горланили самую популярную боевую песню университета в ее новом варианте:
- С нами Герберт — блеск и слава,
- Значит, будем побеждать,
- Бедных йельцев размочалим:
- Их никто не будет знать…
Угомонились они, и то чуть-чуть, лишь когда подгребли неровной походкой к деревянному крыльцу здания клуба, к дому под номером 12, поднялись по ступенькам, пройдя мимо театральных афиш, красующихся здесь уже второе столетие, и прошли в столовую, где Ньюол зарезервировал большой стол для всей группы.
Разумеется, Джейсона усадили во главе стола — это значительно подняло настроение виновнику торжества, поскольку такое положение притягивало к нему взгляды всех девушек, пришедших в клуб с другими «пудингцами». К крайнему разочарованию этих простых смертных, приглашенные ими дамы беспрестанно улыбались новоявленному герою дня. А тот отвечал им обезоруживающей улыбкой.
Около десяти часов вечера Джейсон, Эндрю и Дики Ньюол, пошатываясь, брели к себе в «Элиот-хаус», когда избранный капитан вдруг вспомнил кое-что.
— Слушайте, — обратился он к друзьям, — я почему-то не видел за столом Андерсона. Он слинял с вечеринки?
— Да ладно тебе, Джейсон, — ответил Ньюол с незамутненным взором и легким сердцем. — Ты же знаешь, Тод не является членом «Пудинга».
— Как это? — спросил Джейсон, недоумевая, почему такому известному спортсмену не нашлось места среди жующей публики, куда входила почти треть всех старшекурсников.
— Разве ты не заметил? Андерсон — негр, — проворчал Дики.
— Ну и что? — спросил Джейсон.
— Кончай, Гилберт, — продолжал Дики. — Хотя «Пудинг» и либеральный клуб, но не до такой же степени. Нам по-прежнему нужно хоть кого-нибудь куда-нибудь да не пускать.
Таким образом Джейсону Гилберту в час личного триумфа вновь напомнили о том, что хотя все студенты Гарварда и равны, но некоторые из них равнее остальных.
*****
Профессор Сэмюэль Элиот Морисон являлся одним из самых выдающихся членов профессорско-преподавательского состава Гарвардского университета и, по всеобщему признанию, наиболее плодовитым автором. Известный своими многочисленными трудами по истории военно-морского флота и летописями Гарвардского университета, этот знаменитый джентльмен, судя по его второму имени, к тому же имел некоторое отношение к представителю семейства Элиот из выпуска 1958 года.
За три года Эндрю нигде не смог зацепиться. Подобно шмелю, перелетающему с цветка на цветок, он все время менял специализацию: брался то за английский, то за американистику и даже несколько недель изучал дурацкую экономику. И вот теперь старший руководитель группы предъявил ему ультиматум: выбрать наконец для себя основной предмет и больше уже не метаться. Понимая, что ему надо будет защитить диплом хоть по какой-нибудь специальности, он уже стал паниковать и думать, к кому бы обратиться за профессиональным советом.
Собравшись с духом, он написал профессору Морисону. И был приятно удивлен, когда почти сразу же получил приглашение от этого крупного ученого посетить его кабинет, увешанный картами, в недрах книгохранилища библиотеки Вайденера.
— Очень, очень рад, — сказал профессор, когда они пожимали друг другу руки. — Надо же — те же черты лица, словно сам старина Джон Элиот стоит передо мной. Я ведь знаком с вашим отцом еще со студенческих лет и даже пытался в свое время подбить его к совместному написанию колониальной истории. Но похоже, банковская система заманила его в свои сети.
— Да, — вежливо согласился Эндрю, — папа неравнодушен к деньгам.
— В этом нет ничего плохого, — сказал Морисон, — особенно если учесть, что именно благотворительность Элиотов в значительной степени помогла построить этот университет. Мой тезка, Сэмюэль Элиот, учредил первую профессорскую стипендию по греческому языку в далеком тысяча восемьсот четырнадцатом году. Скажи-ка мне, Эндрю, по какому предмету ты специализируешься?
— В этом-то все и дело, сэр. Я уже на предпоследнем курсе и до сих пор не определился со специальностью.
— А чем ты намерен заниматься после окончания университета?
— Ну, естественно, надо будет пройти военную службу…
— Элиоты всегда служили в военно-морских силах, и с честью, — заметил профессор.
— Да, сэр, адмирал Морисон, — подтвердил Эндрю.
Но не стал говорить, почему он подумывает об армейской службе.
— А потом?
— Полагаю, папа хотел бы, чтобы я работал где-нибудь в банковской сфере.
«В конце концов, — подумал он, — на меня столько денег ушло за четыре года, что, так или иначе, все равно придется посетить то место, где хранятся ценные бумаги. Это ли не банковское дело?»
— Ну и правильно, — сказал Морисон, — у тебя будет хорошая профессия. А теперь тебе надо выбрать такой предмет для специализации, чтобы он способствовал твоим наклонностям. Ты когда-нибудь задумывался об истории своей семьи?
— Папа никогда не позволял мне о ней забывать, — честно ответил Эндрю, немного смущаясь. — Я хочу сказать, я с самых пеленок слышал от отца рассказы о наших благородных предках. Честно говоря, сэр, он, пожалуй, даже затюкал меня всем этим. То есть кормил кашей и попутно рассказывал о Джоне Элиоте, апостоле индейцев, и о моем прадедушке, знаменитом ректоре Гарварда. Я практически с головы до ног был засыпан обильной листвой с нашего фамильного дерева.
— Но ты только что перескочил через несколько столетий, — сделал замечание адмирал. — А как же Война за независимость? Тебе известно, где находились все Элиоты во времена, «когда души людей подверглись испытанью»?
— Нет, сэр. Полагаю, стреляли из своих мушкетов где-нибудь в окрестностях Банкер-хилла[32].
Профессор улыбнулся.
— Мне кажется, я могу просветить тебя в этом вопросе. В восемнадцатом веке Элиоты оставили после себя великолепные дневники. И у нас сохранились записи, где они собственноручно описывали все, что они видели и чем занимались во время Американской революции. Эндрю, мне кажется, было бы очень увлекательно, особенно для Элиота, изучить вопрос — что делали учащиеся Гарварда в этот период времени. Получилась бы прекрасная тема для дипломной работы и диссертации.
Здесь Эндрю пришлось сознаться:
— Сэр, думаю, мне следует сказать вам: мои оценки не вполне соответствуют высокому уровню. Они, скорее всего, не позволят мне написать диссертацию.
На этот раз улыбнулся великий историк.
— Зато ты узнаешь, что такое настоящее образование, Эндрю. Я договорюсь, чтобы в план твоих занятий поставили консультации со мной, и мы будем вместе изучать дневники Элиотов. Отметки за это не ставятся. Просто чтение таких записей — уже само по себе награда.
Эндрю вышел из кабинета Морисона вне себя от счастья. Теперь у него появится возможность не просто получить диплом, но и вдобавок к нему — само образование.
*****
Дэнни Росси терзался и не находил себе места.
Порой ему отчаянно хотелось, чтобы репетиции «Аркадии» наконец-то завершились и чтобы этот чертов балет поскорее показали публике и задвинули куда подальше. В этом случае ему больше никогда не придется видеться с Марией.
А иногда он мечтал о том, чтобы подготовка к спектаклю продолжалась вечно. В феврале и в марте ему по шесть дней в неделю приходилось сидеть за клавиатурой, пока Мария занималась постановкой балета. Она натаскивала танцоров, показывала им движения и часто подходила к роялю — спросить совета у композитора.
А все из-за ее проклятого голубого трико. Нет, при чем тут какой-то кусок ткани, когда на самом деле он сходил с ума от ее тела, так соблазнительно обтянутого этим самым трико!
Хуже всего, наверное, было то, что после репетиции они обычно ходили куда-нибудь вместе перекусить и обсудить, как все прошло. Она разговаривала с ним очень приветливо и дружелюбно, и беседы их могли продолжаться часами. Какое мучение — эти встречи по вечерам все больше и больше становились похожими на свидания. Но Дэнни-то знал, что это совсем не так.
Однажды, когда она слегла с азиатским гриппом, он пришел в изолятор навестить ее и принес цветок. Присел у постели и стал развлекать девушку глупыми анекдотами. Она много смеялась, а когда он встал, собравшись уходить, сказала: «Спасибо, что пришел, Дэнни. Ты настоящий друг».
Вот он ей кто, черт возьми! Просто какой-то вшивый друг. Ну а как же иначе? Ведь она — красавица, такая уверенная в себе и… такая высокая. А он — ни то ни се.
А самое ужасное — какой предлог он сумеет изобрести, чтобы снова увидеться с ней после того, как закончится представление?
Наконец наступил день премьеры. Все ценители муз Гарварда собрались в рэдклиффском театре «Агассиз», чтобы покритиковать хореографию Марии Пасторе и музыку к спектаклю Дэниела Росси.
Дэнни увлеченно дирижировал оркестром и едва замечал, что творится на сцене, хотя в нескольких местах публика громко аплодировала. Непонятно только — музыке или танцу?
Поскольку большинство участников представления были весьма умеренны в еде, фуршет организовали тут же за сценой, в репетиционном зале, где всем подавали противный на вкус пунш из растворимого порошка «Кулэйд», а несколько смельчаков попросили пива.
В одном отношении гарвардские театральные премьеры очень похожи на бродвейские. Все участники представления до поздней ночи не ложатся спать, дожидаясь рецензий. С той лишь разницей, что в Кембридже все бодрствуют ради того, чтобы прочесть свой вердикт в газете «Кримзон».
Около полуночи кто-то вбежал к ним с отзывом Сони Левин для завтрашней «Крим». В высокомерной манере, присущей какому-нибудь толстому журналу, рецензия начиналась с нескольких вполне хвалебных слов о хореографической постановке Марии, которую сочли «динамичной и образной, не лишенной веселой изобретательности».
А затем мисс Левин обратила свое внимание на Дэнни Росси. Вернее сказать, нацелила свои пушки. По ее мнению, «музыка, при всей своей напыщенности и энергичности, была, мягко говоря, вторична. Возможно, имитация и является самой искренней формой лести, но Стравинскому и Аарону Копленду стоило бы потребовать у Росси авторские гонорары, и на самых законных основаниях».
К ужасу Дэнни, все это громко зачитывалось ассистентом постановщика, который по мере того, как произносил вслух эти слова, сам испытывал все большую неловкость.
Дэнни был оскорблен. Зачем эта язвительная выскочка из «Кримзона» так выпендривается за его счет? Неужели ей в башку не приходит, как это больно?
Ему вдруг нестерпимо захотелось выбежать из помещения. Он все еще стоял, не двигаясь с места, когда кто-то положил руку ему на плечо. Это была Мария.
— Эй, Дэнни…
— Не надо, — с горечью пробормотал он.
Он не смел повернуться и посмотреть ей в лицо. И, забыв о том, что оставил свою куртку сложенной на стуле за кулисами, медленно вышел из зала.
Дойдя до лестницы, он ускорил шаг. Надо побыстрее убраться отсюда к чертовой матери. Подальше от всех этих сочувствующих взглядов.
Когда он спустился на первый этаж, то заметил табличку, указывающую на местонахождение телефона-автомата, и вспомнил, что обещал позвонить профессору Ландау сразу же после окончания представления.
О черт, нет, только не это. Как повторить все то, что написала эта сучка в рецензии? И вообще, сможет ли он теперь когда-нибудь позвонить своему учителю? Он ведь с треском провалился. На глазах у всех, при огромном стечении публики. Как тогда, давным-давно, на беговой дорожке школьного стадиона.
Он толкнул стеклянную дверь и шагнул в холодную мартовскую ночь, не обращая внимания на ледяной ветер, который бил по лицу. Его целиком поглотила одна мысль: теперь, из-за такого непредвиденного оборота событий, он лишится уважения своего любимого учителя.
Дэнни всегда знал, что станет последним учеником у Ландау. И хотел быть самым лучшим из всех. Ноги не шли дальше. Он сел на каменные ступени и спрятал лицо в ладони.
— Эй, Росси, что ты здесь делаешь? Ты же схватишь пневмонию.
Рядом стояла Мария, которая наткнулась на него при выходе из театра.
— Уйди, Пасторе. Тебе не следует торчать тут с посредственностями.
Игнорируя его слова, она подошла к нему и присела на ступеньку ниже.
— Послушай, Дэнни, мне плевать, что там сказала какая-то Сони. Я считаю — твоя музыка великолепна.
— Завтра утром все в университете это прочитают. Представляю, как будут потешаться все придурки из «Элиот-хауса».
— Не говори глупостей, — ответила она. — Большинство из этих преппи и читать-то не умеют. — А затем негромко добавила: — Как бы мне хотелось, чтобы ты поверил — мне ведь больно не меньше твоего.
— Почему? Про тебя же хорошо написали.
— Потому что я люблю тебя.
— Это невозможно, — ответил он, следуя непроизвольному рефлексу. — Ты слишком высокая.
Он так нелепо отреагировал на ее признание, что она не удержалась от смеха. А потом он тоже рассмеялся. Притянул ее к себе, и они поцеловались.
Немного помедлив, Мария пристально посмотрела на него и улыбнулась.
— А теперь твоя очередь.
— Что?
— Я хочу сказать: это только с моей стороны такие чувства?
— Нет, — тихо ответил он. — Я тоже люблю тебя, Мария.
Они продолжали обниматься, совершенно не чувствуя порывов пронизывающего ветра.
*****
Весенние каникулы в Гарварде для разных людей проходят по-разному. Студенты последнего курса остаются в университете — добивать свои дипломы, которые нужно представить к началу занятий после каникул. Более состоятельные студенты улетают на Бермуды, чтобы пройти там процедуру под названием «Университетская неделя», о которой впоследствии рассказывают всевозможные небылицы. Здесь можно загорать, ходить под парусом, кататься на водных лыжах, танцевать калипсо и — хотя бы гипотетически — соблазнять девушек, которые слетаются сюда в основном для тех же самых целей.
Весна в Кембридже — одно название. Спортсменам же необходимо прогреть на весеннем теплом солнышке свои мускулы, чтобы подготовить их для грядущих решающих соревнований.
Команда легкоатлетов обычно летит в Пуэрто-Рико. Казалось бы, это такая экзотика. На самом же деле, в отличие от туристов, заполняющих пляжи Бермудских островов, участники кроссов встают в пять утра, пробегают перед завтраком по четыре километра, а потом спят весь день, пока не настанет время для следующего кросса, уже перед ужином. Мало у кого хватает сил или хотя бы желания вечерами еще и бегать за сеньоритами.
Команды по теннису, гольфу и бейсболу объезжают для разминки южные штаты, встречаясь с представителями некоторых местных университетов. Эти спортсмены живут не такой аскетической жизнью, как бегуны, и поэтому имеют некоторый запас сил для ночных развлечений. После ужина они с важным видом разгуливают по территории очередного колледжа, расположенного, как правило, в живописном месте, одетые в свитера с благородной университетской эмблемой, которая притягивает к себе, как магнитом, взгляды всех симпатичных студенточек.
Как-то раз, после трудной победы над Университетом Северной Каролины, Джейсон Гилберт вместе с друзьями по команде собирались пойти погулять и произвести впечатление на женскую часть населения Чапел-хилла. Пока они мылись под душем и наряжались, Дэйн Оливер, их тренер-инструктор, наводил конструктивную критику в адрес ребят, включая самого Джейсона, который хотя и победил в матче, но выглядел на корте немного вялым.
— Я просто вымотался, тренер, — возразил тот. — Переезды, тренировки и сами матчи — все это не очень-то похоже на пикник.
— Да брось ты, Гилберт, — шутливо выговаривал ему Дэйн, — у тебя больше сил уходит на встречи после матчей. Позволь тебе напомнить, у нас и не предполагалось никаких праздников, так ведь?
— Эй, тренер, ты разве забыл, я сегодня выиграл, или ты не в курсе?
— Да, но ты же просто спал на корте. Поэтому давай перестраивайся, иначе я введу специально для тебя комендантский час. Слышишь меня, Гилберт?
— Да, с-сэр. О, прости, моя дорогая мамочка.
Все дружно рассмеялись так, что даже стенки в душе задрожали, и в эту минуту в раздевалку заглянул какой-то седеющий тип ученого вида, в костюме и при галстуке, и попросил тренера выйти на пару слов.
— Кто это пугало? — шепотом спросил Джейсон у Ньюола, который вытирался в это время рядом с соседним шкафчиком.
— Может, это за тобой пришли из ФБР, Гилберт, — подколол он. — Думаю, на этой неделе ты уже раз пять или шесть нарушил закон Манна[33].
Не успел Джейсон ему ответить, как вошел тренер и попросил у команды минуту внимания.
Человек десять игроков, раздетых в разной степени, послушно собрались.
Тренер Оливер обратился ко всем.
— Парни, этот джентльмен — раввин Явец, руководитель Международного центра общества «Гилель». Он говорит, что сегодня вечером отмечается первый день еврейской Пасхи. И все евреи из числа игроков команды приглашаются на службу, которую он будет проводить.
— Это будет недолго и весело, — добавил раввин, произнося слова с южным акцентом. — Всего лишь простой седер, с очень вкусным угощением и песнями, которым, я надеюсь, ваши деды вас научили.
— Есть желающие? — спросил тренер.
— Я пойду с удовольствием, — сказал второкурсник Ларри Векслер, новичок в команде под седьмым номером. — Это утешит моих родителей, которые очень огорчались, что на праздники меня не будет дома.
— Еще кто-нибудь? — спросил Оливер, глядя на Джейсона Гилберта.
Тот вежливо кивнул и ответил:
— Большое спасибо, но мне это не очень… интересно.
— Если передумаете, мы всегда будем вам рады, — сказал раввин.
А потом он повернулся к Ларри Векслеру.
— Примерно в полседьмого я пришлю кого-нибудь из наших прихожан в общежитие, где вы все остановились.
Когда раввин ушел, Ньюол с любопытством спросил:
— Скажи, Векслер, что это за праздник такой?
— Хороший праздник, — ответил второкурсник. — Посвящен исходу евреев из Египта. Ну, знаешь, когда Моисей сказал: «Let my people go»[34].
— Как на слете у цветных бойскаутов, — заметил Ньюол.
— Послушай, — резко осадил его Векслер, — помнишь, что сказал однажды Дизраэли одному английскому националисту? «Когда мои предки читали священную книгу, твои все еще прыгали по деревьям».
Час спустя, когда Ларри Векслер старательно поправлял узел галстука своего университетского клуба, он увидел в зеркале еще одно отражение.
Это был Джейсон, строго одетый, в бледно-голубом блейзере, что было так на него не похоже.
— Эй, Векслер, — произнес он нерешительно, — если я туда пойду, то не буду выглядеть как последний осел? В смысле, я же не знаю, что делать.
— Не переживай, Гилберт. Все, что от тебя потребуется, это сидеть, слушать, а потом — кушать. А страницы я сам буду для тебя переворачивать.
Их собралось около пятидесяти человек — все расселись за длинными столами в отдельном помещении столовой студенческого центра.
Раввин Явец сделал несколько коротких вступительных пояснений.
— Поистине, праздник Песах является главным в еврейском календаре. Поскольку в этот день осуществилась главная заповедь нашей веры, как сказано в книге Исход, главе тринадцатой — в напоминание нашим детям каждого поколения о том, что Господь освободил нас из рабства в Египте.
Джейсон молча слушал, как священники по очереди читают отрывки из священной книги и поют прославляющие псалмы. Улучив момент, он шепнул Ларри:
— Как получается, что вы все поете одинаково?
— Эти мелодии входили в первую десятку в пятитысячном году до нашей эры. Верблюд твоих предков, должно быть, тогда отстал где-то по дороге.
Когда приступили к трапезе, Джейсон с облегчением вздохнул. Теперь разговор шел между обычными студентами, которые живут в двадцатом веке, и он уже не чувствовал себя белой вороной.
За едой Ларри шепотом спросил:
— Ну и как, ты хоть что-нибудь извлек из того, что было сегодня, — например, в культурном плане?
— Кажется, да, — ответил Джейсон вежливо, хотя и не очень убедительно.
Правду говоря, он не совсем понимал, какое отношение этот ритуал имеет к нему лично в 1957 году.
И тем не менее, прежде чем закончился этот вечер, он уже все понял.