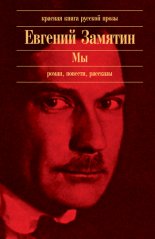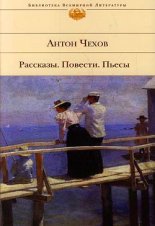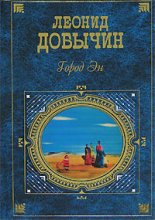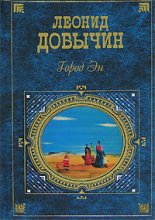Однокурсники Боборыкин Петр
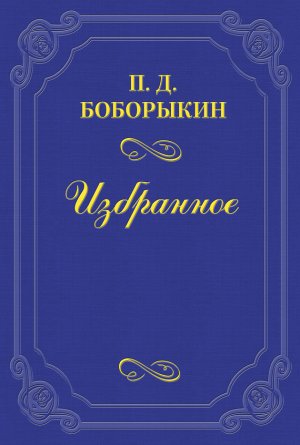
Когда служба продолжилась, раввин попросил всех присутствующих встать и помолиться о приходе Мессии. И он вспомнил уже совсем недавнюю историю.
— Все мы, конечно, понимаем, что древние египтяне были далеко не последними, кто пытался уничтожить наш народ. Вспомним, как в день Песах тысяча девятьсот сорок третьего года отважные евреи из Варшавского гетто, голодающие и почти безоружные, оказали последнее сопротивление нацистам, окружившим их со всех сторон. Это произошло не с нашими далекими предками, это произошло с нашими очень близкими и родными людьми. Это были наши дяди и тети, бабушки и дедушки, а для кого-то из нас — братья и сестры. Это о них, а также о шести миллионах других мучеников, убитых Гитлером, мы вспоминаем в эту минуту.
Внезапно наступила тишина.
Джейсон увидел, как юноша за передним столом опустил голову и беззвучно заплакал.
— Ты потерял кого-нибудь из родственников — там, на войне? — шепнул Гилберт.
Ларри Векслер посмотрел на своего товарища по команде и ответил печально:
— Разве все мы не потеряли?
Еще через минуту все снова сели и стали петь веселые песни.
Окончание церемонии не заставило себя долго ждать. Потом началось уже неофициальное общение — с привлекательными девушками, студентками этого учебного заведения, которые с огромным удовольствием проявляли свое гостеприимство, оказывая особое внимание обоим гостям из Гарварда.
Было уже около одиннадцати вечера, когда Ларри и Джейсон шли по кампусу, где почти не горели огни, к своему корпусу.
— Не знаю, как ты, Гилберт, — поделился мыслями Ларри, — но я очень рад, что сходил. Я хочу сказать — правда же, хорошо знать о своих корнях?
— Наверное, да, — ответил Джейсон Гилберт вполголоса.
И подумал: «Мои корни, кажется, берут начало каких-то двадцать лет тому назад в здании суда, когда некий услужливый судья дал моему отцу новое, нееврейское имя.
И чтобы обезопасить наше будущее, он продал все наше прошлое».
Они шли, а он продолжал размышлять: «Не пойму, зачем папа так поступил. Ведь этот парень, Векслер, ничем не хуже меня. На самом деле даже лучше. Он ведь знает, кто он и где его корни».
Из весеннего турне Джейсон вернулся уже в ином статусе. После одного из матчей против команды, в которую входили бывшие университетские звезды, ныне проходящие службу в Корпусе морской пехоты в Квонтико, штат Виргиния, он поддался на красивые речи одного убедительно говорившего чиновника, который отвечал за воинский призыв, и записался в класс подготовки командиров взвода.
Он подумал тогда, что это будет очень хороший способ исполнить свой воинский долг, поскольку, в отличие от программы службы подготовки офицеров резерва, здесь их будут учить два года, но только в течение летних месяцев. А после окончания университета он сможет сразу же пойти в морскую пехоту и отслужить двухлетний срок уже офицером. Ему даже недвусмысленно намекнули, что после прохождения курса базовой подготовки его, скорее всего, переведут в специальное подразделение, где он сможет нести службу, отбивая теннисные мячи на корте.
Но прежде его ждала еще одна битва. В мае им будет противостоять команда из Йеля. И полчища обитателей Нью-Хейвена ждали реванша.
*****
— Нет.
— Ну пожалуйста.
— Нет!
Мария Пасторе села, резко выпрямившись, лицо ее пылало.
— Прошу тебя, Дэнни, ради бога, неужели мы должны каждый раз обсуждать одно и то же?
— Мария, ты ведешь себя неразумно.
— Нет, Дэнни, это ты жесток ко мне и равнодушен. Как ты не можешь понять, что у меня есть принципы?
Дэнни Росси ничего не мог поделать с Марией.
И хотя первые несколько недель эти двое прожили словно в раю — одни среди толп людей, населявших Кембридж, — вскоре им пришлось столкнуться с серьезным препятствием: их взгляды на требования морали не совпадали.
Мария была самой лучшей, доброй, умной, самой красивой девушкой из всех, с кем он когда-либо был знаком. К тому же она его просто обожала. Но проблема заключалась в том, что по причине, которую он отказывался понимать или, по крайней мере, принимать, она не соглашалась спать с ним. Правду говоря, она и мысли об этом не допускала.
Как обычно, они страстно обнимались и целовались, лежа на диване, но, едва его рука скользнула ей под кофточку, вся ее пылкость вдруг превратилась в тревожную непреклонность.
— Прошу тебя, Дэнни. Не надо.
— Мария, — взмолился он, — у нас серьезные отношения. Мы по-настоящему нравимся друг другу. Мне так хочется тебя приласкать, ведь я люблю тебя.
Она поднялась и, поправляя кофточку, сказала:
— Дэнни, мы оба католики. Как ты не понимаешь, нельзя заниматься такими вещами, пока мы не женаты!
— Какими такими вещами? — гневно спросил он. — Где это сказано в Библии, что мужчина не может касаться женской груди? Если уж на то пошло, в Песни Песней…
— Пожалуйста, Дэнни, — быстро произнесла она, явно раздираемая душевными муками, — ты же сам знаешь, это не так. Этим все не ограничится.
— Но я клянусь тебе, я ни о чем больше не буду просить.
Мария взглянула на него и, зардевшись, откровенно призналась:
— Послушай, может, ты и считаешь, будто у тебя получится остановиться на полпути. Но я-то себя знаю. Если мы зайдем так далеко, я сама не смогу удержаться.
Это признание на какое-то мгновение подняло настроение Дэнни.
— Значит, в глубине души тебе хотелось бы этим заняться?
Она стыдливо кивнула.
— Дэнни, я — женщина. И влюблена в тебя. Внутри меня накопилось столько страсти. Но я еще и верующая католичка. Сестры учили нас, что поступать так — смертный грех.
— Нет, погоди, — настаивал он на своем, словно участвуя в университетских дебатах. — На дворе тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год, неужели ты, просвещенная студентка Рэдклиффа, серьезно станешь утверждать, будто на самом деле веришь, что будешь гореть в аду, если ляжешь в постель с любимым человеком?
— Если до свадьбы — то да, — ответила она, не колеблясь.
— Боже, это невероятно, — произнес он.
Терпение у него иссякало. И доводы тоже.
Переполненный горячим желанием убедить эту бесчувственную недотрогу, он выпалил сгоряча:
— Послушай, Мария, мы обязательно поженимся когда-нибудь. Разве этого недостаточно?
Наверное, она была слишком огорчена, чтобы заметить: он практически сделал ей предложение стать его женой в будущем. Как бы там ни было, она сказала в ответ:
— Дэнни, пожалуйста, поверь мне, ради всего святого: ничего не могу с собой поделать — меня так воспитали. Мой духовник, мои родители, хотя нет, не буду уклоняться от ответственности и перекладывать на них вину, это мое собственное убеждение. Так вот, я хочу подарить свою девственность супругу.
— Господи, это так старомодно. Разве ты не читала Кинзи? В наше время таких женщин едва ли наберется процентов десять.
— Дэнни, мне это безразлично, даже если я буду последней девственницей на земле. Я намерена оставаться непорочной до первой брачной ночи.
У Дэнни, исчерпавшего все свои ораторские возможности, почти непроизвольно вырвалось:
— Вот черт!
Пытаясь совладать с собственной страстью, он сказал:
— Ладно-ладно, давай забудем обо всем, пойдем поедим.
И начал надевать галстук, когда с удивлением услышал ее ответ:
— Нет.
Он повернулся к ней и рявкнул:
— Что на этот раз?
— Дэнни, давай по-честному. Никто из нас двоих не сможет жить так дальше. Мы оба начинаем злиться друг на друга, а это означает, что наши нежные чувства неминуемо улетучатся.
Она встала во весь рост, словно желая подчеркнуть свое физическое преимущество, а не только моральное.
— Дэнни, ты мне в самом деле очень нравишься, — сказала она. — Но я не хочу видеть тебя…
— Совсем?
— Не знаю, — ответила она, — по крайней мере, некоторое время. У тебя этим летом будет Тэнглвуд. Я поеду в Кливленд и поработаю там. Может, расставание пойдет нам на пользу. Будет время подумать.
— Разве ты не слышала, что я хочу на тебе жениться?
Она кивнула. А потом сказала негромко:
— Да. Но я не уверена, что ты в самом деле этого хочешь. Вот почему нам надо на время расстаться.
— Но писать-то друг другу мы сможем? — спросил Дэнни.
— Хорошо, давай.
Мария прошла к двери и обернулась. Она молча смотрела на него несколько секунд, а затем шепнула:
— Если б ты знал, Дэнни, как мне больно.
И ушла.
*****
К началу весны 1957 года Джордж Келлер был готов наравне со всеми студентами своего выпуска слушать лекции на том языке, на котором проходило обучение в Гарвардском университете.
Как и следовало ожидать, своей специализацией он выбрал государственное устройство, поскольку Бжезинский объяснил ему, что, свободно владея русским языком и досконально разбираясь в политике, проводимой «за железным занавесом», он может стать незаменимым человеком в Вашингтоне.
Среди выбранных им курсов для весеннего семестра значились лекции «Управление в государственной сфере» (180), «Принципы международной политики» — и это даже несмотря на то, что имя профессора, читавшего этот курс, напомнило ему о параноидальном чувстве, от которого он страдал в начале своего пребывания здесь. Ведь лектора звали не иначе как Уильям Палмер Элиот — это был еще один (хоть и мнимый) родственник его соседа Эндрю.
И все же это был важный выбор. Ассистентом у этого Элиота был круглолицый молодой преподаватель, который говорил по-английски с жутким иностранным акцентом, еще похлеще, чем у Джорджа. Его звали Генри Киссинджер. Необъяснимым образом, не сговариваясь, эти двое потянулись друг к другу.
Киссинджер, как и Джордж, был беженцем, но только из Германии военной поры, он закончил Гарвард (и точно так же англизировал свое имя). Он обладал поразительной способностью разбираться во всех политических тонкостях — как теоретически, так и на практике. Доктор К. (как любовно его называли студенты) уже руководил неким действом под названием «Гарвардский международный семинар». И входил в состав редколлегии журнала «Форин афферс» — вероятно, наиболее влиятельного политического издания в мире.
Джордж думал, будто это его собственные таланты позволили ему выдвинуться в участники секции Киссинджера, но обнаружил: оказывается, сам преподаватель сделал все возможное, чтобы заполучить его в свою дискуссионную группу. И ни тот ни другой не были разочарованы.
Помимо всего прочего, Киссинджер находился под сильным впечатлением от того, как Джордж владеет русским языком. Молодого преподавателя не покидало жгучее желание стать номером один в Гарварде (а со временем и в мире), вот почему ему хотелось во что бы то ни стало записать юного венгра к себе в команду. Ведь он прекрасно знал, как отчаянно его главный соперник, Збигнев Бжезинский, жаждет и впредь оказывать влияние на Джорджа.
В самом начале семестра, после собрания учебной группы, он остановил Джорджа и сказал:
— Мистер Келлер, вы не могли бы задержаться на минуту? Я хотел бы сказать пару слов о вашей последней работе.
— Конечно, — вежливо ответил Джордж, внезапно испугавшись, что выполненный им анализ вовсе не такой уж необычный и глубокий, каким он его посчитал.
— Все нормально, профессор? — поинтересовался Джордж, когда последний студент вышел из аудитории.
Хорошо разбиравшийся в университетской табели о рангах, он ловко наградил Киссинджера званием профессора, хотя прекрасно знал, что тот всего лишь простой преподаватель. Удостоенный такой чести Киссинджер был явно польщен. По крайней мере, он широко улыбнулся.
— Ваша работа, мистер Келлер, не просто «нормальная». Она великолепная. Я никогда еще не встречал студенческих работ, где с таким пониманием проводились бы различия между тонкостями в философских доктринах восточноевропейских стран.
— Благодарю вас, профессор, — обрадовался Джордж.
— Я знаю, вас не так давно привезли из Венгрии. Что вы изучали в Будапеште?
— Право. Советское право, разумеется. Довольно бесполезное дело, да?
— Смотря для кого. Лично я для своих исследований с удовольствием пригласил бы человека, специалиста в этой области, который свободно читает по-русски.
— Видите ли, сэр, я хочу уточнить, — ответил Джордж, — я ведь не получил там диплома. Поэтому вряд ли меня можно назвать специалистом.
Киссинджер подмигнул ему из-под толстых стекол очков в темной оправе.
— Может, в Венгрии вас так и не назвали бы, но в Кембридже людей с таким опытом, как у вас, еще поискать…
— Днем с огнем не найти? — продолжил Джордж, чтобы показать, как он владеет идиоматическими выражениями.
— Так и есть, — откликнулся доктор К. — Итак, если вы не заняты, я с радостью взял бы вас к себе в качестве научного ассистента. В Центре европейских исследований платят по два доллара в час, что совсем недурно. А дополнительным стимулом станет то, что мы сможем определиться с главной темой для работы, над которой вы будете трудиться в дальнейшем.
— Не хотите ли вы сказать, что беретесь лично руководить моей диссертацией?
— Молодой человек, я счел бы себя оскорбленным, если бы вы не задали этот вопрос, — ответил Киссинджер с очаровательной учтивостью. — Правильно ли я понял, что вы принимаете мое предложение, Джордж? Или вам надо все обдумать? Может, обсудите это со своим куратором? Кстати, кто он — не тот ли молодой поляк Бжезинский?
— Все нормально. Я поговорю со Збигом. Когда мне приступить к работе, доктор Киссинджер?
— Приходите ко мне в кабинет после обеда сегодня. И, Джордж, отныне, когда мы не на занятиях, пожалуйста, зовите меня просто Генри.
*****
И вот предпоследний год учебы в университете завершился.
Тем временем народ Соединенных Штатов, любящий Эйзенхауэра, вновь проголосовал за своего президента, а на одного из студентов выпуска 1958 года пал выбор стать духовным лидером для миллионов верующих перед самим Господом. Так случилось, что когда правящий Ага-хан был при смерти, неожиданно для всех он назначил своим преемником внука, принца Карима, чтобы тот наследовал его титул имама всех мусульман-исмаилитов.
Многие из сокурсников принца увидели в этом событии добрый знак, надеясь, что каждый из них также не останется без благословения небес.
Джордж Келлер продвинулся дальше всех — как в плане географическом, так и умственном. За каких-то семь месяцев он одержал истинную победу над английским языком. Структуры предложений подчинились его воле. Слова превратились в орудие, которое можно использовать вместо силы — для того, чтобы пробивать бреши в стенах выстроенных доводов и овладевать умами слушателей.
Теперь ничто не мешало ему штурмовать академические высоты. К тому же под руководством авторитетного наставника. Если Гарвард и оказался ему хоть чем-то полезен, так это тем, что здесь он сблизился с Генри Киссинджером, с которым, как ни удивительно, они одинаково мыслили, совпадая практически по всем вопросам.
Таким образом, наградой ему всем на зависть стала работа летом в качестве специального помощника доктора К. во время организации и проведения международной конференции и подготовки к выпуску журнала «Confluence» («Слияние»).
В программе было заявлено участие нескольких десятков правительственных чиновников и влиятельных представителей интеллигенции из разных стран по обе стороны железного занавеса, которые должны были приехать для того, чтобы прочесть публичные лекции и обсудить различные темы — поделиться своим видением нового послевоенного устройства мирового сообщества.
Помимо прочих обязанностей Джорджу предписывалось вступать в неформальные, дружеские отношения с теми, кто представлял страны Восточного блока, и выяснять, что они на самом деле думают о Гарварде, о конференции и… о самом Киссинджере.
Несмотря на первоначальную настороженность, все эти люди в конечном счете поддавались европейскому обаянию Джорджа и разговаривали с ним о том о сем гораздо откровеннее, чем когда-либо, — они прежде и представить себе не могли, что будут так запросто общаться в заграничных стенах университета чуждого капиталистического Запада.
Разумеется, в инструкциях, которые Генри давал Джорджу, ничего не говорилось о том, что в общении с участниками конференции тому следует доходить до такой степени близости, которая предполагала бы вступление с кем-либо из них в интимную связь. Это он сделал по собственной инициативе.
Может, из-за духоты, которая установилась в Кембридже, по Гарвардскому двору вдруг стали прогуливаться стайки девушек не из Рэдклиффа — в коротких, короче не бывает, шортах и в обтягивающих донельзя футболках.
А может, потому, что чувство вины, из-за которого Джордж до сих пор воздерживался от плотских утех, словно подсознательно стремясь искупить ее, к этому времени уже покинуло его.
Но в начале августа он отправился в постель с одной из ведущих журналисток из Польши. Женщине было лет под сорок, и ее знали во всем мире. А потому комментарии знаменитой журналистки относительно его мастерства на любовном поприще имели для Джорджа большое значение.
— Молодой человек, — прошептала она, — ты самый искушенный любовник из всех, кого я когда-либо знала…
Джордж заулыбался.
— … и самый холодный, — тут же добавила она. — Ты все делаешь так, будто выучился этому по учебнику.
— Ты сомневаешься в моей искренности? — добродушно спросил он.
— Конечно нет, — ответила она, лукаво улыбаясь. — Я ни на минуту не сомневалась, что она у тебя вообще отсутствует. Ты их тайный агент, я права?
— Да. — Джордж ухмыльнулся: — Начальник управления дал мне задание выяснить, кто из делегаток лучше всех в постели.
— И? — спросила она кокетливо.
— Если бы за сексуальность присуждали Ленинскую премию, ты бы получила ее с легкостью.
— Ах, Джордж, — проворковала она, — ты разговариваешь так же изящно и со вкусом, как и трахаешься. Тебя ждет большое будущее.
— В какой области, как ты думаешь? — спросил он, искренне желая выслушать мнение о себе этой известной во всем мире женщины.
— Это же так очевидно, — ответила она. — Есть только одна профессия, где в равной степени нужны оба твоих блистательных таланта. Разумеется, я имею в виду политику.
И она притянула его к себе, чтобы вновь погрузиться в общение с ним на языке Эроса.
Ничто не препятствовало Джейсону Гилберту в его походе за спортивной славой. Второй год подряд он выигрывал титул чемпиона по теннису среди спортсменов-любителей Всеамериканской студенческой ассоциации. И, словно в дополнение ко всем наградам, друзья по теннисной сборной выразили Джейсону высокое доверие, избрав его своим капитаном — как это уже произошло в команде по сквошу.
В обычных обстоятельствах человек не мстительный, он не смог отказать себе в удовольствии отослать директору своей бывшей школы мистеру Трамбалу, воспитаннику Йеля, огромную статью из газеты «Кримзон», в которой перечислялось невероятное количество спортивных достижений Джейсона на сегодняшний день. И, как говорилось в этом панегирике в заключение: «Кто осмелится предположить, каких дальнейших высот достигнет Гилберт за оставшийся год?»
Любовь Теда и Сары стала еще сильней — невозможно было даже подумать, что им придется расстаться на два месяца. Поэтому Сара убеждала родителей разрешить ей посещать гарвардскую летнюю школу и снять на это время квартиру в северной части Кембриджа. Мать Сары с сомнением отнеслась к внезапному порыву дочери продолжить учебу в каникулярное время. Но отец, которому девушка призналась по секрету, что подозрения матери действительно небезосновательны, проявил великодушие, поддержав дочь, и это помогло ей одержать верх.
В распоряжении влюбленных было долгое лето, наполненное страстью (однажды звездной ночью они занимались любовью даже внутри Гарвардского двора, в четырехугольном дворе за Север-холлом). Мысль о приближающемся Дне труда[35] и следующей за ним разлуке доставляла жестокую боль. Сара проплакала всю неделю перед тем, как съехать с квартиры.
Для Дэнни Росси лето 1957 года стало своего рода увертюрой к наивысшей точке его музыкальной карьеры за все студенческие годы.
Мюнш договорился о его выступлении с Бостонским симфоническим оркестром 12 октября, когда он должен будет исполнять Третий концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Эти трели во вступительной части еще отзовутся во всех уголках музыкального мира. Когда он, ликуя, позвонил профессору Ландау, чтобы сообщить эту грандиозную новость, то с волнением узнал, что учитель все это время откладывал деньги на авиабилет и намерен присутствовать на его концерте.
И все же надвигающийся дебют доставлял Дэнни значительно меньше радости, чем ему казалось в его мечтах. Может, потому, что в предпоследний год учебы он больше отдавал, чем получал. И унижение от разгромной статьи в «Кримзоне» о его музыке к балету никак не забывалось. А еще эти мучительные отношения с Марией.
Он надеялся, что за время разлуки с ней на все лето у него будет возможность разобраться со своими чувствами и, возможно, соблазнить парочку девиц в Тэнглвуде, чтобы укрепить в собственных глазах свою мужскую репутацию. Но неожиданно случилась трагедия, которая огромным саваном накрыла все вокруг.
В тот день, когда он приехал в Тэнглвуд, его мать сообщила ему по телефону, что профессор Ландау скончался от сердечного приступа. Не помня себя от горя, Дэнни собрался и вылетел на похороны своего любимого учителя. У могилы он плакал навзрыд на глазах у всех.
Когда после короткой панихиды люди стали расходиться, мать, с которой он не виделся долгих три года, стала упрашивать его пойти домой. Она сказала, что перед смертью профессор Ландау выразил желание, чтобы Дэнни помирился с отцом.
Итак, блудный сын наконец вернулся в дом, где он провел свое несчастливое детство.
Артур Росси, казалось, переменился и внешне, и внутренне. Теперь он не выглядел строгим. На лице появились морщины, а волосы на висках стали совсем седыми.
На какое-то мгновение Дэнни ощутил боль сожаления. Будто это его вина, что отец так рано постарел.
Но пока они молча стояли напротив друг друга эти несколько неловких минут, Дэнни заставил себя вспомнить, как жестоко этот человек обращался с ним. Правда, он уже не нашел в себе ненависти к отцу. Впрочем, как и любви.
— Хорошо выглядишь, сынок.
— Ты тоже, папа.
— Давно… не виделись, правда?
И это все, что он смог сказать. А ведь Дэнни долго лелеял в своих мечтах мысль, что отец будет просить у него прощения. Как он заблуждался! Это были всего лишь его ребяческие желания.
Преисполненный великодушия, которое родилось из печали и только что обретенной беспристрастности, Дэнни протянул руку отцу в знак того, что их ссоре пришел конец. Оба даже заключили друг друга в объятия.
— Я очень рад, сынок, — прошептал Артур Росси. — Отныне кто старое помянет, тому глаз вон.
«Да уж, — подумал Дэнни, — какого черта. Теперь это не имеет никакого значения. Ведь единственный человек, который относился ко мне как родной отец, умер».
Из дневника Эндрю Элиота
8 августа 1957 года
Все лето я одной ногой находился в будущем, а другой — в прошлом (только не спрашивайте, где мне больше понравилось).
Поскольку в следующем году мне предстоит окончить университет (если повезет), отец решил, что будет лучше, если я воздержусь от ставшего обычным для меня физического труда летом. А вместо этого я начну знакомиться с семейным банковским делом.
Естественно, сам он находился в Мэне и распорядился обо всем по телефону. Поэтому он поручил меня заботам «доброго малого» Джонни Уинтропа, служащего банка, которого очень точно характеризуют эти два определения.
«Ты, приятель, просто гляди во все глаза и слушай во все уши, — объяснял он мне в самый первый день. — Следи за тем, когда я покупаю, следи, когда продаю, следи, когда придерживаю. Быстро научишься, это нетрудно. А теперь, может, принесешь нам по чашке хорошего чая?»
Офис нашего банка в деловой части Бостона находится всего в двух шагах от Исторического общества, если идти через парк Коммон. Именно здесь я занимался настоящими изысканиями, так как тщательно исследовал дневники преподобного Эндрю Элиота, выпуска 1737 года, и его сына Джона, выпуска 1772 года.
Эти записи дали мне возможность по-настоящему прочувствовать историю нашей страны (и моей семьи). И понять, что, если не считать появления в наших уборных некоторых удобств, жизнь в Гарварде до сих пор протекает почти так же, как и в самом начале.
Я сделал фотокопии некоторых отрывков из дневниковых записей первокурсника Джона Элиота, в которых содержались пикантные подробности:
— 2 сентября 1768 года. Джон уезжает в университет. Собирает необходимые вещи. Ему требуется синий плащ, шляпа-треуголка и мантия. А также вилка, ложка и ночной горшок (первокурсникам приходилось везти свои собственные).
— Папа настаивает, чтобы он ехал на пароме из Чарлз-тауна. Так дешевле всего. И — самое главное — выручка идет Гарварду.
— За учебу можно платить натурой, например картошкой или дровами. Один парень притащил овцу.
— Университетский пунш под названием «флип». Две трети пива, одна треть — черная патока, разбавленная ромом. Подавался в огромных высоких кружках (которые называли бокалами).
— 6 сентября 1768 года. Описывает отвратительную еду в общине.
«Каждый первокурсник получает по одному фунту мяса вдень, — пишет Джон. — Но поскольку оно совершенно не имеет вкуса, то невозможно определить, какого животного это мясо. Иногда дают зелень. Чаще всего — одуванчики. Масло очень плохое, и это несколько раз явилось причиной бунта студентов.
По крайней мере, мы не умрем от жажды, так как сидром нас снабжают в неограниченном количестве. Каждый стол уставлен огромными оловянными банками, которые мы передаем друг другу, по очереди отпивая из них, словно это кубки на какой-нибудь английской пирушке».
Если не принимать во внимание сидр, все это вполне можно было бы счесть за описание обычного обеда в «Элиот-хаусе». Особенно разговоры за столом. Все тот же вечный студенческий трёп.
Но не все было так весело и безоблачно. По мере того как ухудшались отношения с Британией, обстановка в студенческом городке становилась все более напряженной. Случались кровавые драки между вольнодумцами и верноподданными студентами. А потом разразилась война.
В конце 1773 года, как раз после Бостонского чаепития[36], в обеденном зале произошло жестокое столкновение между патриотами и роялистами. Не просто драка из-за куска хлеба, а смертельное побоище. Преподавателям пришлось ввязаться в сражение, чтобы предотвратить кровопролитие.
Однажды днем я сделал удивительное открытие. Оказывается, британская армия как-то раз намеревалась стереть Гарвардский университет с лица земли.
«Это было в семьдесят пятом году, в восемнадцатый день апреля», как рассказывается в знаменитом стихотворении профессора Лонгфелло[37]. В глухую полночь Пол Ревир скакал галопом, чтобы оповестить жителей Лексингтона и Конкорда о приближении войск красномундирников.
Но было еще одно подразделение британской армии, которое направлялось в Кембридж. В дневнике Джона Элиота от 19 апреля рассказывается о панике, охватившей Гарвард. Всем было хорошо известно, что англичане считают университет «рассадником вольнодумства и мятежа».
Опасаясь, что противник войдет в город по большому мосту через реку Чарльз, группа студентов разобрала его, чтобы англичане не смогли по нему перебраться. После чего парни спрятались в кустах, посмотреть, что будет дальше.
Сразу же после полудня на западном берегу реки показались войска во главе с самим лордом Перси — тот красовался в великолепном красном мундире, верхом на чудесном белом коне.
Когда лорд увидел, что мы — то есть ребята из Гарварда — сотворили, чтобы помешать ему, он страшно разозлился. Однако у этой хитрой британской сволочи в запасе было несколько плотников, которые починили мост меньше чем за час.
Затем солдаты промаршировали прямо по главной улице города, мимо домов с запертыми наглухо ставнями.
Перси держал путь в сторону Лексингтона, для укрепления позиций войск на выходе из этого города. Но он не знал дороги. Поэтому он направился в то место, где наверняка ему все расскажут, — в Гарвардский университет. Он привел с собой несколько человек прямо в Гарвардский двор, остановился посреди пустых с виду зданий и стал кричать, чтобы кто-нибудь немедленно вышел к нему и показал, куда идти.
Никто не явился. Эти студенты оказались отважными ребятами.
Джон Элиот и его приятели по комнате тревожно наблюдали за ним через щели в ставнях, боясь, что Перси вот-вот прикажет своим солдатам начать стрельбу. Тот уже готовился отдать такой приказ, но прежде решил испробовать другой ход. Он снова спросил — но уже на латыни.
Тогда из Холлис-холла неожиданно показался наставник Исаак Смит и подошел к англичанину.
Студенты не слышали, о чем они говорили, но увидели, что Смит указал в сторону Лексингтона. Перси махнул рукой, и все ускакали.
Почти тут же на наставника обрушились бранные крики, что он «жалкий идиот, лизоблюд, подпевала красномундирников». Тот совершенно растерялся. Он был из тех людей, кто мог на память цитировать всего Цицерона и Платона, но так и не запомнил ни одного студента по имени.
Запинаясь, он сказал, что информацию от него потребовали именем короля. Как же он, его верноподданный, мог отказаться? И добавил, что лорд Перси хочет удостоить Гарвард еще одним визитом.
Студенты негодовали. Кажется, генерал сказал наставнику Смиту, мол, они еще «выпьют по стаканчику хорошей мадеры у огонька» чуть позже этим вечером. Этот глупец не понял, что под «огоньком» красномундирник подразумевал большой пожар. Кто-то предложил вымазать дегтем и вывалять в перьях этого заумного простофилю. Но, как это обычно бывает в Гарварде, каждый предлагал свой способ.
И пока все разглагольствовали, перебивая друг друга, наставник Смит тихонько улизнул. Больше его никто никогда не видел.
Тем же вечером в Кембридж прискакал Поль Ревир с ужасной новостью из Лексингтона и Конкорда.
Некоторые студенты присоединились к минитменам[38], которые спешно сооружали баррикады в парке Кембридж-Коммон, готовясь отразить нападение британцев.
Но те так и не пришли. Бруклинские ополченцы, возглавляемые Исааком Гарднером, выпуска 1847 года, устроили засаду на пути красномундирников на перекрестке Ватсонс-Корнер. И хотя сам Исаак пал в этом бою, его бесстрашное нападение заставило британцев броситься врассыпную и подумать, что весь путь к Кембриджу буквально кишит такими же свирепыми патриотами.
Благодаря подобным людям в Гарвардском дворе так и не было военных сражений.
Тем душным днем, когда я впервые прочитал слова, написанные Джоном Элиотом, я поневоле задумался, как бы мы, современные студенты, повели себя, будь наш университет окружен вооруженными силами? Что бы мы делали — швыряли бы во врагов «летающие тарелочки» фризби?
Было почти пять, когда я вернулся с обеда. Я сразу же пошел к мистеру Уинтропу, чтобы извиниться. Оторвавшись от письменного стола, он посмотрел в мою сторону и сказал, мол, он даже не заметил, что меня не было.
Вот так я и живу.
*****
Когда студенты выпуска 1958 года возвращались в Кембридж на последний курс обучения, все с болью понимали, как мало песчинок остается в песочных часах, отмеряющих для них университетскую жизнь. Ведь ровно через девять месяцев из уютного чрева Гарварда всех их вышвырнут в холодный, жестокий мир.
Казалось, все происходящее ускоряется с пугающей быстротой. Старшекурсники были похожи на лыжников, которым надо спуститься с горы: некоторые из них боятся движущей силы и, хотя ехать осталось совсем недалеко, они все равно не способны удержаться на ногах.
До сих пор среди учащихся выпуска было трое самоубийц — все они так или иначе не выдержали перегрузок, которые нужно было вынести, чтобы остаться в Гарварде. А теперь, на последнем курсе, еще двое покончат с жизнью. Но на этот раз из страха покинуть Гарвард.
Заключительное действие этой пьесы печально еще и по другим причинам. Цинизм, свойственный студентам в первые три года учебы, как ни странно, постепенно превращается в ностальгию, из которой к июню рождается сожаление. О потраченном впустую времени. Об упущенных возможностях. О беззаботности, которая отныне станет для всех недоступной.
Но есть и исключения. Это те, кто без потерь проходит сквозь горнило последнего курса и, как правило, приносит славу всему выпуску.
Один из них дебютировал в качестве солирующего пианиста с Бостонским симфоническим оркестром 12 октября 1957 года.
Впрочем, тот Дэнни Росси, который, слегка волнуясь, подходил к роялю в зале, заполненном почтенной публикой, сильно отличался от юного очкарика, который уезжал из «Элиот-хауса» этой весной.
Он больше не носил очков.
Но не потому, что у него улучшилось зрение, хотя на внешности это отразилось потрясающе. Подобной метаморфозой он обязан словам, которые обронила одна влюбленная в него почитательница из числа девиц, работавших летом в штабе Тэнглвудского фестиваля. Обратив внимание, что он никогда не снимает очки, даже когда они ему не нужны, девушка отметила, как привлекателен пронизывающий взгляд его серо-зеленых глаз и как жалко, что он прячет их от публики за стеклами очков. На другой же день он отправился в город и подобрал себе контактные линзы.