Автопортрет художника (сборник) Лорченков Владимир
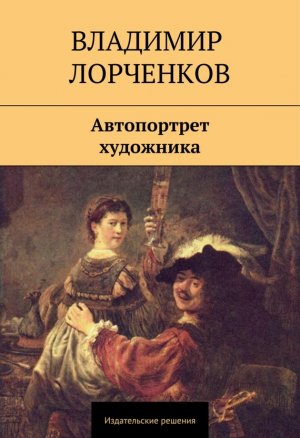
– «Нуты»? – гавкнули в трубку. – А кто ты блядь такой, «нуты» долбанный?
– Ну я, – сказал я.
– Так вот блядь «нуты», – сказали из секретариата, – бери лист бумаги и пиши какой угодно херни на сто строк. У нас блядь дыра, понимаешь? Дыра.
– Понимаю, – сказал я. – А что писать?
– А пиши блядь что хочешь, какой угодно херни напиши, – сказали в трубку, – потому что, что бы ты не написал, этот мудак редактор будет недоволен.
– Можно написать рассказ? – спросил я.
– Пиши что хочешь, ты все равно за это по мозгам получишь, так что пиши, что угодно, ты что, тупой? – повторили там.
– И не забудь поставить свою подпись под текстом, «нуты» блядь, чтобы было кого пинать потом, – сказали там и повесили трубку.
Ладно. Я написал.
ххх
Следующим вечером пришла сумасшедшая. Я стал поить ее чаем, стянул с нее розовый свитер, который пах – как сейчас помню – сиренью, и увидел, что и лифчик не очень чистый. Ладно. В семнадцать лет такими вещами не заморачиваешься. И потом, я же сказал. Она была ОЧЕНЬ красивой. Великолепно сложенной. Тоненькой, стройной, но сиськи у нее были здоровенные. При этом не висели. Физика, говорите? В двадцать лет тело срать хотело на вашу физику. Забегая вперед скажу, что оно и в тридцать еще может проделывать такие фокусы, но дается это уже лишь упорным трудом… Я стянул грязный по швам лифчик, и присосался к сиськам. Она завелась, хотя сразу не очень хотела, но явно рассчитывала на деньги. Я повалил ее на две кушетки – мы их принесли с мусорки за Домом Печати, кто-то выкинул – и мы заелозили друг по другу.
– Приподнимите бедра, – попросил я, почему-то на «вы».
– Да-да, – сказала она, и приподняла.
Дальше было легче. Узкие, в обтяг, джинсы, удалось стащить. Трусики… Я не отважился глянуть на ее нижнее белье, и стащил их с джинсами, не глядя. Судя по тактильным – я имею в виду, что пощупал – ощущениям, она текла. И томно закатывала глаза. Что мне оставалось делать. Я лихо спустил штаны и задвинул ей. Завелся. Трахал ее с полчаса то так то этак, в семнадцать все еще хочется повертеться. А потом принавалился сверху, как люблю больше всего, и заработал. Текло из нее так, словно там кран включили. У меня даже ляжки были мокрыми. Глаза у нее были закрыты, и тело безвольно двигалось под моими толчками. Голова каждый раз упиралась в кушетку. Меня это дико возбуждало. Должно быть, я затрахал ее до потери пульса, гордо подумал я.
– Блядь, блядь, ДА! – сказал я.
– Вы уже кончили? – спросила она, не разлипая глаз.
Я глянул вниз. Половина кабинета была в крови. Блядь.
– Ладно, потерпи, – перешел я на ты.
– Да, конечно, – сказала она.
Я подвигался еще немного и кончил. Погнал ее за тряпкой в туалет и заставил вымыть пол, сам кое как помыл ляжки у раковины – не забыв, когда выходил из кабинета, прихватить все свои деньги.
– А за деньгами придите завтра, – сказал я.
– Что? – спросила она так, что сердце у меня дрогнуло, но это ничего не меняло, денег все равно не было.
– Слушай, – сказал я, – ты же не хочешь сказать, что ты правда студентка филфака, которую прогоняют из квартиры…
– Нет, – сказала она и заплакала и залепетала, – я просто проиграла денег в карты парню своей соседки, не знала, что это на деньги, мы просто играли в дурака, а он бандит, и он сказал, что убьет меня, это подстава, непременно убьет, если я не отда…
– Еще хуже, – сказал я. – Еще невероятнее.
– Вот тебе, – с сожалением дал я ей свои последние десять долларов.
– Остальное выпишет завтра бухгалтер, Богом клянусь, – сказал я. – Сегодня просто не успела.
– Спасибо, спасибо, – ревела она, – только не обманите меня, мне так страшно…
– Да я тебе правду говорю! – сказал я.
– Пожалуйста, пожа-аа-а-а-луйста… – ревела она
Я вытолкал ее, и прогнал мимо охранников. Те глядели на девку плотоядно, но я ее пожалел. И больше ее никогда не видел. Взял больничный за свой счет на три дня, и потом полаялся с бухгалтершей, визжавшей, что я нарочно приманиваю сумасшедших, которые утверждают, что им должны двести баксов, а сам сваливаю.
А еще месяц спустя я прочитал в криминальной ленте, что какую-то студентку трахнули и убили за карточный долг.
ххх
За всеми этими веселыми делами я и забыл уже о своей колонке.
Оказалось, зря. Трахнутый молдаван-редактор лишил меня очередной премии за то, что я написал какую-то «оскорбившую всех херню», но, почему-то, велел мне писать ее ежедневно. Мне все равно нечем было заняться. Ну, я и писал. Как раз одну из них писал – предвкушая вечернюю редакционную пьянку – как в кабинет позвонили. Как обычно, присутствовал только я, мне и трубку снимать пришлось. Остальные сотрудники газеты или трахались на съемных квартирах, или бухали, или приходили в себя на съемных квартирах после пьянок. Я был спокоен. Я знал, что займусь этим, как только появится следующий новичок. Все было в порядке вещей. К тому же, вечером намечалась пьянка.
В это время позвонили и я взял трубку.
– Это редакция газеты где работает журналист Лоринков? – спросил голос и назвал газету.
– Ага, – сказал я, и на всякий случай добавил, – с вами говорит его начальник.
– Замечательно, – сказал голос. – Послушайте, эту херню нельзя печатать!
– Да? – сказал я.
– Это полная, невероятная, – он волновался, – херня! Это компиляция. Симулякр! Это закос под Павича.
– А? – спросил я, потому что не очень понимал, о чем оно говорит.
– Это блядь не талантливо, – волновался голос, – это нужно прекратить, слышите, прекратить Немедленно, что это за хер еще такой, который из себя писателя строит…
– Писателя? – спросил я, ужасно удивленный.
– Ну да, – доверительно зашептал голос, – выебывается, строит из себя непризнанного блядь гения.
– Гения? – спросил я, удивленный более чем ужасно.
– Ну да бля! – зашипел голос. – Гения бля литературы!
– Литературы?! – страшно удивился я.
– Ну да бля! – страстно продолжал голос. – Он, этот Лоринков траханный, проныра бля, ему палец в рот не клади, вы же бля оглянуться не успеете, будет бля здесь великим писателем земли молдавской, и что самое страшное, все в это действительно поверят, а ведь это не так, не так бля, это же не человек, это Уебище!
– Вы знакомы? – спросил я.
– Какой на хер знакомы! – сказал голос. – Я всего неделю колонки этого бля психа читаю!
– Потрясающе, – сказал я машинально.
– Ни хера здесь потрясающего нет! – сказал он. – Прикрывайте эту бль лавочку пока его не распиарили! Завтра оглянуться не успеете, как кто-нибудь двигать этого придурка в топы!
– Топы? – спросил я тупо.
– Ну, наверх! – прошипел он. – Двинут в топы! Какие-нибудь московские литературные пидоры! Кто он такой бля чтобы иметь свое мнение и писать бля его?! Вы хотите чтобы этого человека считали молдавской литературой? Да пошла она в пизду, такая литература! Он не талантлив! Гнать его на хуй!
– Бля, – сказал я, совершенно ошарашенный.
– Вот-вот, – по своему понял он мой изумленный возглас.
– О кей, – сказал я, – мы записали ваш отзыв и дадим его в завтрашнем номере.
– Отлично! – сказал голос.
– Как подписать? – спросил я.
– Что? – спросил он.
– Ну, как подписать отзыв, – спросил я.
– «Неравнодушный Читатель», – сказал он, помолчав.
– О кей, – сказал я, – и спасибо вам за честный и искрений отзыв, между нами говоря, я этого мудака Лоринкова тоже недолюбливаю.
– Ладно, – сказал голос. – Тогда куплю завтра газету.
– О, я ваш должник, – сказал я.
Посидел еще. Глянул на определитель, записал номер, посмотрел в телефонной книга. Какой-то блядь «сергей ильченко». Он не соврал. Мы не были знакомы. Это имя мне ничего не говорило. Первое из тысяч ничего не говорящих имен. О кей. Я выпил литр вина – оставалось еще в канистре, присланную председателем колхоза, которого наш специальный отдел расследований от тюрьмы отмазал. Правда, сам же сначала туда едва не посадил… Но про первое председателю знать было не обязательно. Потом я порвал лист с предыдущей колонкой, которая не шла. И легко написал колонку про пидора, который упал в сортир и захлебнулся в своем говне. Человека звали Сергей Ильченко по прозвищу Копашка, которое он получил за то, что любил копаться. В чем именно, нетрудно было догадаться. И все это с примесью балканского мистическкого реализма.
Отнес листки в секретариат. Через час оттуда позвонили.
– Лоринков, ты псих, хармс бля долбанный, – сказали в трубку. – Тебя бля уволят.
– Но мы это даем. Мы все бля со смеху умираем, – сказали в трубку.
– Ага, – сказал я.
– Ты едешь на пьянку? – спросили там.
– Это единственное в моей жизни, в чем я уверен, – сказал я.
В дверь поскреблись. Я тихонько пошел к ней, глянул в щель и увидел толстую тетку, которая всюду носила свои сраные фельетоны и водила шестнадцатилетнюю дочку, которую буквально подкладывала под газетчиков, лишь бы ее говно напечатали. Она не была писателем, не была журналистом. На кой хер ей это нужно было, я не врубался. До недавних пор. Теперь я начал понимать феномен тех, кто звонит и ходит в газеты, тех, кто беспокоится за «топы» и тому подобную херню. Славы хочется каждой твари. Даже такой дешевой славы, как у газетчиков. А когда слава не приходит, приходит ненависть. От которой даже сросшееся сердце криво срастается. Так я подумал. Впрочем, это уже вранье – я так не думал, потому что это фраза из мультфильма «Десперо», а его сняли десятью годами позже. Так что я ничего не подумал. Я просто увидел, что тетка без дочки, и решил не открывать.
На цыпочках отошел от двери, и вылез из кабинета через окно.
ххх
– Я блядь построю величайшую башню мира.
– Я назову ее в свою честь.
– Я буду стоять величественный и гордый, и мои руки будут обращены к Солнцу.
– Когда Солнце будет садиться, оно будет светить вам с моих ладоней.
– Правая моя рука – Гималайский хребет, а левая – Альпы.
– Сам я велик, как планета.
– Я великий. Я блядь гений. Я великий писатель.
– А вы все блядь ничтожества.
Я остановился перевести дух и хлопнул вина, удивляясь, с чего это я вдруг. Аплодисментов не было. Лица вокруг меня горели ненавистью и алкоголем. Все это сборище 30—летних педиков и неудачников только и делало, что разевало рты в порыве единого бля негодования. А ведь начиналось все очень мило. Мы приехали все в дом какого-то мудака, который чертил планы газетных полос, и с его молодой симпатичной вечно веселой женой – то ли хиппушкой, то ли просто любительницей потрахаться, – и стали пить вино. Расхренячивать пробки и пить. Я, чтобы не мучиться, взял бутылочку и пил из горла. Иногда сплевывал крошки, потому что пробку не вынул, а расковырял, и втолкал пальцем в бутылку. Ну, мне так нравится.
Компания была большая, человек двадцать. Все сплошь старперы под тридцать, говорю же. Все сплошь неудачники. Люди Которые Ищут Себя. Интеллектуалы сраные. Они все сидели и пиздели, пиздели и сидели, – разменивали себя на пиздеж ни о чем, – и каждый из них, должно быть, считал себя Уникальным и Исключительным. Все они готовы были написать Великую Книгу, только вот на следующей неделе руки освободятся, или Фильм Гениальный снять, ну, летом, во время отпуска, но, конечно все руки не доходили. А еще они могли бы сочинить Песню покруче «Вечера тяжелого дня», Мелодию лучше, чем у Моцарта, спроектировать здание прекрасней собора Софии, и нарисовать картину лучше Модильяни, а уж про статую лучше микельанджеловской я не говорю. Они все МОГЛИ БЫ. Но все это был пиздеж. И они сами это знали. И они забалтывали все на свете, даже свой пиздеж.
А я пил и пил, наливался и наливался. Пока вдруг не понял, Зачем я.
– Пить да книги писать, – сказал я, и рассмеялся.
Все стало очень просто. Очень легко. В романах пишут про такое «все стало на свои места». Ладно. Я встал на свое место, и, как всегда бывает с вами, когда вы занимаете Свое место, – солдат в строй, Муромец на землю, бегун – правой толчковой на старт, – почувствовал за собой и в себе всю мощь мира. Величие и мощь. Я схватил бутылку со стола, вдавил ее пальцем и рассмеялся. Хлебнул. Все эти пиздоболы глянули недоуменно на меня. Я сказал:
– Я блядь великий писатель и своими словами я построю величайшую башню мира.
– Я назову ее в свою честь.
– Я буду стоять величественный и гордый, и мои руки будут обращены к Солнцу.
– Когда Солнце будет садиться, оно будет светить вам с моих ладоней.
– Я великий. Я блядь гений. Я великий писатель. Через десять лет у меня будет книг двадцать.
– А вы все блядь ничтожества, никчемные блядь импотенты.
Как это обычно бывает, нашлись сомневающиеся. Пара завистливых педерасток – завистливые всегда остро чувствуют, где есть Сила, – верещали, что де, кто я такой, и что блядь писателем себя великим нужно считать, когда хоть что-то напишешь…
– На-следующей-неделе-когда-руки-дойдут-лет-через-сто, как вы? – спросил я, отчего они зазлобились еще больше.
– Да я ебал вас всех! – сказал я очень убежденно, потому что был убежден в этом, да и на самом деле ебал среди них кое кого.
– Вы все говно и неудачники, а я великий писатель и гений, мать вашу, – бросил я.
– Я завтра же начну писать книги, и это то, чем я должен заниматься, – сказал я.
– Идите все в жопу, – сказал я.
От злобы они с ума посходили. А меня уже несло.
– Я блядь величайший, – говорил я, – и я, и все мои великие женщины мира…
– Я и все мои великие женщины… – сказал я.
– Любую женщину делает великой мое прикосновение… – сказал я.
– Последняя потаскушка, которую я ебал, войдет в историю литературы, – сказал я.
– Я это не просто я, и мои женщины это не просто женщины, – сказал я.
– Это великий я и это все мои великие женщины, – сказал я.
– Я как Мидас, к чему не прикоснусь, все будет литературой, – вдруг понял я.
– Он несет какую-то пьяную хуйню! – взвизгнула кто-то из хиппушек.
– Это стихи, блядь, величественные стихи в прозе, – сказал я.
– Я же великий писатель, и я могу ими говорить, – сказал я.
А потом взял бутылку и пятясь – чтобы сзади не ударили – свалил оттуда. Шел, прихлебывал на ходу, да смеялся. Все было очень правильным, понятным и отчетливым.
С той минуты мир стал таким, каким должен.
ххх
Следующим утром я очень равно проснулся в редакции, – где и ночевал – зная, что у меня два часа минимум. Раньше полудня никто не придет. У кого похмелье, кто тупой молдаван-редактор. Я лежал на столе, и глядел в потолок. Проснулся из-за звонков. Телефон звонил, не умолкая. Звонил, должно быть, вчерашний пидор «ильченко». Мне было все равно. Я заправил листки в машинку, закурил и открыл окно пошире. Был май, но с улицы еще тянуло прохладой. Я глянул на бумагу. Снял трубку, чтобы телефон не звенел. Поставил чайник. Глянул на бумагу. Налил себе кипятка на порошковый кофе. Глянул на бумагу. Если бы я знал, ЧТО меня ждет, то вышел бы, не докурив сигареты и не допив кофе и уехал из города, страны, и мира. Но я просто смотрел на бумагу, а потом, – все еще глядя на нее, – подтянул стул, и уселся. Стал осторожно, – как животное пробует лапой воду, – трогать клавиши. Чувствовал себя непривычно, но в норме.
Я объявил себя писателем. Значит, я и был им. Что же.
Оставалось лишь написать.
В ОЖИДАНИИ ВЛАДИВОСТОКА
Он был инвалидом по прозвищу Васяня-Обрубок и из-за него я потерял все.
Потерпел полный крах. Финансовый, моральный, морально-этический, физический, наконец. Это тем более удивительно, что мы с ним толком так и не переговорили ни разу…
Но по порядку. Вот что я узнал об этом человеке, перед тем, как в спешке покинуть страну. Итак, Вася-Обрубок. Обрубком он и был. Во всех смыслах. Наверняка, скажи ему кто в пору его молодости – году так в 70—м, – что его будут звать Васяня-Обрубок, он бы здорово удивился и разозлился. И навалял бы этому «кто» по башке своими здоровыми кулачищами. Услышь он такое году в 80—м, он бы тоже разозлился, но был бы куда менее опасен, потому что уже пил. Наконец, услышь он это в 90—м, то и с места бы не поднялся, потому что пил к тому времени лет пятнадцать.
Василий пережил классическую историю падения кишиневского интеллигента.
Квартира в новострое для молодых ученых, дачка в десяти километрах от города, пластиночка Окуджавы, сборник «Туристическая песня» на полке между не читанным Апдайком ( «Кролик беги», «Ферма», «Кентавр» – обычный советский сборник) и почти прочитанным, – потому что там было про трах, – Амаду ( «Донна Флор», «Капитаны песка») , отдых на Черном море раз в год и на Днестре – два раза в году. Ближе к пику карьеры – еще одна квартира в кооперативе, из-за которой им с женой пришлось отказаться от отдыха на три года, машина «Жигули», и две дачи. А когда Вася, – бывший в местном строительном тресте звездой национального масштаба, – выполнил кое какую халтурку для проектного института в Москве, и купил катер (катер!) , на котором катался иногда по Днестру, все поняли, – жизнь у него удалась.
В этот-то момент струна и лопнула.
Василий начал пить. Пили-то в Молдавии все, но Василий начал не пить, а ПИТЬ. Все больше, все чаще, сначала у костра и с бардами, потом просто с бардами, затем у костра, наконец, он просто пил. Первым был пропит катер, потом кооператив, затем дача… Спохватившаяся жена, отсудив себе оставшуюся квартиру и дачу, выкинула Василия на улицу.
Там он и замерз ночью настолько, что обморозил себе конечности.
И, чтобы спасти бомжа, – а Василий к тому времени стал бомжем, – ему отрезали руки по локоть, и ноги по пах.
Вася не пал духом. Сбежав из дома престарелых, где он и ему подобные умирали в пустых коридорах, в лужах своей мочи и в горах своего говна, он стал прудить и срать на улице. Что же. По крайней мере, на улицах хоть иногда убирали. Правда, все реже. Шел 1991 год. Молдавия стояла, как заброшенный город в джунглях: прекрасный, каменный, но оставленный людьми, он постепенно порастал буйными лианами, и по нему носились толпы обезумевших мартышек. Мартышки срали на улицах, били стекла, мазали говном статуи и соборы. Еще мартышки иногда срали в унитаз, но исключительно, чтобы позабавиться. Мартышка может срать в унитаз, и даже разок-другой смыть за собой – ну, подражая людям, – но пользоваться канализацией на постоянной основе она не станет. В общем, как вы понимаете, брошенный каменный город в джунглях – Молдавию – активно загаживали. И я всегда это говорил.
Наташа, впрочем, говорила, что это у меня обычная мизантропия среднего возраста.
Ну, еще бы, говорил я. Заработаешь тут мизантропию, если твоя подружка забыла все на свете, и готова говно убирать из-под задницы какого-то обрубленного бомжа.
Ты отвратителен в своей мизантропии, говорила она, и уходила из комнаты.
А я оставался в ней, глядя в окно на мартышек, скачущих по улицам цветущего, некогда, города белых людей.
Последний римлянин в брошенной империей Галлии.
Вот как я себя ощущал.
Неизвестно, правда, был ли он, этот римлянин, и была ли у него жена, и, если на то пошло, жил ли у ворот его дома человек без ног и рук.
И звали ли его Васяня-Обрубок.
ххх
По счастливому для него и несчастливому для меня стечению обстоятельств, Васяня, в ходе своих бесцельных с виду – а на деле очень осмысленных, как у муравья, ведомого неизвестным ему самому компасом, – скитаний по городу прибился, наконец, к моим воротам. Небольшого частного домишки, недалеко от Армянского кладбища. Место было стратегически выгодное. Дорога, но пешеходная, на кладбище можно чего-то украсть или выпросить, да и просто переночевать в открытом склепе. Наконец, самое важное.
Человек, к воротам которого прибился Васяня, был тюфяк.
То есть, это я был тюфяк. И Васяня, своим звериным чутьем человек, живущего на улице – таким еще обладают бродячие собаки, – почуял мою слабину. И начал жить у наших ворот. Притащил к ним обоссанный матрац – он тащил его в зубах, неуклюже переваливаясь с обрубка на обрубок, Маресьев хренов, – и стал на нем спать. Двигался Вася с трудом, кряхтел, сопел, ныл, так что я разжалобился. Как-то вынес ему плащ палатку и пару теплых вещей.
– Это ты зачем? – спросил меня Наташа
– Понимаешь, – сказал я, – я вот думаю…
– Что ты думаешь? – спросила она.
– Ну, – боялся я показаться странным.
– Валяй, – разрешила она мне.
– Мне кажется, – сказал я испуганным голосом, – а вдруг это…
– Что? – спросила она.
– Сам Иисус Христос… – прошептал я.
– Кто ты и кто Иисус, – сказала она, смеясь.
Она поглядела на меня с удивлением. Пришлось объяснять.
– Ну, как в притчах этих сраных, – объяснил я, нервничая, – когда к тебе домой приходит нищий в гнойных язвах и просит глотка воды, а ты шлешь его на хер и..
– И?
– … и оказывается, что это сам Иисус приходил проверять твою доброту.
– Я не знала, что ты настолько верующий, – подняла она брови.
– Да я, в общем, не очень верующий, – запутался в объяснениях я.
– Ясно, – сказала она, – ты просто думаешь, что это своего рода послание судьбы, и боишься оплошать перед ней.
– Во-во, – сказал я, и закурил.
– Господи, милый, – сказала она.
– Бог это не ревизор, а ты не проворовавшийся бухгалтер, – сказала она.
– Кто ты и кто я… – сказал я задумчиво.
– Если мы не знаем этого, зачем нам пытаться узнать что-то еще, – сказал я.
Пожал плечами, и вечером вынес Васяня-Обрубку поесть. Он поскулил о том, как ему тяжело дается этот простой, в общем, процесс, и мне пришлось, присев на корточки, перелить ему в жадную пасть всю тарелку супа. Потом, чтобы совсем уж не растрогаться, я убежал в дом, пожелав бомжу спокойной ночи.
Постепенно это – кормить бомжа – вошло у меня в привычку.
Наташа только пожимала плечами. Но отнеслась к этой моей причуде терпеливо. Она у меня была большой молодец. Моложе на десять лет, грудь не очень большая, зато ляжки… Ляжки у нее были чемпионы. Ляжки-Чемпионы. Она это знала и специально разбрасывала их по сторонам от себя на подоконнике той редакции, где работал я и куда она приходила на практику. Наташа увлекалась панком, роком, хиппи, и всей прочей херней, благодаря которой девушки начинают трахаться в тринадцать, сосать в двенадцать, и «успокаиваться» в двадцать. Примерно так вышло и у Наташи – замуж за меня она вышла к двадцати. Бросила плести фенечки и мечту работать в Москве, – почему-то именно в «Нью Таймс», – выучилась на переводчика, и стала порядочной девушкой. Она была ужасно независимой и отказывалась от работы, если до нее было «чересчур далеко ехать». Это в городе, который можно пешком за час пройти, твою мать, Наталья, хотел сказать я ей. Но молчал. Потому что содержала нас она. Меня, как расово неполноценного, уволили из газеты, так что я сидел дома. А Наташа – ну так недаром у нее фамилия была молдавская, Марар, – преуспевала. А я сидел дома, да. Готовил есть, да трахал ее каждую ночь, чтобы не сбежала к кому помоложе. Да постоянно говорил ей о том, как хорошо было бы нам куда-нибудь уехать.
Белозубая молдаванка Наташа только посмеивалась и говорила, что я драматизирую.
– У этой страны есть будущее! – говорила она.
По мне так, это у нее было возрастное. Когда тебе двадцать, у всего в этом мире долбанном есть будущее. Потом все проходит. Будущее мира исчезает и лопается вместе с пузырями твоей личной надежды. А они лопаются с возрастом – истончаются, как стенки сосудов у старика. Кстати, меня совершенно не беспокоило то, что я нахожусь на содержании у жены. Мне было на это наплевать. Я сидел у себя в доме, доставшемся по наследству от уехавшей в Румынию матери и уехавшего в Россию отца, и глядел, как прекрасный некогда каменный город зарастает сорняками.
И где-то под моими воротами беспокойно ворочался Вася-Обрубок.
ххх
Перебрался он к нам в октябре. О том, что это случится, я знал уже в июле. Но продолжал оцепенело ждать, что же произойдет. Само собой, произошло все так, как и должно было. Наступила осень и похолодало. Чуда не случилось. По утрам на асфальте видны были заморозки, и под моими воротами замерзал человек. Поэтому, когда я пришел к Наташе и спросил, не можем ли мы пустить этого бездомного хотя бы на ночь, в прихожую, она тоже не удивилась. Хотя не очень обрадовалась. Еще бы.
Все бывшие хиппи ужасно жестокие и черствые люди.
Не потому, что они плохие, вовсе нет. Мне просто кажется, что они исчерпывают весь свой запас доброты их сраной в юности. Ну, когда они ездят за отсос по миру на чужих автомобилях, ебутся с поставщиками травки, чтобы сэкономить деньги, и плетут свои сраные грязные никому на хуй не нужные фенечки. Но Наташа, кроме того, что была бывшей хиппи, и журналисткой – да-да! – была еще и моей женой. Так что она разрешила мне пускать Вася-Обрубка в прихожую на ночь. Она ведь, помимо переводов, занималась и семейной психологией.
– Твоя помощь этому несчастному поможет тебе отвлечься от собственной депрессии, – сказала она.
– О кей, – сказал я.
Завалил ее на кровать, она обхватила меня своими длинными крепкими ногами, и я ей вдул. Спустил прямо в нее – она у меня была молодая и продвинутая, всегда заботилась обо всем сама, – и вышел покурить за ворота. А там как раз лежал Васяня.
Тогда-то я с ним в первый раз и поговорил.
– Мы можем пускать вас на ночь, – сказал я ему.
– Ох спасибо добрый человек, – обычной бомжовской скороговоркой затараторил он.
– Право, не за что, – мне в то время доставляло особое удовольствие говорить на правильном русском языке.
ЯКОБЫ правильном, конечно. Том самом, на котором будут разговаривать актеры в кино «АдмиралЪ». Но я про такое тогда даже и не задумывался.
Так Вася-Обрубок перебрался к нам поближе. И уже на пятый день мы установили с ним нечто вроде эмоционального контакта.
– Мил человек, – сказал Вася-Обрубок, – ты энто не поможешь ли?
– К вашим услугам, – сказал я.
– Мне б поссать, – сказал он.
– О, – сказал я.
– Дык, – сказал он.
Мы помолчали.
– Мне б поссать, – повторил он.
– А как вы решали эту проблему раньше? – спросил я.
– Чо, – сказал он.
– Как раньше ссал? – спросил я.
– Под себя, – честно сказал он.
Я подумал. Потом, представляя себя пленным немецким офицером, который чистит подвалы Сталинграда от трупов, надел на руки резиновые перчатки, и поднес под Васяню ведро. А может так надо, думал я.
– Ну, ебтыть, – сказал он.
– Чо, – сказал я.
– Направить бы, – сказал он.
– Блядь, – сказал я.
– А то же, – обрадовался он более приемлемому в отношениях двух джентльменов тону и выражению.
Пришлось подержать. Минуты через две – Василий волновался и поэтому никак не мог расслабиться, – в ведерко хлынуло. Напрудив не меньше коня, Василий меня поблагодарил и попросил застегнуть ему штаны. Что я и сделал. И впервые увидел Васин хер. Это было нечто феерическое. Огромный и грязный. Что-то было в нем… Что-то угрожающее… Нет, в некотором-то смысле я смотрел спокойно. Меня, как и любого другого мужчину, беспокоила даже теоретическая вероятность склонности к гомосексуализму. Так что я, женившись на журналистке и психологе, первым делом велел проверить себя на этот счет. Оказалось, я набрал сто из ста. Гетеросексуал – гетеросексуальнее не бывает. Так что взглянуть на его хер я мог спокойно. Но как эстет – беспокоился. Было что-то грозное в этой штуке. Что-то от сомкнутой цепи белогвардейцев было в ней, что-то от неумолимой поступи фаланги… Меня передернуло.






