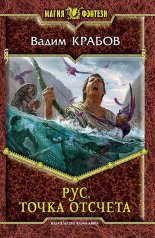Дознаватель Хемлин Маргарита
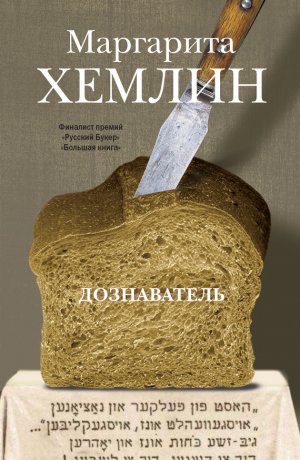
Потом одобрила:
— Як же, помянуть треба. Надо помянуть. А то вскочит и вернется. А ему все равно не жить. Мучить всех будет. Детей пугать. Надо, надо на помин. И остатки на могилку полить.
Мы закрылись в завхозовской каморке — в большом здании бывшей синагоги перегородки закутка не доходили до высоченного потолка. Полки завалены барахлом. Все как положено.
Конторский стол чистый. Файда расположил на нем бутылки, достал стаканы.
Бутылку протянул мне.
Я не раз замечал, как люди умеют изменять свой внешний и внутренний вид за секунды. Не специально. Специально как раз сразу можно различить умысел. Когда специально, получается напряжение. Человек весь подбирается, держит себя в придуманном узле, следит за всеми своими частями. А уследить нельзя. Потому что уже есть у него и тело, и голос, и манеры. А если без умысла, под воздействием глубокой потребности — тогда можно человека враз и не узнать. Он — и не он.
Файда передо мной был не Файда. Раньше он стоял трохи пониже, жил передо мной вроде снизу наверх и так далее. Теперь наоборот. Смотрел сверху вниз.
Я присел на табуретку. Выбил пробку. Нарочно повозился. Пускай немножко успокоится. Лишние нервы ни к чему.
Когда разливал вино, сделал вид, что рука дрогнула.
Файда заметил. Но ничего не сказал.
— Видите, Мирон Шаевич, рука дрожит. А вы меня в бесчувствии обвиняете. Обвиняете. Не спорьте. Вам напоказ выпить охота, а вы ж не пьющий. Меня напоить думаете. А я не пьянею. Тем более вино. А вот вы пить будете. И сильно будете. Вам надо. Надо?
Файда сказал, что надо.
Быстро выпил полстакана.
Я только пригубил.
— Ну, Мирон Шаевич, начинайте доклад. С до войны начинайте. С Евки. И учитывайте. Сейчас ваша смелость пройдет. На полуслове пройдет. И вам станет стыдно, что вы передо мной выступаете. Вы на меня от ненависти смотреть не сможете. Ну так в другую сторону и глядите. Главное: рассказывайте. Я вас за язык не тянул. Я к вам со всей душой.
Файда выпил еще.
Уперся кулаками в стол, вроде на собрании, наклонился вперед. Для разгона.
В общих чертах его рассказ совпадал с Евкиным.
Забрать ребенка у Евки придумала не Сима. Правда, грозилась прижать Мирона по партийной линии. Моральное разложение и далее по списку. Мирон не сразу испугался — хорохорился. Отвечал на все угрозы жены, что из семьи уйдет по направлению к Еве и будущему ребеночку. И партия его сильно не осудит, потому что Сима бесплодная, а Евка родит еще одного советского человека. И что стране польза. А от Симы — пользы нету. Отвечал, в общем, ей с тех же партийных позиций, на которые она его сама и толкала.
Сима притихла.
Но однажды к Мирону по месту работы пожаловала Лилия Воробейчик. Он их с Евкой, конечно, различал. Но в первую секунду испугался, потому что не обнаружил живота. До такой степени Евка ежесекундно сидела у него в печенках. Думал только про нее и ее живот.
Лилька сообразила, почему Мирон испугался до побеления. Засмеялась. Сказала: «Вот, Мирон Шаевич. Видите, как хорошо. Вроде и Евка. А без живота. Как ничего и не было. Пойдемте прогуляемся. Я к обеду зашла. Чтоб ваше рабочее время не занимать ерундой. Пирожков привезла. Домашние. Мы с Евкой пекли. Покушаем на скамеечке где-нибудь. Пошли, Мирон Шаевич».
И так посмотрела, что Мирон понял: будет решительный момент в его жизни. И придет этот момент от Лилии.
На скамеечке в сквере Лилька ему изложила план. Если он бросит жену, хорошо не станет. С Евкой ему все равно не жить. Евка из сомнительной семьи. Лилька ему предложила: «Хотите, так устрою, что ваш с Евкой ребенок будет у вас с Симой?» Мирон не понял сути. Лилька разъяснила: Евка рожает и добровольно отдает ребеночка Симе и Мирону. И все. Все понятно. Был живот — и нету живота. Чтоб живот исчез — это главное. Распространят слух, что Евка скинула. Люди поговорят — и забудут. А у Мирона с Симой останется ребенок. И Евка опять свободна до новых встреч.
Мирон спросил, согласна ли сама Евка. Лилька заверила, что с сестрой уладит. Мирон попросил пару дней на размышление. Лилька ответила, что надо сию минуту. Пока она доест пирожки. И ела пирожки в количестве пяти штук один за другим. Ела и смотрела в глаза Мирону. Ела и дышала на него куриными потрохами с луком и шкварками. Когда она потянулась в кулек за очередным, Мирон согласился.
Лилька дала ему пирожок. Руки себе вытерла травой. И сказала: «Вы Симе ничего не говорите. Вы в стороне. И покушайте обязательно. Чаем запейте. А то в горле застрянет. Горло у вас ходуном ходит. Подавиться можно».
Как, что дальше — Мирон не знает.
Евку он до самого переезда в Остер после того, как его турнули с должности с понижением, не видел. А Сунька — вот. Вырос у них. Родной сын. Сима в нем уверена как мать. И он как отец уверен и жизнь за него отдаст, если, конечно, потребуется.
Нового для меня оказалось только, что сюда свою голову сунула Лилия Воробейчик. И ее роль на данный момент и на данные обстоятельства меня мало интересовала. Хоть предстояло еще осмысление.
Меня важнее интересовало другое.
Разбег у Мирона кончился. Но я чувствовал, что он меня еще не ненавидит. Не разозлился он еще на меня до безумия. Не выложит последнюю правду. А что последняя есть — я не сомневался. Если б ее не было — он бы так легко предпоследнюю не выложил. Про Суньку — это только предпоследняя.
И я приговорил:
— Это я и без вашего рассказа знаю. Вы пейте, пейте потихоньку, Мирон Шаевич. А что Лаевская у вас в доме по милицейским карманам шныряля, вы в курсе?
И тут не то что разбег, а сердце у Мирона кончилось. Тут он меня в порошок бы и стер. Именно тут. На Лаевской. А когда человек другого стереть не имеет возможности, он себя стирает. В пыль стирает. Себе же и назло. Чтоб силу свою выпустить. А то разорвется. Лопнет.
— А, Полина… От нее моя Симка всю жизнь терпит. И я терплю. Родственница. Она мне девок Воробейчиков подсунула. Чтоб я спасал. Она знала, что Сима бесплодная. Сима всех врачей замучила. Толку нема. Полина перед ней вихлялась — у нее трое детей было. Одна другой лучше. И умные, и красивые. Высшей марки. Сима ночами плакала: зачем Полинка ей глаза колет своими детьми. Поплачет, поплачет — и на меня лезет. Вдруг у нас получится. У нас не жизнь была, а пытка. Каждую ночь мне пытка была. Сначала нервы, потом это самое. И что? И ничего. На меня такая усталость прилепилась, что я ничего не мог. Так и сказал Симе: «Ты бесплодная, и я теперь без сил. Давай помиримся на этом месте. Живут люди без детей. И мы будем». Я, между прочим, еще молодой был. У меня кровь играла. А на Симку гляну — и вся игра к черту летит. Симка к Полинке. Чтоб мне или врача устроила для совета, или бабку какую-нибудь нашла. Полинка ей говорит:
«Тут не врач нужен, а молодая красивая девка. Я устрою». Ну, подсунула мне. А я на ответственном посту, как опора нуждающимся. С Евой закрутилось. Я считаю, Полина заранее рассчитала. И Лильку подключила.
Я кивал и не пил.
Мирону подливал.
Файда отхлебнет, подышит в глубину и опять заводится, как «студебеккер» от рукоятки. Он и руками такие движения проводил, вроде рукоятку заводит. И не сел ни разу. Я ему табуретку под колени — он отшвырнет пяткой. И дальше.
— Мирон Шаевич, вы про свои нижние потребности перестаньте. Противно слушать. Вы мне про Полину. Знали, что она по моим карманам лазила? У вас же в доме?
— Знал. В комнату зашел, когда она хотела мешок развязать. У нее не получалось. Попросила меня. В окно выглядывала, чтоб вас не пропустить. Я не смог. Она в карман кителя полезла. Лично. Что-то достала и в лифчик себе засунула. Я ей, конечно, сказал, что не надо. Тем более из кителя. Из мешка еще так-сяк, а из кителя с погонами… Она шикнула и смылась. Что взяла? Важный документ?
— Ерунду. Пшик она взяла. А вас повязала. Сообщник вы. Все вы сообщники.
Мирон присел на край табуретки. Не придвигал к столу. Помнил, что она дальше стоит, что оттолкнул он ее. Оттолкнул вроде в сердцах. А запомнил. Сел, не промахнулся.
— То есть как? По какому делу я ей сообщник?
— Это тайна следствия — по какому. Вы мне расскажите. Без баб своих. Без детей. Зачем Лаевская к вам приезжала? Чего она вообще моталась туда-сюда?
Мирон сидел тихо. С отвращением смотрел на стакан. На бутылку почти пустую.
Я спросил:
— Вторую начинать?
Он отрицательно заявил, что видеть не может больше эту гадость. Чтоб я под стол убрал. А то на душе тошнит.
Я не убрал. Вылил себе в стакан остаток из первой, долил из второй до краев.
Поднял стакан и провозгласил:
— Давайте выпьем, Мирон Шаевич, чтоб вы и ваша семья оказались ни при чем. А заодно за помин души Довида. Или лучше сначала за помин Довида, а потом, отдельно, за то, чтоб вы сухими из воды вышли. Смешивать не надо. Точно? Не надо смешивать? Вам — жить, а Довиду в земле лежать.
Я выпил залпом. И снова налил себе.
— Вот это уже за вас и вашу семью. За Суню, Симу, за вас лично. Надо чокнуться. Вы за Довида не выпили. А за своих живых выпейте.
Я налил полный стакан Мирону и твердо поставил перед ним.
Он не чокнулся, не посмотрел на меня, выпил.
— Ладно. Будем считать, что вы с повинной явились, Мирон Шаевич. Говорите.
Мирон вскочил и выбежал из каморки. Я слышал, как он грюкал по каменным плитам. До улицы не добежал. Вывернуло его еще в помещении. Понятно по звукам.
Я сидел и ждал. Думал, умоется, вернется назад.
Пять минут ждал, десять.
Вышел на стон Мирона. Он лежал почти на пороге, на камнях. И так хорошо лежал, голова немного на возвышении. А то б захлебнулся.
Я позвал кого-нибудь. Подошла баба-уборщица. Поохала, поохала.
Сказала:
— Горе у него. Приберу. Пускай на холодке полежит. Очухается. Тут камни всегда холоднючие. В чувство приведут бедного. А вы милиционер с Чернигова?
— Да. Мы Довида поминали.
Она кивнула, что-то пробормотала по-еврейски.
На улице было светло. От сумрачности в каморке глаза устали. Теперь я смотрел новым взглядом. И делал план.
Еще до ночи — раскалываю Мирона на пару с Симой. Вместе посажу и буду колоть.
Потом — в Рябину. Наведу порядок с Любой.
Потом — в Чернигов к Лаевской.
Судьбу Гришки и Вовки я решил. Забираю.
Шел по направлению к дому Довида. Ключи находились у меня — забрал у Мирона, как только восстал от болезни. Мирон отдал без особого желания. Он, наверно, считал этот дом уже своим. Если б хлопцы остались у него — так и дом у него тоже.
Когда я забирал ключи, Гришка с Вовкой еще не оформились у меня в мозгу. Но теперь они точно мои. И дом тоже мой. Когда вырастут — получат и распорядятся втроем с Ёськой. По закону.
В пустом доме обошел все углы. У Зуселя перевернул тряпки на топчане. Обсмотрел под и над. Ничего. Ни листочка из религиозных книжек, ни еврейских причиндалов. Если б Зусель все с собой утащил — ему б тележка понадобилась или чемодан большой. А он и сам на ногах своих стоял сомнительно.
Обстукал половицы, стены в комнатах и в сенях.
Спустился в погреб. В темноте зажег свечку — там же на приступочке нашел вместе со спичками.
Пустота. Собрался вылазить, но споткнулся о поломанный ящик — гвоздем распорол брючину. Со зла толкнул ящик ногой. Верхняя планка треснула, и нога попала как в капкан. Дергал и так, и так. Не получалось освободиться.
Свечка погасла.
Волоком дошкандыбал до лестницы — сверху падал свет. Высвободил ногу и руками понял, что к боковой стенке ящика изнутри прикреплена торбочка. Скорей, кисет. С твердым. Но не куском. В кисете на ощупь перекатывалось отдельное друг от друга. Также тугая трубочка, плотная, небольшой длины.
Наверху я развязал. Узел был мой. Потому и развязал. Иначе б долго возился. Или скорей всего разрезал.
Узел-то мой. Только с отклонениями. С отсебятиной. Но, видно, старался человек. Завязывал терпеливо. В местах связки широкая тесемка разглажена. Вроде бант расправляли. Снова вспомнил Евсея. Он даже шнурки на ботинках таким узлом вязал. Постоянно совершенствовал скорость.
Внутри находилось следующее: коронки золотые — четыре штуки, обручальные кольца — семь штук; царские золотые червонцы — пять штук; брошка желтого металла, предположительно золото, цветком с камешками синего цвета — одна; булавка длинная с заверткой в форме бутона розочки серого металла — предположительно серебряная с чернью — одна. А также советские денежные знаки бумажные, скатанные и перетянутые резинкой от лекарства. Денег две тысячи разными мелкими купюрами.
Я сложил все обратно внутрь. Но не завязал крепко, а абы как.
Побежал к Мирону.
Мирон сидел за столом.
Сима поила его куриным бульоном. На меня зыркнула с осуждением.
Я не отреагировал. Шваркнул развязанный кисет на стол. Высыпалось внутреннее богатство. И червонцы, и коронки, и кольца, и брошка, и булавка, и гроши трубочкой.
Сима ахнула. Уронила черпак в супницу. Брызги на все стороны.
Мирон только глазами повел. И то — не на золото, а на меня.
Я сказал:
— Граждане, будете сейчас понятыми. Пересчитаем, оформим.
Файда потянулся через блестящую горку к хлебнице, заграбастал сразу несколько кусков, положил возле чашки. Стал крошить хлеб в бульон. Крошит и крошит. Крошит и крошит.
Говорю:
— Вы, гражданин Файда, так понимаю, не в первый раз видите содержимое данного кисета. Оно вам даже кушать не мешает.
— Не мешает. Я на это содержимое столько смотрел, что и не мешает. И вы садитесь, Михаил Иванович, покушаем. Успеется. Все успеется теперь.
Меня не удивило спокойствие Мирона. Это спокойствие входило в мои планы. В синагоге я чувствовал: будет последняя капля, после которой он успокоится и расколется. Но что это за капля такая образуется, мне было неизвестно. Я и обыск устроил без ясной цели. Оказалось — вот последнюю капельку и принес. Прямо на стол.
Мирон смотрел на меня без зла. Зло уже не нужно было ни мне, ни ему. Он смотрел с освобождением. И я понял, что давить не придется.
— Симочка, и мне бульончика налейте. Я туда тоже хлебца покрошу, как Мирон Шаевич. И сами садитесь коло нас. А то у вас и руки, и ноги трусятся, и все на свете.
Сима дрожащими руками протянула мне полную чашку.
Сама есть не стала.
Мы с Мироном пили бульон, потом ложками выгребали размокший хлеб — не наперегонки, а наоборот. Каждый старался медленней.
Наконец Мирон не выдержал.
— Сима. Иди отсюда. Куда-нибудь подальше иди. К хлопцам на луг. С ними поиграй. Сунька там?
Сима ответила, что уходил с хлопцами, а там они сейчас или нет, ей неизвестно.
Мирон приказал выяснить и ждать дальнейших распоряжений на том месте, где дети.
Сима спросила:
— Я не знаю, где их найду. Может, на речке, или на Волчьей горе. Какие твои распоряжения мне ждать, если ты не знаешь, где нас с ними обнаружить?
— Иди, Сима. Иди подальше. — Мирон встал, погладил жену по спине и подтолкнул к двери. — Иди. Я найду. Вы шуметь будете, вы тихо не умеете. Вот я по голосам и найду.
Сима пошла.
Мирон сел.
— Вы ж, Михаил Иванович, уже пересчитали. Не ломайте комедию. Понятые-шмонятые. Мы с вами и есть понятые. Других не надо. Если хотите знать, я рад, что вы кисет нашли. Он мне поперек горла висел. Где нашли?
— В погребе у Довида. Умеющий человек прятал. Не говорите мне кто. Сам знаю. Евсей прятал. Точно?
— Точно.
— Кто знал, что схованка в погребе?
— Я и Евсей.
— Как? А Зусель не знал? А Довид не знал? А Малка? Про какие гроши они талдычили?
— Про другие, наверно.
— Почему Евсей у вас не спрятал?
— У меня не спрятал, потому что у меня Сима умная. И погреб она содержит в порядке. И варенье там держит. И другое полезное. А эту гадость я в свой погреб не пустил. Мне гидко, чтоб в моем родном погребе, где моя еда располагается, которую мои родные сын и жена кушают, в том числе и я сам, находилось вот это вот я не знаю что.
Мирон говорил хоть повышенно, но без нервов. Нервы он выпустил раньше, в каморке. Вместе с блевотиной своей пьяной. Которую я видел своими глазами. И он знал, что я видел и наблюдал.
Теперь он был мой.
— Ну, Мирон Шаевич, рассказывайте.
Показания Мирона сводились к следующему.
Евсей явился в Остер вместе с Лаевской. Остановились у Файды. Лаевская показала Мирону кисет и распорядилась в приказном тоне, что надо спрятать. Но так, чтоб быстро достать в случае необходимости. Евсей был в форме, показал удостоверение личности.
Евсей посоветовал сделать схованку где-то в доме, чтоб под неусыпным контролем. Мирон отказался наотрез. В качестве выбора предложил дом Евки Воробейчик. Дом тогда стоял заколоченный, Евка перебралась в Чернигов. Так и сделали.
Евсей сам все устроил. Ходил самостоятельно ночью под прикрытием темноты. Дверь там держалась на честном слове, и Евсей проник фактически беспрепятственно. О чем весело рассказал впоследствии. Место описал Мирону точно и предупредил, чтоб развязывать не пытался. Потом не завяжет как было. Если понадобится — Мирону дадут знать, и он доставит кисет куда надо.
Утром он и Лаевская уехали в Чернигов. Перед отъездом гостей Мирон не выдержал и спросил, кто может распорядиться, чтоб кисет отдали, как он определит, что это не провокация. Кроме Лаевской и Евсея, конечно. Лаевская ответила, что если не она и не Евсей, так никому никогда и не отдавать. А точно сказала так: «Кто когда-нибудь найдет, того и будет».
Потому, когда в Остре стало известно про смерть Евсея, а Довид с хлопцами объявился тут на жительство, Мирон заволновался и первым делом связался с Лаевской на предмет дальнейшего. Полина успокоила советом не думать про что не надо.
Вскоре Довид с Зуселем, Малкой и хлопцами заселился в хату. Это когда Евка окончательно перебралась в Чернигов. Считалось, что дом Довид купил. Мирон стал часто к ним ходить. С одной стороны, по совести, а с другой — от постоянного беспокойства за ценности в погребе. Ввиду неминуемой зимы он высказал предположение Довиду, что хорошо б запастись картошкой и другими овощами. Жалко, что погреб у Воробейчиков всегда славился сыростью и протеканием. Вызвался оказать содействие по этому поводу.
Спускаться и обследовать Довид и Малка отказались, так как лестница на вид была гнилая. Что правда. К тому же Евсей перебил несколько поперечин для отвода глаз.
Мирон возился в погребе показательно, а когда вылез, сделал заключение, что надо забыть про это горе. Весь дом стоит на честном слове, а погреб — первая угроза. Там подпорка на подпорке, и все гнилое. Лучше забить крышку. От хлопцев. Чтоб не лазили. Довид сам забил огромным гвоздем. Овощи решили запасать в яме на дворе. А также Мирон обещал предоставить свое помещение без ограничения.
Между прочим, я никакого забитого гвоздя не обнаружил. Откинул крышку и залез.
Потому уточнил:
— Кто гвоздь выдернул? Не вы? Я тут валялся без памяти, Довид в больнице. Больше некому.
Мирон заверил, что не он. Что он не то что на гвоздь, а вообще в сторону погреба и не смотрел даже в страшном сне. И спросил:
— Верите?
Я ответил:
— Верю. Теперь вот что я вам окончательно скажу. Ваша роль мне ясная. Роль нехорошая. Вы Лаевскую боитесь. Ваше поведение с Евкой неблаговидное. Да, Лаевская вас к девке толкнула. Но дальнейшее — на вашей личной совести. Не буду вас пугать, что Суньке расскажу. Сунька взрослый. Он понимает: не та мать, что родила, а та, что воспитала. Хоть с него портрет Евкин рисуй. Считаю, догадается хлопец самостоятельно. Или кто-то подскажет невзначай. Но Сунька вам именно поведения вашего и не простит. А я ему про поведение и расскажу. Если понадобится. Мать матерью, а поведение поведением. С Вовкой и Гришкой вам понятно. Я их забираю. Симе передавайте привет и благодарность. Я сию минуту уезжаю. Ждать-прощаться не буду. Хлопцам скажите, что скоро вернусь за ними. Кисет у вас пока. Хоть под подушку засуньте, хоть куда. Спрошу с вас.
Мирон выслушал мой приговор обреченно. Но я знал, что в голове у него другое: в голове у него своя правота. И с этой правоты я его не свернул.
Сейчас у него в голове радость. И радость эта от того, что он мне не все выложил. С-под ногтей своих не все. Но мне надо было оставить ему хоть что-то. Чтоб он меня не до смерти ненавидел. Не до смерти.
Брехня про то, что Довид был не в курсе, — меня не обманула. Довид, конечно, про кисет знал. Такой хозяин, как Басин, — чужого человека в свой погреб запустит и доверит выносить заключение: пригодно там картошку держать или нет?
Нет. Довид находился в курсе. Но почему Мирон мертвого выгораживает? Наоборот, свалил бы на Довида и кисет, и все.
В голове у меня сложился ответ.
Когда Довид переселился в Евкин дом, Лаевская распорядилась, чтоб ценности Довид принял под себя и у себя спрятал. А чтоб он спрятал и не посмотрел, что внутри и сколько, — недопустимо. Он смотрел. Тайно от Лаевской. А узел ему кто завязывал? Пацан? Гришка? Если Гришка, так кисет мог и после Евсеевой смерти к Довиду попасть. И россказни Мирона про то, что Евсей с Лаевской заодно приезжали, копейки выеденной не стоят.
Тогда от рассказа Файды не оставалось ничего. А так не бывает. Человек если дает неправдивые показания, обязательно какую-то правду использует. Опирается хоть на что. Чтоб не запутаться окончательно.
Начал размышлять сначала.
Для надежности присел на траву — на обочине Киевского шляха — в ожидании попутки время зря не терялось.
Какая мне разница, как золото оказалось у Довида буквально?
Разница именно в том, была ли Лаевская в это замешана.
Мирон утверждает, что была.
Главное, безоговорочное и ясное — первоначально узел делал Евсей. Значит, Евсей и привез кисет. Мирон ему чужой. А Лаевской не чужой. Евсей бы к чужому с таким грузом не заявился. А Лаевская к родному, да еще и зависимому по всем швам, явилась с уверенностью, что все приказанное исполнит. Мирон Евсея не знал. Придумать его образ со слов Лаевской — зачем путаться лишнее?
Нет.
Тут и содержалась капелька правды, на которую Мирон опирался всем телом.
Кисет привезли Лаевская с Евсеем. Потом Мирон отдал его Довиду.
Это мне свидетельствует про что?
Это мне свидетельствует про то, что Евсей был с Лаевской в чем-то крепко заодно. И до того крепко, что потом застрелился, оставил своих троих детей и любимую жену на произвол.
Гроши, которые Зусель в Чернигов тащил и где-то потерял или еще что, — отдельная история. Может, они и не с кисета. Они — посторонние.
И может, Гришка про эти именно гроши и имел в виду.
Я даже не размышлял, а внутренне ползал и ползал вокруг кисета с золотом и бумажками в виде денег — про которые, кстати, Мирон ничего отдельно не сказал и даже вроде не заметил их особо, — аж до кружения во всем теле — с головы до пяток, с пяток до головы, и врастал в землю, вдавливался. А гора надо мной высилась и высилась. Высилась и высилась. Высотка, которую надо было взять. Несмотря на жертвы. Назло врагу.
В Рябину вошел ночью.
Вслед мне брехали собаки. И сам я себе показался собакой.
Бегаю, бегаю, как за своим хвостом гоняюсь. И нюх у меня вроде заварен: сильно горячим накормили. Или сам хватанул.
Сколько раз делал план. И каждый раз план срывался или отодвигался. И отодвигала его пухлыми руками Лаевская. Отодвигала и отодвигала. И не в определенную сторону, а так — вроде тарелку с невкусной едой.
Потому что она — Лаевская Полина Львовна — сытая по горло. Ей не к спеху.
А я — голодный. Мне срочно.
И ни разу за все время пути не вспомнил про исчезнувшего Зуселя. Про гроши, что у него якобы присутствовали, — сто раз. А про него как такового — ни разу.
В хату к Диденко не стучал.
Завалился спать прямо в саду под вишней. Ряднинка там валялась. Сухая трава в изголовье — наверно, старик дремал днем. Я на его место и пристроился.
Подумал с радостью: повезло. Никаких слов объяснять не нужно. Никого будить не пришлось.
Встал до петухов. Тихонько стукнул в окно.
Выглянула Любочка. Открыла дверь. Мы обнялись крепко-крепко.
Я шепнул, чтоб она пошла за мной.
Люба спросила на ходу:
— Что случилось? Ты надолго?
Повернулся к ней всем телом:
— Ничего не случилось. Сегодня мы с детьми уезжаем. Садись, надо важное тебе сказать — и пакуй вещи. Садись, садись.
Любочка опустилась на скамейку, на самый край.
Сказал:
— Довид Басин умер. Гришку и Вовку мы берем к себе. Где двое — там и четверо. Да, Любочка?
Люба заплакала.
Но произнесла твердое:
— Да.
Диденко к моему появлению отнесся спокойно. Радости не проявил, но и не бурчал. Сказал:
— Увозишь, значит, своих. Срочная эвакуация. Я не ответил ничего.
Дети мне обрадовались, конечно. Я их долго обнимал и прижимал к сердцу.
Ганнуся взяла меня за руку и секретным голосом прошептала:
— Пойдем в сарай, я тебе покажу что-то.
Ёська побежал за нами. Я, чтоб он не споткнулся, взял его на руки.
Вошли в сарай. Ганнуся, как в музее, показала пальчиком на что-то у стенки. Доски, инструменты.
— Папа, дедушка себе делает гроб, чтоб в нем лежать под землей. Мы ему помогаем.
Ёська прижимался лицом к моей шее и повторял каждое Ганнусино слово неразборчивым детским языком.
Ганнуся подвела меня близко. И правда, на двух пеньках стоял гроб. Еще не до конца сделанный. Доски обструганы гладко.
Ганнуся с гордостью провела по ним ладошкой:
— Ничего не должно колоться. Мы с Ёськой сами проверяем. Мы любим дедушку и хотим, чтоб ему было хорошо. Еще осталась крышка, и дедушка будет умирать.
Я слушал и смотрел. Но в какой-то момент упустил нить. Показалось, что я во сне. Только тяжесть Ёськи не дала мне окончательно прикрыть глаза и опуститься на твердую землю, хоть сильно хотелось.
Ёська запросился с рук.
Он пошел к раскрытой двери и позвал:
— Деда, мы тут! Покажи папе, как ты лежать будешь.
Зашел Диденко. Засмеялся.
— А ну, кыш, дурныки малые! Дети весело клянчили, чтоб он улегся. Я молча наблюдал.