Чистая книга: незаконченный роман Абрамов Федор
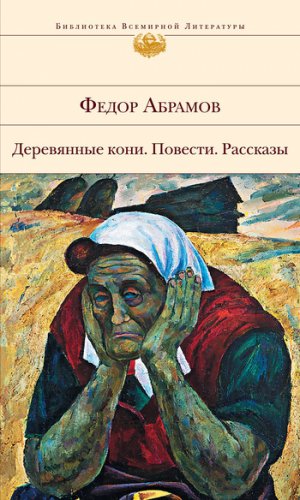
Из раскрытой смолокурни, дурным чирьем усевшейся в развилке дорог на почтовый тракт и в поля, выбежал черный, Головешка, Пименко-килан.
– Куды ето с коробом? Не икотами у лешего на базаре торговать?
Федосья отвесила поклон, поздоровалась, да еще и сказала:
– Бог в помощь, Пиман Петрович.
Так учила ее родная мать: добрым словом да смирением обезоруживать ругателей и лиходеев.
Некоторых это пронимало. И, похоже, Пименко тоже – прикусил язык. Крикнул вдогонку, когда она уже входила в поля:
– Куда тебя понесло-то? Никто еще не ездил со вчерашнего.
Дорогу в полях и в самом деле загладило вчерашней заметью – только на взгорках, на горбылях она отсвечивала черепицей. Но Федосья и не подумала отступать. Господи, всю жизнь, как помнит себя, ломается с дровами, с сеном, с водой – в стужу, в жару, в непогодь, так что уж бояться знакомой-перезнакомой дороги, по которой еще позавчера ездили. Она только перебросила через плечо веревку от санок, взялась за конец ее обеими руками.
Пробилась через снежные заносы. И пробилась довольно легко, даже не вспотела, хоть и по колено снегом брела, а под ногой плотно было – дорога.
Дорога для нее кончилась у кустов, свернула направо, а ей надо было напрямик, к трем елям, у которых было их репище.
Господи благослови, перекрестилась она и сразу же бухнула до грудей.
Она подумала: в канаву попала – неужто такие глубокие снеги в этом году? Рванулась вправо, рванулась влево – нет, везде то же самое.
Стоя по грудь в снегу, она поглядела вдаль на свои заветные ели, на вершинки краснотала слева, возле которых зайцы уже успели бросить свежие петли, и стала пробиваться вперед.
Ваня, с малых лет большой охотник до всяких подсчетов, высчитал все ихние дороги. И, по его подсчетам, от большой полевой дороги до репища – через Ларюшеву гарь – выходило ровно 200 саженей. Пустяк обычным ходом. А сколько она сейчас этот пустяк мытарила?
В заречье монастырские часы (в прошлом году поставили) ударили два часа, три часа, и только тогда она, вся мокрая, задубевшая, выбралась к заветным елям.
Пока искала в снегу тычку, воткнутую в яму с репой, да пока разгребала снег, да взялась за пешню, в монастыре зазвонили к вечерней.
Страшным ревом взревел большой колокол – за двадцать пять верст в ясную погоду слышно, за ним рассыпались колокола поменьше, потом дружно, взахлеб зачастили подголоски.
Федосья, опершись грудью на пешню, перекрестилась, смахнула с глаза слезу.
Господи, как она радовалась, когда батюшка Иоанн Кронштадтский ее сына отличил, какой свет в душу ей хлынул, когда Ваню взяли в монастырское училище, а уж его служба в монастырской канцелярии, та и вовсе незаменимым праздником была. Ведь думалось, отныне не только Ваня в люди выходит, с ихней семьи проклятье снимается.
И вот все, все одним взмахом ножа порушил. Сам Ваня.
Она не ругала сына, слова худого не сказала (и тут матери своей следовала: та, бывало, никогда ее с сестрами не ругала). А кроме того… Грех, грех большой особый уголок в сердце для сына выгораживать, а что скрывать – у Вани потеплее был уголок, чем у других. И кто в том виноват? Сам Ваня. Поживее на ум да попригожее ликом был – недаром сам батюшка Иоанн отличил! Ее, мать, от верной смерти спас.
Раз поехали они с Саввой по дрова, и вдруг на обратном пути Рыжко захромал, да так, что пришлось выпрячь и вести домой в поводу. Мартын распалился (не было в Копанях резвее коня), бросился на нее с топором. И вот кабы не Ваня, тут бы и кончилась ее земная юдоль. Ваня, семилетний мальчишечка, с криком, с ревом кинулся на отца.
Ваня сегодня с утра ушел в Мытню. Костя-грива, а по-хорошему – Константин Иванович, только никто так не зовет, всю деревню задавил. Костя-грива давно просит Ваню помочь ему учитывать товары. И Федосья, все еще прислушиваясь к монастырскому звону (строго звонили – пост Великий), в который раз сегодня помолилась за сына.
После этой небольшой передышки она принялась долбить пешней землю.
Земля затвердела, как камень, крепко промерзла еще с осени, пешня отскакивала, искры летели в запотелое лицо, но ей не занимать было терпенья. Вся жизнь ее была сплошным терпеньем. Да и Господь Бог не обидел силой. Она была рослая, крепкая, как мать (та в восемьдесят три года умерла со всеми зубами), и с детства была приучена ко всякой работе. Ну, а уж замужем-то она просто ломила за мужика. У Мартына одно на уме всю жизнь было: ярмарки да лошади, на поле да на пожню когда заглянет, когда нет, а семью-то кормить надо? И корова да лошадь тоже не воздухом питаются. И вот при живом мужике она за мужика робила: пахала, сеяла, косила, ставила зароды, рубила дрова.
Федосье стало жарко, она скинула с себя полукафтаны. Ветерок, незаметный доселе, начал шарить по потной груди. Ничего, на печи простужаются, а не за работой, – любила приговаривать ее мать.
Мало-помалу она раздолбила самый закаменелый слой земли, легче пошла пешня, а потом настала минута, когда пешня вдруг до самого деревянного цевья, до блеска отполированного еще, быть может, руками Мартынова отца, ушла в яму. Пробилась, можно сказать, к репе.
– Ну, Марья Екимовна, – сказала вслух Федосья, – есть ли у тебя счастье?
Хорошо это осенью прямо на поле в яму репу засыпать. Всю зиму в земле пролежит и весной как заново родилась – плотная, сладкая, душистая, ни в каком погребе так не сохранишь. Но яма есть яма: может вымерзнуть репа, может выгнить, задохнуться. И поэтому Федосья, когда наконец выкидала всю землю и начала выбирать солому, которой была перекрыта репа, большие ее, нахолодавшие руки (зимой она редко робила в рукавицах) слегка дрожали.
Есть, есть счастье у Марьи Екимовны! Летним, сладким духом дохнула на нее яма, а потом она увидела и саму репу – желтенькую, чистенькую, уложенную репка к репке. И ей, с утра сегодня настроенной на сказку, подумалось, что она не репу откопала, а золотой клад.
6
Домой приволоклась Федосья уже в сумерках. В монастыре все еще ухал колокол-великан, а в избе разливался свой колокол – Махонька.
Возле подпечка дымно чадила, потрескивая, еще не угасшая лучина, копоти да дыму в избе – топор вешай.
Но до копоти ли и дыма было ребятишкам, девкам и бабам? (Да уж девки и бабы кое-где давили лавки.) Разве в избе сейчас сидели они? В палатах у царя Ивана Васильевича, на свадебном пиру – Махонька про Кастрюка, про Марью Демрюковну пропевала.
Вот что может сделать маленькая старушонка с людьми. Сказкой заворожила, заколдовала людей.
Прихода хозяйки тоже, показалось Федосье, никто не заметил. Гремя смерзшимся, как железо, сарафаном, она прошла с коробом репы в задоски, потихоньку переоделась во все сухое, потом намыла в деревянной шайке репы, наскоблила ее для Махоньки – той с одним зубом за весь вечер не прибрать и одной репки.
Вот тут-то, когда из задосок потянуло сладкой репой, Огнейка – и она с Енушком, должно быть, весь день просидела на печи голодная – живо спросила:
– Мама, чего у нас эдакое сладкое?
– Гостинцы от зайки принесла.
– Да ведь тот гостинец кабыть репой пахнет?
– Ну вы, репьи души! Але меня слушать, але репу!
Это – Махонька. Сердито прикрикнула, и Федосья подивилась старушонке. Весь день не евши, весь день без передышки горло надрывать – да откуда у человека и силы только берутся?
– Екимовна, я и тебя хочу немножко репкой потчевать. – И Федосья, выйдя из задосок, протянула старухе на печь глиняную тарелку с наскобленной репой.
– Мама, а нам-то? – сразу в два голоса заныли Огнейка и Енушко.
– И вам, и вам дам, только вот воздух свежий впущу в избу. Вы ведь со сказками-то про все забыли. Как в бане дымной сидите.
Федосья приоткрыла дверь, трубу, душник, а заодно уж и свет наладила – целую стопу сухой березовой бездымной лучины из запечья вынесла.
Репу Огнейке и Енушку подала напоказ, на глиняной тарелке, не удержалась, чтобы не похвастаться. Поглядите, поглядите, какая репа у икотницы уродилась. Репка на тарелке развалилась, как яблочки наливные, о которых в сказках сказывают.
Не дождалась Федосья похвал. А почему – сказали ребячьи глаза.
С завистью, с голодным блеском смотрели они в сутемень на печи, где Огнейка и Енушко, блестя глазами, с хрустом, с причмокиванием от удовольствия уминали репу. А Илько Василья Гавриловича, пятилетний мальчишечка, тот сидел со слезами на глазах, а потом и в голос заревел.
Федосья кинулась в задоски за репой – грех великий пытать такого мальчишечку, да вместо одной репки вынесла целую хлебницу, поставила на стол.
Ох, что тут поделалось!
Огнейка с печи кричит, чуть не плача: «Мама, мама, не давай ругателям! Мы сами съедим!», а ребятишки мигом со всех сторон облепили стол, бабы и девки пришли к ним на подмогу – про все икоты забыли.
Хлебницу опустошили – разнесли за считанные минуты, и все разгулявшимся глазом к хозяйке: только в аппетит вошли. И пришлось, пришлось Федосье еще насыпать одну хлебницу.
– Ну, набили брюхо репой – дрыхать теперика пойдем? – подала голос с печи все еще сердитая Махонька.
– Не-е! Сказку, Махоня!
– Былину! Про Илью Муромца.
– А меня дак чего-то на веселье с репы-то потянуло, – простодушно призналась Фекла-вдовица.
– Про Комара! Ну-ко, Махонечка, женим Комара. Может, он с молодой-то летом не так будет кусать.
– Давай дак, вы замучите у меня гостью-то! – вступилась за старуху Федосья.
Но у Махоньки на печи уже заблестели глаза. Для настроя она разгульно выкрикнула: «Репу ела, петь хочу!» – и почала колоколить.
7
Никто не слышал, как в избу вошла Марьюшка. Зато уж когда увидели под порогом черную, в дугу согнутую старушонку с горящей лучиной в руке (всю жизнь огнем от бесов спасается), все разом стихли – и дети, и взрослые.
– Не обманете, не обманете! За версту слышно, как вы тут беситесь. Мало скакали о Масленой, дак давай Великий пост поганить?
Марьюшка проковыляла к печи, подняла над головой лучину. Пламя высветило растерянную Махоньку и прижавшихся к ней Огнейку и Енушко.
– А, старая греховодница! Прискакала! За сто верст прискакала, чтобы беса потешить?…
– Ты мне эдаки слова не говори, Марья Ефремовна. Я в Христа Господа Бога верую.
– Веруешь ты… Колокол в монастыре весь вечер надрывается, а ты какую службу развела? Ох, кипеть тебе в геенне огненной. Видала у входа-то в монастырь икону – сатана в аду с Иудой на коленях сидит? Ну дак ты заместо Иуды будешь сидеть.
– Нет, нет! – насмерть перепуганная Огнейка завопила. – Не отдам Махоню.
– А ты, бес худой, помалкивай! У сатаны большие колена, и для тебя места хватит.
Федосья, чтобы хоть как-то ввести в берега клокотавшую гневом свекровь, услужливо помогла ей снять с себя шубейку, затем, торопливо обметая рукой, подала ей единственную в доме табуретку, которую выставляли для особо почетных гостей, взяла из руки дымящийся огарок, бросила в лоханку.
– Может, матушка, репки свежей поешь? Хорошая у меня репка. Сладкая.
– Ей, ей, скоморошье отродье своей репой ублажай. Пуще скакать будет.
Тут уж вскипела и Махонька:
– Ты меня-то топчи, а святых людей не тронь. Вот.
– Че-го?
– А то. Скоморохи – люди не простые, скоморохи – люди святые.
– Тьфу, тьфу! – заплевалась во все стороны Марьюшка. – Бог дал попа, а черт – скомороха.
Кто-то из баб не выдержал – прыснул.
Марьюшка накинулась и на баб:
– Давай, давай! Она бесов забавляет, а вы с ей? Люди благочестивые что делают в пост Великий? Стихи духовные поют, про страсти Господни сказывают. А вы пасть открыли: ха-ха-ха. Всех, всех на том свете за язычища-то данные повесят. Да споднизу-то огнем, огнем подпаливать будут. Вот зубы-то скалить в пост Великий. Бо рече Господь: горе вам, смеющиеся ныне, яко возрыдаете и восплачете…
Махонька опять подала голос с печи:
– Ты меня-то пугай, Бог с тобой, да хоть ребят-то пожалей. Вишь, ведь они сидят, бедные, дыхнуть не смеют.
– Чего их жалеть-то? Тому же сатане служат.
– Господи, как у тебя и язык-то повернется…
– Вавилон – город такой был. Сколько там робяток было, а где они? Всех Господь за грехи родительские покарал, все в преисподнюю огненную провалились… А у вас разве не тот же Вавилон?
Тут малые от страха подняли рев, а из-под Олешеньки горбатого побежал на пол ручеек, за что он тотчас же схлопотал от матери затрещину.
– Не бейте, не бейте Олешеньку! – истошным голосом закричала с печи Огнейка.
Она всю жизнь защищала несчастного его, мигом слезла с печи и бросилась ему на помощь.
– Ничего, ничего, Олешенька! – утешала она мальчика. – Все писают. Я сейчас затру вехтем. А ты, бабка, не ходи больше к нам, вот. Все только стращаешь да пугаешь.
– Огня, Огня, бесстыдница! Ты кому это говоришь? Проси сейчас же прощения у бабушки.
– Не буду просить.
– Не будешь? – Федосья схватила дочь за шиворот, поволокла к бабке, которая просто онемела от дерзости внучки, только губами перебирала, и не доволокла.
Крик, вой, визг взметнулся в избе, как будто пожар ворвался в избу, как будто потолок обвалился на людей.
– Чур, чур меня!
– Крестом, крестом его Господним!
Федосья обернулась к порогу и обмерла от ужаса: черт! Весь в седой шерсти, рожа черная, глаза горят.
– Бабы, бабы, держите меня! – застонала Марьюшка. – Ведь он за мной пришел – вишь, глазищами-то меня сверлит.
– За тобой, – прохрипел черт. – Тебя в ад поволоку. Тебя буду на угольях жарить да в котле со смолой варить. – И черт и раз, и два скакнул в сторону Марьюшки.
С Олешенькой горбатым опять сделалось худо. Он без памяти свалился с лавки на пол и засучил ножонками.
И вдруг черт заговорил жалостливым-прежалостливым голосом:
– Голубанушко, да ты-то чего испугался? Разве я тебя трону, бедного? – А потом и того чище – детишек стал уговаривать: – Да что вы, глупенькие? Я за вас-то и хотела заступиться.
И тут с черта свалилась шкура. Махонька! Она, коротышка, в своем синем сарафанишке.
– Ну, Марья Екимовна, – сказала Федосья, – не дело, не дело ты это надумала.
А Марьюшка, та круто вскочила на ноги и, крестя направо и налево, прострочила на выход, крестя рукой.
– Пойду, пойду. Минуты не останусь с этим бесовским отродьем. Вишь, ведь в избе-то серой, как в преисподней, пахнет. А бесы-то, бесы-то проклятые! Так и вьются, так и скачут кругом ей. Как вороны черные.
Когда за окошками отскрипели на морозе старушечьи шаги, Махонька, виновато пряча глаза, попросила у всех прощения – и у больших и малых – и тихонько убралась на печь.
Посиделка кончилась – это было ясно всем. Анна, мать Олешеньки горбатого, первая встала, прижимая к груди ребенка, все еще дергающегося и всхлипывающего.
За ней так же молча потянулись другие.
8
Пока Федосья ходила к корове да заносила с улицы дрова, Огнейка и Енушко уснули. Уснули на печи возле гостьи.
– Тебе, Екимовна, они не будут мешать? А то давай на полати проводим.
Махонька ничего не ответила.
– На улицу-то не выйдешь? – еще раз попыталась заговорить со старухой Федосья. – Хорошо на улице-то. И не вовсе морозно, и месяц в небе играет. Это ты нам хорошую-то погоду принесла. Перед тобой, скажи дак, мело да пуржило.
Но Махонька и на хозяйкину лесть не ответила, и Федосья поняла: обиделась старая. А может, и укачало. Тяжелый день у человека был.
Федосья закрыла трубу, душник – хорошо прочистило в избе воздух, пока она обряжалась, затем положила дров в печь (утром чтобы только поджечь), загасила лучину в святце.
Избу залило серебряным светом. У ног ее, выгибая спину, замурлыкала Шейка.
Федосья, смиренно вглядываясь в темный угол с иконами, помолилась и легла на деревянную кровать.
И вот не успела вытянуть ноги да сотворить на сон грядущий молитву, в воротах тихонько звякнуло железное кольцо. Ваня. Он так ходит, у него такая легкая рука.
Она не спрашивала сына, не терзала ему душу, что случилось. Ей и так все было ясно: не принял Костя-грива. И до него дошли слухи о Ваниной выходке. Но почему он так поздно возвращается домой? (Семь верст до Мытни.) И почему дрожмя дрожит? Неужели заболел?
Ваня, щелкая зубами, сказал:
– В сумете сидел.
– В каком сумете?
– На задворках у себя. В сумете соломы.
– Да ты, парень, ошалел. Дом родной для тебя, что ли, закрыт?
Это уже Махоньку прорвало. Она с печи голос подала. А Федосья только покачала головой. Как жить с такой гордостью? Да, да, она-то знала свое детище, знала, из-за чего Ваня целый вечер высидел в сумете соломы. Из-за гордости. Дома полна изба народу, начнут спрашивать, как да что было в монастыре да почему Костя-грива отказал, – нет, лучше замерзнуть, чем позор. Вот ведь что у ее Ивана на уме было.
Махонька хотела было уступить Ване печь, но Ваня и слышать не хотел. Он лег, укрытый всеми шубами, на кровать, где только что лежала мать, а Федосья постлала себе на полу, возле передней лавки, где не так мешал месяц.
Она не спала. Она все ждала, когда заговорит Ваня: ведь ему же легче будет, когда выговорится.
Но Ваня молчал. В избяной тишине только и слышно было, как он на кровати грызет репку да еще время от времени на печи потрескивает лучина: должно быть, Махонька не спит. Должно быть, она ворочается, стараясь поудобнее устроить на ночь свои старые кости… Потом все звуки в избе стихли. И тогда Федосья, по обыкновению, тихим шепотом, чуть-чуть шевеля губами, начала читать доморощенную молитву, которую когда-то читала еще ее мать:
– Господи, благослови моих деточек: Савву, Ивана, Огнею, Афиногена, дай им крепкого здоровья и долголетия, ума-разума, да счастья и удачи в жизни. Аминь.
Вслед за этим она особо призвала Господнее благословение на свою скотину: на Карюху и Лысаху, на двух овечек и Белошейку (хорошо мышей ловит), затем мысленно перекрестила в дому все ворота, двери, окошки и окошечки, щели, чтобы не было ходу в дом ни нечистой силе, ни лихому человеку, и только после этого отдалась сну.
9
Быстро, за три дня, расправились с бабушкиными кусочками и сухарьками.
И настало утро, когда на столе у Порохиных опять не оказалось ни единой крошки хлебного.
Енушко, катая по столу горячую картошку, вдруг выпалил:
– Бабушка, а у нас в деревне старушки тоже собирают кусочки. Я видел.
– Да ты глупый, что ли? – возмутилась Огнейка. – Бабушка-то гостья, а гости-то не собирают кусочков, да, мама?
– Да, да! – быстро замотала головой Федосья.
От стыда она не знала, куда и глаза девать, и у Вани всегда бледное лицо порозовело.
Но что за золото эта Махонюшка! Не обиделась. Весело, как сорока, застрочила:
– А вот и пойду, батюшко. Что мне стоит обежать хоть ваших суседей. Сказки слушать любите – раскошеливайтесь. Немного и надо бабушке: каравай хлеба до пупа да белой рыбки два пуда…
Жаркий смех полыхнул за столом: Порохины были отзывчивы на игривое слово, может, потому-то и облюбовала их в Копанях Махонька.
Одна хозяйка в эту минуту хмурила брови. Потому что, глядя на довольнехонькую, до слез смеющуюся старушонку (всегда вот так радуется, когда вовремя нужное слово подкинет), Федосья вдруг подумала: а что, если она и на самом деле пойдет попрошайничать? Она не из робкого десятка, коробку на руку – и запела: подайте Христа ради. А им-то, Порохиным, после этого как жить? Им-то как людям в глаза глянуть? Ведь такого сраму, чтобы гостья хозяев кормила, да еще кусочками, собранными Христа ради, такого сраму, как свет стоит, не бывало.
Ей не хотелось, ох, как не хотелось идти на поклон к Губиным – Савва и так вперед забрал и деньгами, и харчами, но и сидеть сложа руки она тоже не могла.
– Мама, ты куда? – окликнул ее Ваня, когда она после полудня вышла из дому.
Федосья никогда не таилась от детей, а уж от Вани-то, который с малых лет поражал ее своим умом, и подавно.
– Хочу до Губиных сходить, может, копейкой какой разживусь. Гостью-то надо кормить. – И предложила: – Ты не хочешь с матерью?
– Не, – невесело, совсем не по годам покачал головой Ваня.
– И палаты новые у Самсона Павловича не хочешь посмотреть? Ну и зря, – сказала Федосья. – Ведь уж рано-поздно, а надо на люди выходить. Век дома отсиживаться не будешь.
Ваня в нерешительности, все еще думая о своем, поставил на крыльцо лопату, которой разгребал выпавший за ночь снег, потом вдруг живо отряхнулся, живо обил валенки от снега, приподнял заячий треух, съехавший на глаза, и сразу – королевич. Так, по крайней мере, в эту минуту показалось матери, которая всегда дивилась необыкновенной способности своего сына мгновенно, прямо на глазах меняться.
Плотным, утоптанным проулком они вышли на улицу переднего посада, которую в Копанях больше называют дорогой (по ней главный Ельчанский тракт проходит), и попали в другое царство.
Да, да, да! У них на задворках народишко собрался никудышный, с ленцой. Кто расчистит заулок от снега, а кто, как зверь, всю зиму тропой бродит. А тут ведь не заулки возле домов – наволоки. Широкие, длинные. И не просто лопатой распаханы, метлой вылизаны.
И еще Федосья, жмурясь от солнца, от слепящей белизны снега, украдкой от сына полюбовалась на монастырь за рекой, на это чудо, белокаменное чудо с золотыми крестами, жарко сияющими в голубом небе.
Но она пощадила сына – никак не выказала своих чувств. Ваня не зря боялся выйти из дому. Ибо не успели они выйти еще из своего околотка, как им повстречался Антон Чаусов. Пьяный. Бедовый, да к тому же еще и пьяный. Заорал на всю улицу:
– Ну-ко, парень, дай я на тебя посмотрю. Да ты еще шибздик. Ха-ха. Такой шибздик, а уж за нож.
Старик Троха Михайлович тоже:
– Тебя еще в тюрьму-то не упекли?
И так и другие. Все щурили глаза, как будто впервые видели парня. И не только свои, копаневские. Богомольцы, а их в Великий пост собирается великое множество. Самое время Богу молиться. Тоже узнавали.
Ваня сцепил зубы – слова никому не сказал, а мать только ему нашептывала:
– Терпи, терпи…
10
Губины поперли в гору каких-нибудь лет двадцать назад, когда за хозяина стал Самсон Павлович. Не в пример своему брату, старику прижимистому, скупому, экономившему на всем – на еде, на одежде, на спичках и даже на соли, сын Павла дела вел широко, хватко.
Землю не забывал, крестьянствовал, но разве с тощих северных подзолов да супесей разбогатеешь? Торговлишка? Отец, бывало, рад-радехонек, ежели в своей лавчонке два-три рубля за день высидит. Нет, Самсон Павлович в лавчонку посадил жену, а сам – за подряды.
По первости набивал руку на мелочишке: прорубил дорогу для монастыря на скит, клепал бочки под рыбу-морянку для купца Максакова из Архангельска, дрова заготовлял для пароходов всесильных братьев Володиных, а потом и Щепоткиных – к самому главному делу Севера подобрался – лесному.
И вот пять лет поломал Самсон Павлович копаневских мужиков в лесных делянах лесопромышленников Рыкаловых – новый дом. Высоченный, в два этажа, с чердаком, который не меньше иной избы, и окон – как в большом двинском пароходе, который только и заходит в Ельчу в вешнее половодье.
Работница Оксюта, попавшаяся им на крыльце (два года назад Федосья травками да божьим словом открыла ей горло, которое не принимало еды), повела их наверх.
Сперва шли светлыми, широкими сенями (хоть на тройке скачи), потом поднимались вверх по лестнице с перилами, потом опять были светлые сени…
А потом открыли двери – и куда попали? В какое сказочное царство? Стены в обоях – алые розы от потолка до пола, шкаф лакированный со стеклянной посудой, печка-голландка со сверкающей на солнце медной дверкой, диван, пол под желтой краской…
Хозяин был не один. За столом, уставленным всякими яствами, сидел еще чистенький ясноглазый старичок с пояском.
– Ну, чего потеряли в моем дому?
Федосья не растерялась: знала, к кому идет.
– Давай не грози, Самсон Павлович. Без твоей грозы отпышаться не можем.
– Чего так?
– Да как? Шли в дом, а попали во дворец.
И вот что такое вовремя сказанное слово! Заулыбался Самсон Павлович. А ведь по первости, когда они переступили порог, – крещенской стужей дохнул на них.
– Ну уж ты скажешь: дворец…
– Дворец, дворец. Екимовна у нас каждый день поет и про хоромы князя Владимира, и про царские палаты Ивана Васильевича… Ну, я там не блудила… – Федосья тоже улыбнулась. – А ведь в твоих-то сенях-колидорах хоть криком кричи. Не знаешь, куда и податься. Да хорошо, нас Оксюта вывела…
Тут Самсон Павлович и вовсе растаял. Живо поднялся, загреб со стола пригоршню конфет и начал одаривать их, как малых ребятишек.
– Екимовна-то кто? Не Махонька?
– Она, Марья Екимовна.
– Ну дак скажи ей, чтобы ко мне зашла. Хочу тоже послушать.
– Скажу, скажу, – закивала Федосья, а про себя подумала: не Екимовна тебе нужна, а слава. Хочешь, чтобы Екимовна славу по всей Ельче про твой дом разнесла.
Она выждала, пока хозяин снова не уселся за стол (а он и раз, и два барином прошелся по комнате), и, вся внутренне подобравшись, собралась сказать то, ради чего пришла. Но Губин в эту минуту обратился к старичку:
– Ефим Семенович, про нашего-то головореза слыхал? Ну, который на келейника с ножом кинулся?
Старичок кивнул, а Федосья тем временем ткнула сына в бок: держись, парень!
– Ну дак вот он – перед тобой!
Старичок только покачал коротко остриженной, в белых иглах головой: больно уж Ваня всем своим видом – худенький, бледнолицый, с потупленным взором – не вязался с образом головореза.
– Не дивись, не дивись, Ефим Семенович, – ухмыльнулся Губин. – Он и не то еще умеет. – И вдруг не сказал, а пролаял: – 25 на 37 – сколько?
Ваня вздрогнул, даже покачнулся малость, но с ответом не замешкался: – 925.
– А 59 на 33?
– 1947.
Старичок, донельзя изумленный, потянулся к счетам, которые висели на стене.
Губин захохотал:
– Не трудись, не трудись, Ефим Семенович. Честно, без обмана работаем.
Но старичок все-таки снял счеты, раза два прикинул, а больше не пытался. Не успеть было: Самсон Павлович, войдя в раж, выкрикивал примеры как команды, и старичок, как завороженный, смотрел на Ваню, на его льняное лицо, на котором заметно начали проступать бисеринки пота. И Федосью от волнения за сына тоже обдавало жаром.
Самсон Павлович оборвал свою забаву так же внезапно, как и начал. И тогда старичок, по-прежнему не сводя с Вани своих ясных, но пытливых глаз, вдумчиво сказал:
– Дар божий. Дар божий, – и вдруг прослезился.
Материнское сердце в один миг повернулось к старичку.
– Не обидел, не обидел моего сына Господь, – сказала Федосья с легким поклоном. – Ну нету счастья, почтенный…
– Почтенный? Ха-ха-ха… Почтенный. Да ты разве не знаешь, кто перед тобой? Ванька, и ты не знаешь? Ну и ну. Да это же щепоткинская голова! Сам Необходим.
Мать и сын растерянно переглянулись. Кажется, гром сейчас прогрохочи над их головой, они и то бы так не удивились, как удивились тому, что сказал Самсон Павлович. Ведь этот самый Необходим, который у всей Ельчи на устах – кто? Главный приказчик всесильных купцов Щепоткиных, человек, который держит в своей голове все дела их дома: и торговлю, и пароходы (а их у Щепоткиных ни много ни мало – 15, целый флот), и лесозавод, и лесной промысел. Да как же такого воротилу, такого туза было признать в кротком, благообразном старичке, да к тому же еще одетом в простенькую синюю рубашку с плетеным пояском?






