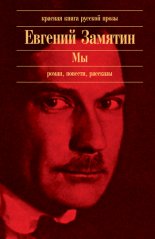Жилец Чехов Антон
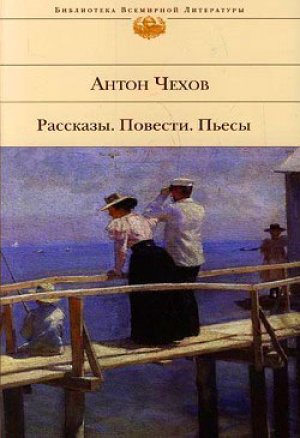
– Ну да, я виноват, что поддался признанию Докучаева. Сам вижу его нелепость и готов нести любое наказание…
– Любое, говоришь? С применением спецметодов дознания?
Устимцев готов был в порыве отваги на выговор и даже по партийной линии, на лишение звездочки на погонах, на изгнание из органов, наконец. Но спецметоды, да еще к своему…
– Ну вот видишь. Ты пойми, капитан, не ты затеял дело Докучаева – за ним стоят многие уважаемые люди. Сильные. Посильнее тебя. Его, может, и отпустят, но тебе не поздоровится. Ты единственный окажешься виноват. Как Михал Дмитрич в деле врачей, хотя после смерти Эттингера в кабинете замминистра его от этого дела отстранили. Я понимаю, ты тоже был пострадавшей стороной, и еще неизвестно, что б мы с тобой сделали, доведи дело врачей до конца… Приди в себя, капитан. И не делай глупостей. А твои рапорты я, если позволишь, уничтожу. И благодари бога, что так все обошлось.
«Хрен бы ты вышел отсюда целым-невредимым год назад, – процедил сквозь зубы Лисюцкий, когда дверь за Устимцевым закрылась. – А теперь извольте, уважаемый Люциан Корнелиевич, душеспасительные беседы с дураками проводить». Старый хитрец, пересидевший и Ягоду, и Ежова, чувствовал, что падение Берии – это только начало. И очень может быть, что настает время наивных капитанов вроде этого Устимцева. Нельзя им давать особой воли. Эти порывистые ребята такого сгоряча наворотят. А нам, старым чекистам, надо сохранить органы в прежней силе. Так сформулировал свою цель Люциан Корнелиевич. У него давно уже путались формулировки для всех и для себя. Для себя надо было шкуру спасать. Того гляди, вслед за генералами доберутся до полковников, подполковников, ну и так далее. Конечно, органы при Сталине зарвались, а сил у государства продолжать террор поубавилось.
Да, Лисюцкий, прошла золотая пора, когда ты с отчаянным азартом выполнял указание товарища Молотова: для нас враг номер один – это враг с партбилетом. Ох как ты мстил этим большевикам за наше поражение в октябре семнадцатого! Мог ли мечтать о таком, мог ли предвидеть? Может, участники штурма Зимнего еще на разживу и остались, но победителей октябрьских боев в Москве Лисюцкий отыскивал в самых темных углах и щелях. Он вел свой счет. За одного юнкера – десяток красногвардейцев. Но мщение не приносило радости: он ведь не за юнкеров старался, он истреблял большевиков за тот страх, в котором жил со дня падения Кремля. Но чем яростнее мстил, тем глубже страх врастал в него самого. Страх и одиночество. Надо было исхитриться, чтоб и тебя не зацепила шестерня карательной машины вслед за Ягодой и Ежовым. Работать тщательно, но и не рваться вперед, не хватать с пылу с жару генеральских должностей. Достиг полковничьих звезд на погонах – и хватит. И то многовато. Как бы сейчас, когда все покатится в обратную сторону, не прихватило за шиворот новенького кителя. А катится, уже покатилось. Но это не значит, что надо крушить машину террора. Достаточно перекрасить. Пришла пора мягко стелить. Спать все равно не мне.
Все угадал Люциан Корнелиевич Лисюцкий. С февраля пятьдесят пятого стали сажать своих. Правда, и тут он оказался провидцем, через год-полтора повыпускали. Но волна прошла над головой Лисюцкого, не задев. Он вовремя подставил своих товарищей, проявив инициативу с реабилитацией Докучаева, и вышел из той воды сухим и теперь сам возглавил группу по пересмотру дел репрессированных в годы «культа личности Сталина» – так мягко обозначили политику бескрайнего террора. И правильно. У Никиты хватило-таки ума тормознуть на краю пропасти и не допустить оправдания фигурантов открытых процессов. Сняли втихаря уголовные обвинения, освободили выживших вдов – и будя!
Устимцев опять напорол. Он позвонил в дом расстрелянного по приговору сам, даже совета не спросясь. Ну и нарвался. Оказалось, что этот несчастный Фелицианов Николай жив-здоров и не подозревает о том, что с ним хотели сделать… Я хотел! Лисюцкий зубами заскрежетал в приступе ярости. Не дала судьба убрать с дороги ни двойника, ни братца его, замешанного в личных делах Люциана Корнелиевича – это ведь он принимал роды у Эльзы. Ах Крохин, ах сволочь! Я ж тебе приказал!
А Крохин небось с того света смотрит и смеется над начальником. Его самого расстреляли 2 января 1939 года. И Лисюцкому в те дни было не до проверки выполнения своих приказов. Товарищ Берия начал кадровую чистку. А Лаврентий Палыч – это тебе не привычный Ягода и не придурок Ежов, ушлого мингрела так просто вокруг пальца не обведешь!
Итак, жив этот доктор Фелицианов, свободен и недостижим. Ну и черт с ним, пусть живет – только бы в деле не осталось следов моего участия. А Устимцев? Вот ведь идиот! Узнал, что жив, – и помалкивай. Нет, вызвал недобитую жертву. Зачем? Кстати, этот Фелицианов оказался умнее Устимцева – сам не пошел, сноху прислал выяснять.
Зачем Устимцев звонил в тот дом, начальству не расскажешь. Фамилия Фелицианов показалась капитану знакомой. В начале войны был у него во взводе боец с такой фамилией. Имя не совпадает. Того солдаты звали дядя Жора. Может, родственник? Фелицианов Николай побоялся идти на Кузнецкий сам, а Марианна Казимировна Десницкая, вдова его брата Льва, принесла целых три запроса о пропавших в разные годы своих родственниках. Там еще был один Фелицианов, Георгий. Дядя Жора? Ну да, наверное. Имя-фамилия совпадают, отчества солдата Устимцев, конечно, не помнил, может, и Андреевич. Во всяком случае, поиски репрессированных решил начать с него.
В столовой рассказал об этом странном курьезе другу Хлопушкину, Хлопушкин – капитану Иванькову, тот еще кому-то, и пошло гулять по управлению. Так и до Лисюцкого молва докатилась.
Лисюцкий вызвал к себе Устимцева с делом Николая Фелицианова. С первых же страниц все стало ясно.
– Ну да – Крохин. Помню я этого Крохина. Его Ежов из ЦК привел. Балбес балбесом: дело для отчета оформил, а арестовать не успел – самого взяли в ночь под новый, тридцать девятый год, когда подбирали ежовцев. Курьез, конечно, но подобные курьезы, капитан, должны и ныне составлять строжайшую тайну.
– Так ведь это правда.
– Ну и что? Не всякую правду следует разглашать. Строение атомной бомбы тоже правда. И очень многие на Западе очень бы хотели ее узнать. А для нас правда никогда не была и не будет аргументом. Не для того существуем. Наша забота – тишина и порядок. И чтоб не плодить врагов.
– Я не думаю, что правда о прежних ошибках плодит врагов.
– И напрасно. Мы сейчас выпускаем из лагерей всякую сволочь. Они вернутся и такого о нас порасскажут…
– Но они же ни в чем не виноваты.
– Когда их брали, были не виноваты. А теперь – точно виноваты. Ты думаешь, они нам простят, что мы с ними сделали? Запомни, ни одному вернувшемуся у руководителей Коммунистической партии и Советского государства веры нет и не будет. Я не знаю, зачем это нужно Хрущеву – это уж их игры. Но и Хрущев не доверяет выпущенным.
– Почему?
– А ты не понимаешь? А чья подпись на приговоре тройки по делу Докучаева? Первого секретаря Московского горкома партии – нашего дорогого Никиты Сергеевича. Они там все замазаны. По всем особо важным делам в составе тройки – первый секретарь соответствующего комитета партии, от райкома до ЦК. Нужна им твоя правда?
– Тогда зачем вся эта реабилитация?
– Террор – дорогое удовольствие. И хотя все они по уши в крови, они тоже жертвы – вся жизнь в страхе. И теперь они мстят мертвому Сталину за тот ужас, в котором жили. Никто, даже Берия, не был уверен, что со свидания с Иосифом Виссарионовичем вернется домой, а не в Лефортово. Потому и начал с реабилитации врачей. Там ведь и под него копали. И от Абакумова требовали показаний на шефа.
– Так, значит, это Сталин был инициатором террора?
– А ты за десять лет службы в органах этого не понял? Вот поэтому, голубчик мой, ты и лепишь ошибки. В нашем деле – непростительные.
– Это что же, по-вашему выходит, – ошеломленный Устимцев проскочил мимо выпада, он терзался новой, только что открывшейся мыслью, – по-вашему выходит, что товарищ Сталин был преступник и нас втянул в преступления?
– В обывательском смысле – да. Но обыватель пасется, пока мы ему даем, за стенами нашего учреждения. И пускай. И волен рассуждать себе втихомолку – только втихомолку! – о преступлениях и наказаниях хоть по Достоевскому, хоть по Льву Толстому или даже Канту. Звездное небо над головой, нравственный закон внутри нас… Это все болтовня и идеализм, который неизбежно, как заметил Ильич, ведет к поповщине. Служба в органах освободила нас от нравственного закона. Мы – единственные в государстве подлинно свободные люди. И выкинь все эти идеалистические бредни из головы. Наслаждайся свободой, но помни – органы как были при Сталине, так и при любом вожде остаются оружием партии. А его надлежит хранить в чистоте. И население не должно от сотрудника КГБ узнавать о том бардаке, что бывал в тридцатые годы. Нас должны бояться и впредь. И будут бояться. И детям, внукам свой страх и трепет передадут. При зачатии. При одной только мысли о зачатии! – Лисюцкий завелся. Он уже не мог себя остановить. Полковник, всегда являвший собой бесстрастную, бездушную машину, вдруг потерял контроль над собой. Он уже забыл, что перед ним провинившийся подчиненный, он вообще обо всем забыл. Голос его взвизгивал на высоких нотах, и Устимцеву стало страшно. Он первый раз в жизни видел столь явное проявление психической болезни. Но сообразить, что это болезнь, капитан не мог – не умещалось это в его голове.
У него теперь многое не умещалось в голове. Выговор, который Устимцеву влепили с формулировкой прежних времен – за утрату бдительности, – дал обратный эффект. Он не испугал капитана. Скорее, ужаснул. До Валерия стало доходить, в какой угол загнали его в сорок третьем, переведя из армии в Смерш. Его затянули в преступления. Целых десять лет он ежедневно «нарушал ленинскую законность», да еще имел глупость гордиться этим. Дела, которые он сам так прилежно вел, при обратном процессе рассыпались как карточный домик. И он сам обнаруживал за собой нелепости, видные невооруженным глазом. Но это ж не сочинение романов – каждая такая чушь, смехотворная по сути, стоила человеку жизни. Его собственные подследственные, совсем вроде недавние, далеко не все дожили до реабилитации. Устимцев даже усомнился в той операции, когда они поймали настоящих диверсантов в Белоруссии. А правда ли, что диверсанты? Да, правда, улики были несомненные. Но это всего один случай за столько лет!
Еще можно было как-то примириться с ходом вещей, пока грехи конторы списывались на явных негодяев – Берию, Ежова, Ягоду. Тени Менжинского и Железного Феликса пока оставались незыблемы. Но процесс реабилитации набирал силу и широту. И стали поступать на пересмотр дела начала тридцатых, потом и до двадцатых дошло. Но и там изумленному взору Валерия Устимцева являлись чудовищные юридические несообразности. Агроном Вихляев в 1932 году, увидев, как по чьему-то разгильдяйству простаивают в одесском порту английские пароходы, ожидающие загрузки, написал возмущенное письмо в ЦК (где ж еще у нас правду отыщешь?). Нашли виноватых, а заодно и его посадили – без ордера на арест, без санкции прокурора… Дали пять лет, но вот уж двадцать четвертый пошел, а он все сидит.
Фелицианов Георгий Андреевич. Арестован 8 февраля 1926 года. И тоже без ордера на арест. Пригласили как свидетеля и не выпустили. А ведь это при самом Дзержинском было! Фотографии в деле нет – протоколы допросов, приговор ОСО, подписанный самим товарищем Менжинским, характеристики из мест отбытия заключения… Освобожден в марте 1931 по отбытии срока. Повторное дело заведено 14 июля 1948 года. С фотографии из повторного дела на Устимцева смотрел боец его взвода – тот самый дядя Жорж. Устимцев вспомнил старого несуразного бойца, всеобщее посмешище на первых порах, вспомнил, как отважно этот перестарок сносил тяжелый труд войны в страшную первую зиму… К аресту Фелицианов мало изменился, только взгляд на арестантской фотографии затравленный. Приговор – пять лет лагерей и ссылка на вечное поселение на севере Красноярского края. Жив ли?
Еще раз прочитал первичное дело. Уже тогда, оказывается, не очень-то заботились об убедительности обвинений. А ведь еще в полную силу работал товарищ Дзержинский, как же он с холодной головой и горячим сердцем допускал такое? В протоколах допросов Панина, проходившего по этому делу, были отметки его почерком. Чем же тогда Дзержинский отличается от Ягоды или Берии? Но такие вопросы даже самому себе задавать страшно.
Люди простодушные, каковым и был капитан Устимцев, свои сомнения олицетворяют вовне. Они создают фигуру вины, фигуру соблазнителя. Бессонными ночами его дразнила едкая улыбочка полковника Лисюцкого. Он возненавидел своего шефа. Как это так? Я мучаюсь правдой, у меня вера рушится, я страдаю, а этот гад как не верил ни во что, так и сейчас не верит. Но он начальник, а я дурак. Он же мне и выговора лепит, а жаловаться некому, правды искать негде – здесь все такие, он, сволочь, прав. У нас нет незамазанных. А новеньких, выпускников погранучилища, на пушечный выстрел не подпускают к делам о реабилитации, наоборот – повязывают новыми преступлениями. Их внедряют в среду неблагонадежных лиц, чтобы заводили новые уголовные дела по той же 58-й.
Устимцев мечтал ночами, как однажды он войдет в кабинет полковника Лисюцкого, хладнокровный и спокойный, в заряженном пистолете две пули – и первую он всадит в ненавистного циника. Таким не место на земле. Но к утру, которое мудренее бессонной ночи, капитан охладевал. Все-таки у него двое детей, на тестя после тюрьмы навалились болезни, долго он не протянет, и вообще индивидуальный террор – это еще Ленин доказал – не метод борьбы. Убью Лисюцкого, так придут десять более свирепых и не таких умных. Да и не Лисюцкий причина всех бед. Мелкая сошка. Крупных же убрали и без Устимцева. Но Лисюцкие мешают самоочищению органов. Все же гад он порядочный, и ночной гнев – праведный гнев. Таким не место на земле.
Полковник же полагал, что не место на земле Устимцеву и ему подобным. Старый хитрец давно почуял, что с капитаном творится неладное, что от него можно ожидать массу сюрпризов. Уроки не пошли дураку впрок. Но Лисюцкий никогда не жалел о том, что сделал. Значит, надо очистить наши органы от Устимцева. Сомнение заразительно, нельзя давать ему разрастаться в эпидемию, особенно в недрах нашего учреждения.
Времена нынче либеральные. Остроумцы зовут их оттепелью. И поднимать шум вокруг Устимцева Лисюцкий не намеревался. Но и устранение по-тихому – в автомобильной катастрофе, от рук уличного хулигана или нечаянного падения кирпича на голову, тут опыт богатый, выбирай что хочешь – нет, такое устранение в планы Лисюцкого не вписывалось. Он решил дать отделу показательный спектакль. Чтобы все подчиненные ему офицеры знали и чувствовали силу и непобедимость органов государственной безопасности. И чтоб ни единая сволочь не позволила себе ни на йоту усомниться.
Но когда Лисюцкий вызвал к себе Устимцева с делом Георгия Фелицианова, вид его был благодушен, улыбка сияла на лице, и начал полковник с разговора о погоде. Впрочем, тема эта сама напрашивалась – еще вчера дуло с Арктики и валил неуместный в середине мая снег, а тут вдруг рассиялось солнышко, загомонили воробьи, блистали напоследок лужи – вернулась весна, одним словом. И Устимцев тоже был в каком-то приподнятом настроении, он забыл свои ночные злобы, а дело, с которым его вызвал шеф, было до чрезвычайности простым. Только визу поставить – и с Богом!
– Да, кстати, – внезапно оборвав на полуслове буколики, Лисюцкий перешел на деловой тон и натянул дистанцию. Это он умел мастерски – вдруг эти полтора метра, отделявшие хозяина кабинета от собеседника, обратились в пропасть, а мост обрушился. И чувство вины и унижения возникало невесть с чего, будто грубейшую бестактность совершил. – С какой стати вы, капитан, даете заключение об отсутствии события преступления?
– Но… – как-то не сразу оправившись от перемены начальского тона, замялся Устимцев, – там… там нет даже ордера на арест.
– По тем временам ордер – пустая формальность. Договаривались с прокуратурой по телефону, а там курьером… В суматохе могли и потерять. Но дело начал Штейн, я его помню, это был очень умный и дельный чекист. Он участвовал в истории с Локкартом, в разоблачении заговора Таганцева в Петрограде, за ним много заслуг.
– Так его ж самого расстреляли.
– Как расстреляли, так и реабилитировали. И судили его не за нарушение социалистической законности, как Ежова, там другие были дела. Так что я не верю, чтобы Штейн мог арестовать человека без вины.
– А вина все равно не доказана. Его не только Штейн допрашивал…
Тут бы ему прикусить язык. Лисюцкий тоже участвовал в допросах Фелицианова, и честь признания арестованного принадлежит как раз Люциану Корнелиевичу. Над подследственными тогда опробовалась карусель – круглосуточное дознание бригадой следователей. Но Устимцев не придал этому обстоятельству значения – на прошлой неделе Лисюцкий дал справку о полной реабилитации, посмертной правда, некоего Свешникова, у которого и родни-то осталось – два племянника. Но в том же деле стояла подпись самого Лисюцкого об исполнении приговора к высшей форме социальной защиты – единственная за всю его карьеру. А заводилось дело, тоже не без его участия, в том же двадцать шестом году.
– Ты хочешь сказать, что и я к этому руку приложил? Давай, давай, договаривай, не стесняйся. А я тебе тоже кое-что припомню. Как ты, темнота, на показания Докучаева купился. У нас тут святых нет, не было и не будет, Устимцев.
– Я не имел в виду вашего участия. Тут все дело, если посмотреть, разваливается. Во всяком случае, вина этого Фелицианова не доказана.
– Да, не доказана. А для этого у нас другая формулировочка – за недоказанностью преступления.
– Но она не дает полной реабилитации.
– А тебе-то что? С твоего Фелицианова хватит освобождения и возвращения московской прописки. Он и этому будет рад. – И стал смотреть за реакцией. Тут было что-то личное, явно личное. Неспроста он так держится за полную реабилитацию. Какая-то корысть или – еще хуже – сантименты! – Кстати, Устимцев, а ты видел хоть одно дело, которое б не разваливалось с первого же взгляда? Даже те, что удостоились открытых процессов, не выдерживают никакой критики. Или ты всерьез полагаешь, будто еврей Карл Радек – немецко-фашистский шпион, а товарищ Пятаков – вредитель производства?
– Мы сейчас не о Радеке с Пятаковым говорим. Я, Люциан Корнелиевич, настаиваю на полной реабилитации Фелицианова. Я вижу здесь явный произвол, а человек он достойный, участник войны, ополченец.
– А какой-нибудь Бухарин – вождь революции, любимец Ленина и любимец партии – забыл небось, как в твои пионерские годы славили Николая Ивановича? Так вот, и процесс Радека – Пятакова, и его процесс, и даже Каменева и Зиновьева – полная липа, и все это знают, но, пока партия жива, никому из них никакой реабилитации, кроме уголовных обвинений, не будет. Мы не обязаны реабилитировать каждого. Особенно если он осужден до назначения наркомом НКВД Ягоды. Это политика.
Паркет под ногами Устимцева будто в песчаную зыбь обратился, и в груди обвал. Отпетая минута настала. Ослепительный гнев ударил в голову. И нет уже смысла ни сдерживаться, ни глотать обиду. Эта сволочь издевается надо мной, несет крамольные речи и лыбится, гад, провокатор старый. Но язык нес околесицу, не поспевая за чувством.
– Чего вы от меня хотите? Чем вам Фелицианов не угодил? Нашли с кем сравнивать – с Бухариным да Радеком! Тоже мне враг народа. А-а, я знаю, я догадался, вы хотите, чтобы я подставился, чтоб можно было по партийной линии упечь!
Устимцев выкрикивал бессвязные полудогадки, он даже понимал, что не то, не так, но верные слова не выскакивали, да и бог с ними. Одновременно капитан озирался, военным инстинктом отыскивая позицию для нападения. Он все, как показалось, рассчитал и рывком сунул руку в задний карман – к пистолету – всадить обойму в эту рожу!
Да рожа-то не дремала. Лисюцкий успел нажать кнопку в столе и откинуться навзничь.
Как известно, стены в служебных кабинетах в Кремле и на Лубянке обшиты деревянными панелями не случайно. Поговаривали, что это изобретение самого товарища Сталина – он любил показываться внезапно, как черт из табакерки. А просто-напросто незаметно раздвигалась панель, и вождь являлся обалдевшему народу прямо из стены. А в пору репрессий за панелью удобно было контролировать процесс дознания, можно было за ней выдерживать свидетеля и выпускать его перед ошарашенным подследственным в самый нужный момент.
Разумеется, Устимцев прекрасно знал, чему служит такая прелестная декоративная деталь лубянского интерьера. Но глаз его давно привык к этим панелям и у себя, и у начальства. В последние годы они исполняли исключительно оформительскую роль, ну еще и гардеробом служили – за одной из них в его собственном кабинете висели штатские костюмы, пальто и шинель. В тот решительный день он забыл о назначении панелей.
С двух сторон навалились лейтенанты Селиванов и Галошкин, обезоружили капитана, бросили на пол и стали избивать ногами.
– Довольно! – скомандовал Лисюцкий. – Пригласите сюда всех сотрудников отдела.
Еще вчера вокруг Устимцева были не то чтобы друзья, но, во всяком случае люди не чужие. И знал он каждого как облупленного, хотя по обычаям их конторы полностью не доверял никому. И как легко все до единого переступили грань даже не отчуждения, а прямой и непосредственной вражды. Его посадили в середине просторного кабинета Лисюцкого в наручниках, сотрудников рассадили вдоль стен.
Лисюцкий начал так:
– Перед вами не просто предатель. Я знаю, что побудило Устимцева взяться за пистолет. Этот человек в силу всем известных обстоятельств засомневался. Он стал думать, что оттепель, о которой так сейчас соловьями разливаются всякие писаки, распространяется и на нас. Так вот, запомните раз и навсегда. Оттепель, – полковник небрежным жестом указал за окно, – для них. У нас никакой оттепели нет, не было и не будет. Люди, которых мы вынуждены выпускать, до смертного часа останутся нашими врагами. Что бы мы сами по этому поводу ни утверждали за пределами этого здания. Теперь об Устимцеве. Проще всего было бы отвести этого человека в камеру, провести дознание и осудить по соответствующей статье. Но мы не будем делать этого. Пусть он сам приведет приговор в исполнение. Родственникам сообщим о гибели при исполнении служебного долга. Страна должна помнить, что наша профессия – смертельно опасная. Капиталистическое окружение остается и после смерти товарища Сталина и разоблачения Берии, Рюмина и Абакумова. А мы – на страже. Селиванов, отведите Устимцева в его кабинет и верните ему табельное оружие. Нет, не Селиванов – ты, Хлопушкин, старый его друг, вот ты и веди. До его возвращения не расходиться.
Хлопушкин вернулся бледный, облизывая пересохшие губы, доложил:
– Ваше приказание исполнено. Он сам…
– Прекрасно. А теперь напишешь наградной лист. На орден… нет, Красного Знамени слишком, еще допытываться начнут, Звездочки с него хватит.
– А что писать, товарищ полковник?
– У тебя что, Хлопушкин, фантазия только в обвинительном направлении работает? Уж как-нибудь постарайся. Чтоб дети устимцевские отцом гордились. Они нам еще понадобятся.
В ноябре, вернувшись из Будапешта, Лисюцкий вновь созвал сотрудников отдела.
– До меня дошли сведения, что по делу Устимцева произошла утечка информации. – И обвел всех таким взглядом, острым и пронзительным, что не по себе стало каждому. – Слава богу, за наши стены ни звука не ушло, но с начальником управления мне пришлось выдержать неприятные объяснения. Я не буду проводить расследования, хотя мог бы. – И вонзил взгляд персонально в капитана Иванькова. Тот пошел красными пятнами, остальные спустили дух – пронесло. – Надеюсь, что события в Венгрии кое-чему вас научили. Кто не понял, поясню. То, что в этой стране подняла голову контрреволюция, вы знаете не хуже меня. Но не доверяйтесь газетным комментариям, будто это, дескать, пережитки довоенного буржуазного сознания, как пишут наши пропагандисты. Мы не пропагандисты и обязаны понимать суть происходящих процессов. А она такова: крамола в Венгрии – результат нашей борьбы с культом личности. Ну и глупости Ракоши и Гере, которые этого не поняли и продолжали политику террора, будто ничего не произошло. До сих пор с тенью Хорти боролись. Но вы не обольщайтесь тем, что Венгрия за надежной границей и крамола – ее внутреннее дело. Нет, крамола свила гнездо и у нас, и даже в нашем отделе. Мы вовремя обнаружили ее и уничтожили в зародыше. То, что проделал Хрущев, распустив лагеря, породит в массе людей, особенно молодых, соблазн сомнений. Отсюда недалеко до самых антисоветских, контрреволюционных выводов. За выводами, уж будьте благонадежны, последуют действия. И действовать начнут по образу и подобию революционных партий. Благо что опыт захвата власти революционным путем изучается в каждой школе, в каждом вузе, в системе политпросвета. Ирония истории, ничего не поделаешь: воспитываем молодежь в революционном духе для жизни в глухой реакции.
– Т-т-товарищ п-полковник, – капитан Иваньков, сраженный парадоксом, от волнения стал заикаться, – как же так? Откуда у нас реакция? Все-таки СССР – самая передовая держава. И самая революционная.
– Была. В семнадцатом году. А откуда? Из недр самих революционных масс. Во время гражданской войны жизнь человеческая не стоила и гроша в базарный день. А народ, распущенный до крайности, уже не в силах был справиться с собственным бесчинством. И запросил твердой руки. Сталин был единственный среди вождей, кто понимал эту потребность. Он и стал той самой твердой рукой. Году к тридцать девятому революционный дух был истреблен полностью. Наступило, как Иосиф Виссарионович выразился, морально-политическое единство советского народа, по сути же реакция, которая никакому Николаю Первому в самых сладких снах не виделась. По сути, тридцать девятый был год великого перелома. Никто даже в мыслях не смел заикнуться о борьбе. Ты, Иваньков, Лиона Фейхтвангера почитай. «Москва, 1937», глава «Сталин и Троцкий».
– Так это же запрещенная литература!
– Для нас, Иваньков, не существует запрещенной литературы. Мы обязаны знать врага в лицо. Вот почитаешь и сам скажешь мне, почему это сочинение догадливого Фейхтвангера нельзя давать в руки народу. Советую также ознакомиться с сочинениями некоего Оруэлла. Скажем, «Ферма животных», перевод есть в нашей библиотеке. Перевод слабый, конечно, одно название следовало б по-русски перевести как «Скотный двор», но с тебя хватит и этого.
– Простите, товарищ полковник, – осмелел Иваньков, – но ваши суждения отдают каким-то цинизмом. Я пришел в органы бороться с врагами коммунизма, врагами партии…
– И будешь бороться. Но эффективно, а не хватать первого встречного по ложному доносу. Да, ты прав, мои суждения именно цинизмом и отдают. И лет пять назад они бы обошлись очень и очень дорого. Высказывания, а не мысли. Но в борьбе воленс-ноленс действует закон сургучной печати. Образ противников отпечатывается друг на друге. Именно поэтому Ленин доверил создание ЧК не болтуну эмигранту, а самому тертому каторжанину. Биографию Феликса Эдмундовича вы все, конечно, знаете и знаете, как в 1903 году он через все тюрьмы пронес красный флаг и в Красноярске повел всю колонну каторжан под красным знаменем. Ну-ка скажите, мог ли кто-нибудь в нашей системе ГУЛАГа еще при Дзержинском даже помыслить о том, чтобы пронести царский флаг? А какую сеть разведки наш Феликс раскинул по Европе, Америке – повсюду, куда занесло белоэмигрантов?! Для этого, товарищи, именно цинизм и нужен. Так что не пугайте ни меня, ни себя самих этим жупелом для простодушных. Цинизм – наше оружие. Мы обязаны до тонкостей проникнуться духом крамолы, но, разумеется, не поддаваться его влиянию.
Тугодум Иваньков долго собирался мыслями, морщил низенький лоб, вдруг брякнул, торжествуя:
– Вот вы, товарищ полковник, про закон сургучной печати говорили, будто на победителях облик побежденных отражается. Но мы же мировой фашизм победили. И что-то не видно, чтоб его методы усвоили.
– Для начала гестапо усваивало наши методы. Они очень внимательно изучали опыт ГПУ-НКВД. А что до нас… Что, по-твоему, представляла собой борьба с космополитами? Мы ее с сорок четвертого года вели. Чуть более изощренная форма национал-социализма, только и всего. И даже «хрустальная ночь» планировалась как стихийный ответ разбуженных масс на происки вредителей в белых халатах. Ты ведь сам ездил по Сибири с инспекцией, проверял готовность лагерей для приема евреев, спасенных органами от погромов. Запомните, товарищи дорогие, в КГБ время исполнительных дураков кончилось. Нам теперь предстоит борьба с противником умным и час от часу умнеющим. Враг заползает в наши дома. Следите за собственными детьми. Вот-вот подрастут и станут задавать вопросы, от которых вам не поздоровится.
О, Лисюцкий знал, что говорил. Собственная дочь, его гордость и живое искупление многих грехов, девочка открытая и доверчивая, а главное – нежная, ласковая, вдруг замкнулась, ушла в себя, а на отца смотрит разве что не с ненавистью. И это не возрастные штучки, не самоутверждение взбунтовавшегося организма в период созревания – в двадцать семь лет какой тут девичий бунт! Когда, как это произошло? Не уследил, проморгал. Давно ли вся ее комната была увешана портретами Зои Космодемьянской и молодогвардейцами, давно ли Лисюцкий с легкой иронией, прикрывавшей все ту же отцовскую гордость, умилялся тем обстоятельством, что Лиза, названная так в честь матери, – член комсомольского бюро факультета, общественница и отличница учебы?.. После института ее звали в райком комсомола, и большая карьера светила, но тут Лиза заупрямилась, ей, видите ли, простой жизни с простыми людьми захотелось, и она потребовала распределить ее учительницей в сельскую школу. Слава богу, номер с крайностью не прошел, удовлетворилась познанием жизни в московской. Впрочем, в школе, где преподает историю, она на хорошем счету.
Ни лицом, ни характером Лиза Лисюцкая ни на отца, ни на мать не походила. Дочь классических блондинов, она была темной шатенкой, глаза отдавали в синеву, не то чтобы красавица, но порода чувствовалась. Еще в младенчестве. И это составляло особую снобическую гордость Люциана Корнелиевича. Род Лисюцких, Смоленской губернии дворян, впервые был помянут в каких-то грамотах всего лишь при Алексее Михайловиче, так что особой древностью тут не похвастаешься – не Голицыны и не Оболенские, чего уж там. Но печать породы, о, это дорогая печать. И никак не совместимая, отмечал едкий папаша, с убранством девичьей, больше всего напоминавшей Красный уголок. Пока в девятнадцать лет не выскочила замуж за комсомольского активиста и не вернулась, разочарованная и изумленная, в отчий дом через полтора года. Оказался активист обыкновенным рвачом и мещанином, а в браке имел виды на папино служебное положение. Дешевый комсомольский антураж был выметен как напоминание о жалком приспособленце, и комната обрела вид аскетический: тахта, покрытая паласом кавказского изготовления, письменный стол и ряд книжных полок. Славянский шкаф для скомканной одежды. Лиза не была фанатиком чистоты и порядка и за веник бралась, лишь когда из-под ног вылетали шарики серой пыли. Но фанатиком социализма осталась, правда, понимал Лисюцкий, эта дурь сойдет. В детстве, в самый разгар террора, дочь поражала его душевной тонкостью, которой он не наблюдал ни в себе, ни в Эльзе. Каждое утро или вечер, если была ночная смена, она с такой тревогой провожала Люциана Корнелиевича на работу, будто чувствовала, что едва ли ему суждено вернуться. И эта детская тревога придавала изощренности уму ушлого чекиста, воля твердела и не позволяла поддаться ни отчаянию загнанного зверя, ни, что еще опаснее, безоглядному торжеству, когда устранялся опасный коллега. Так он пережил смерть Менжинского, оборвавшую многие карьеры, гибель Ягоды, затем Ежова, а тучи сгустились над головой лишь к процессу врачей-вредителей: он многих мог потянуть за собой. Лисюцкий со дня на день ждал ареста, да Господь прибрал-таки Сталина, развиднелось. Но те, последние, тревоги дочь уже не замечала, она была фанатично предана всем глупостям, которые сыпались в ее голову отовсюду. Человек породистый и с такой тонкой душевной организацией не может долго оставаться в ослеплении, рано или поздно прозреет, поумнеет…
Это рано или поздно обрушилось внезапно.
В школе, где работала Лиза, ярко вспыхнула звезда нового словесника – Марка Ароновича Штейна. Это дитя Двадцатого партсъезда вскружило голову молодой историчке. Вдруг ожили новым блеском ее глаза, куда девалась ее апатия, нажитая первым браком?! Отец какое-то время даже радовался внезапным расцветом любимого чада… Но чадо – странная форма любви! – явно под влиянием своего нового кумира стало задавать вопросы, малоприятные и затруднительные для прямого ответа. А ответы уклончивые ненадолго утоляли жажду познания. В очередной раз, когда Лисюцкий положился на неотразимый аргумент «я выполнял свой долг», он вдруг услышал – это от родной-то дочечки! – «Да ведь, папа, фашисты на Нюрнбергском процессе говорили то же самое». Эдак ведь можно далеко зайти! Ахнуть не успеешь, а в твой дом придут коллеги с обыском и ордером на арест…
Люциан Корнелиевич разыграл отцовский гнев, оскорбленное достоинство, нашла с кем сравнивать, да как ты смеешь, тут и сердечный приступ подоспел, и лишь в облаке валокордина вредные вопросы на какое-то время улеглись.
Лисюцкий, конечно, навел справки о ее избраннике и пожалел, что в раннюю пору репрессий не догадались отправлять детишек в воспитательные учреждения. И Марик рос на попечении мамочки и тетушек в наивном убеждении, что отец его погиб в схватке с бандитами, но только в конце пятьдесят пятого года узнал, в какой именно и с какими бандитами – своими же товарищами по работе. И теперь этот отпрыск чекиста почитает Арона героем и жертвой нарушения ленинских норм. Рассказать бы ему, что папенька вытворял под сенью ВЧК! Как же, расскажешь – чекист из призыва самого Дзержинского. То есть советский святой, пострадавший за правду. Тот факт, что Люциан Корнелиевич тоже в органах аж с восемнадцатого года, только в самих органах и ценится, за стенами Лубянки – подручный Ежова, Берии и Абакумова. Конечно, можно было б Марика взять в разработку, дождаться, когда этот трепач совершит ошибку, а то и просто спровоцировать таковую, но тут уж непременно замажешь дочь, а последствия непредсказуемы. Вокруг не одни неподкупные друзья, схавают в момент. Поздно, поздно спохватился! И слишком долго мямлил. Не должен полковник КГБ колебаться и подставлять голову под сомнения. Они опасны. Под новый, 1957 год вошла его Лизочка, резкая, как «Нате!», и огорошила:
– Папочка, я выхожу замуж.
А с Иваньковым Лисюцкий тоже как в воду глядел. Тот очень резво взялся за искоренение идейной неустойчивости в среде подрастающего поколения, и его карьера стремительно пошла вверх. Но пока гонялся за чужими юнцами, упустил своего. В один прекрасный день его сынок-десятиклассник пустил себе из папиного табельного пистолета пулю в рот. И не спишешь на неразделенку, как это бывает у ровесников юнкера Шмидта во все времена. Записку оставил: «Не хочу жить с клеймом сына палача».
Явление дяди Жоржа
Мороз в ту зиму побивал все рекорды, и суеверные старухи предсказывали очередной конец света, войну, мор и глад. Зато мороз возобновил школьные каникулы. Добрых десять дней в январе и целая неделя в феврале. Во двор носу не высунешь, но семикласснику Севе Фелицианову это и не нужно. Сева мальчик недворовый, Сева мальчик домашний и книжный. Его еще в первом классе отвадила со двора шпана из подвалов во главе с Юркой Рыжим. Сева поначалу пытался подружиться с уличными мальчишками, подражал им, он тогда узнал значение всех матерных слов, пытался даже маме грубить, ничего в этом, кроме порки, не достиг, как и в освоении дворовых нравов – не спасло уничижение от сильных.
Севины одноклассники освоят ненормативную лексику года через два после него, и Севе, уже прошедшему эту науку, почему-то будет неприятно слышать, как ругаются чистые, воспитанные мальчики: очень уж смысл выпирает, а из смысла – неопрятный физиологический образ. Для него же самого срамные слова были давно лишенными всякого значения междометиями. Урок из этого обстоятельства он извлечет много лет спустя, читая в Ленинке стихи Владимира Нарбута. Увидев заборные слова в набранном по-типографски тексте, он вдруг понял смысл запрета. Лексика, в устной речи ушедшая в разряд междометий, на письме вдруг обретает откровенный первоначальный смысл. Наглый физиологический образ застит все вокруг, уничтожая значение соседних слов. Заодно и замысел отважного автора. Он же не только эпатировать публику собрался.
А во двор перестало тянуть после третьего класса. Этажом выше в комнатке при кухне жил Севин друг и заступник Женька Звездин. Его мама тетя Варя работала мороженщицей и сначала ходила с бело-голубым ящиком по бульварам, а потом получила на Пушкинской около кинотеатра «Центральный» постоянную торговую точку – ларек на колесиках, тоже бело-голубой. Женька часто помогал маме и брал с собой Севу. Тетя Варя отогревалась у касс кинотеатра, а Женька выкрикивал:
– Есть мороженое! А ну, кому эскимо?! Не хочешь эскимо – бери стаканчик вафельный с пломбиром!
Сева стоял рядом, робея кричать призывы и восхищаясь Женькиной смелостью. Зато Женьку восхищала Севина начитанность. Сева запросто объяснил, что значит загадочное «МТЮЗ», повергнув приятеля в неслыханное изумление. В школе они до третьего класса сидели за одной партой, но в третьем классе у Женьки обнаружился исключительной красоты дискант и абсолютный музыкальный слух. Он попал в хор мальчиков Владислава Соколова, да еще солистом, и в конце июля должен был ехать в Берлин на гастроли. Господь же счел, что род людской настолько погряз в грехах, что недостоин слушать прекрасный Женькин голос. Накануне отъезда мальчишки со двора удрали в Щукино купаться. Вернулись без Женьки. Говорили потом, что Женька попал в ключевую воронку. Это Щукино вообще проклятое место. Нынешним летом там погиб еще один Севин одноклассник Мишка Суржер и соседка с пятого этажа Ирка Рябцева. А Женька вот уже четвертый год солирует в хоре ангелов, так дворовые старухи утешали тетю Варю. На Севу эти утешения не действовали – он потерял заступника, на тетю Варю, хоть и верующая была, видимо, тоже. Гибель сына надломила ее, и она в глубокой печали доживала свои годы, лишенные смысла и материнской радости.
Если бы Сева Фелицианов был разумным человеком, он бы в эти каникулы от Деда Мороза сделал загодя все уроки, подогнал бы геометрию и химию, физику и алгебру. Но Сева терял рассудок, если в доме оставалась хоть одна непрочитанная книга. А мама в подарок на Новый год получила маленький томик своего любимого писателя Паустовского «Далекие годы». А еще были в доме летние номера «Нового мира» с продолжением – повестью «Беспокойная юность». В своем читательском развитии Сева пребывал на том этапе, когда автору веришь безоговорочно, сливаешься с ним и видишь мир его глазами. Только потом спрашиваешь себя изумленно: а где же революция, марксистские кружки, чтение подпольной ленинской «Искры» или «Правды»? По другим книгам, прочитанным об этих годах, гимназисты и студенты ничем иным не увлекались, никому бы в голову не пришло раздумывать над табличкой на двери профессорской квартиры «Здесь живет никто».
В «Беспокойной юности» помимо процесса познания включилось узнавание. Минувшим летом Севу обуяло увлечение трамваями. Он изъездил на подножках все окраины Москвы между Садовым кольцом и Камер-Коллежским валом и видел все, что запечатлел в начале века кондуктор Миусского депо. Сейчас оно называлось депо имени Петра Щепетильникова. За Калужской площадью было другое – имени какого-то Апакова. И кажется, Сева был из числа последних свидетелей той Москвы, которая исчезнет с лица земли в два ближайших десятилетия. Летом же пятьдесят пятого одно– и двухэтажная палисадная Москва мало отличалась от себя сорокалетней давности. Тихи и патриархальны были переулки у Пресни с мостовыми, выложенными простым булыжником. У Горбатого моста старый кондуктор потянулся отодрать Севу за уши, и ему пришлось на ходу прыгать с трамвая. Он тогда еле удержался на ногах – скорость была велика. Оказавшись на этом месте, Сева легко представил себе, как баррикады перегораживали улицы в пятом году, а рабочие, злые, как этот кондуктор, швыряли камнями в цепи полицейских. Сейчас, при чтении Паустовского, эта картинка вспыхнула в памяти так ярко, будто он прочитал в журнале бывшее не с автором, а с ним.
Когда уже и февральские морозы надорвались от собственной крепости и сменились предвесенней оттепелью, началось событие, которому в силу навязчивой скуки, всегда таковые сопровождающей, никто в доме особого значения не придавал. Еще с Нового года началась трескотня, от которой всегда отряхивались, не обращая особого внимания. По радио и в газетах только и трубили что о предстоящем, но, как водится, историческом съезде КПСС. Он только через месяц откроется, а уже исторический. Как ни включишь радио, оттуда только и сыплется: «трудовые подарки родной партии», «предсъездовская вахта», «соцсоревнование» и прочая дребедень. Ну а уж как начался этот съезд, радио лучше не включать. Да и когда закрылся благополучно – тем более. «Выполняя исторические предначертания партии…» и далее в том же роде.
Самое-то удивительное, что съезд на самом деле оказался историческим. У Фелициановых об этом узнали недели через две после его завершения. Сначала шепотом, потом все громче и отчетливее, но стали говорить о каком-то секретном докладе Хрущева, которым Никита ошеломил публику в последний день, будто бы даже – ночью. И будто бы коммунистам на закрытых партсобраниях его зачитывают. В секретном этом докладе – полное разоблачение Сталина. Оказывается, корифей всех наук никакой не вождь и учитель, а такой же кровавый диктатор, как какой-нибудь генерал Франко, которого Бор. Ефимов и Кукрыниксы изображали с непременными атрибутами тирана: виселицей и топором, украшенным ярко-красными пятнами. А может, наш Сталин еще и похлеще Франко. По его наущению расстреляны и превращены в лагерную пыль миллионы невинных советских граждан. Мы и войну проигрывали в первые месяцы из-за того, что Сталин расправился с маршалами Тухачевским и Егоровым, а еще были Уборевич, Якир, Корк, Примаков – герои гражданской войны, имена которых Сева услышал только сейчас, а ведь сколько о ней было читано… И войной, по словам Хрущева, Верховный главнокомандующий руководил по глобусу, не ведая оперативных карт. А после победы Сталин вообще сорвался с цепи, учинил «ленинградское дело», но этого ему показалось мало, и сколько бы крови пролилось, проживи он хоть еще год или два, один Бог ведает. Вот тебе и отец народов!
Ни в родне, ни среди маминых друзей и подруг членов партии не было, поэтому суть хрущевского доклада передавалась в слухах, далеко ее опережавших. На деле доклад этот был куда умереннее, и все рассыпанные по нему «и» еще целых тридцать лет дожидались своих точек. Так ведь не нами сказано – умному достаточно.
Мир качнулся в Севиных глазах, как бывает в приступе кислородного отравления. Ну как у Пастернака в недавно прочитанном, непонятом, но оставшемся в памяти навек от той весны 1956 года стихотворении:
- Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
- Где даль пугается, где дом упасть боится,
- Где воздух синь, как узелок с бельем
- У выписавшегося из больницы.
Летом Сева с мамой поедут на воскресенье в Переделкино, там в деревне Чоботы дядя Коля снимает дачу. На берегу переделкинского пруда Сева увидит: размашистым широким шагом по диагонали к берегу спускается седой, высокий, не по возрасту бодрый старик, и Сева, никогда не видевший его портретов, угадает: Пастернак. Удивительное сходство облика поэта с его стихами, не поддающимися разгадке с применением буквального значения написанных слов. Кстати, имя его тоже звучанием ближе к стихам, чем к буквальному значению какой-то овощной травы.
Это будет летом, а весна вся пройдет в изумлениях. Оказалось – вот открытие! – взрослые и без Хрущева знали, что Сталин преступник. И мама знала, и ее подруги тетя Женя и тетя Юля, а тетя Катя в тридцать восьмом сумела вырвать из лагерей своего мужа Петра Харитоновича. История с Петром Харитоновичем вообще была удивительная, и Сева много раз потом будет слышать о ней от школьников тридцатых годов. В один прекрасный день у них стали изымать тетради с портретом Пушкина, выпущенные «Учпедгизом» к 100-летию дуэли. Будто бы там на штриховом фоне можно разглядеть фашистский знак. Самые дотошные, прежде чем отдать тетрадку, рассматривали в поисках свастики штрихи через лупу, но так ее и не находили. По той простой причине, что ее не было. А были должности заведующего и его зама редакцией художественного оформления, и были жаждущие их получить. По странному стечению обстоятельств клише пушкинского портрета оказалось у Петра Харитоновича дома, а обыск провели так халтурно, что, перевернув весь дом, на них даже внимания не обратили – все искали брошюры Троцкого или Бухарина, каковых тоже не нашли. С этими клише, не выпуская их из рук, не уступая требованиям оставить столь ценное доказательство у следствия, тетя Катя целый год обивала пороги Лубянки и Генеральной прокуратуры и в конце концов добилась полной реабилитации мужа, который к тому времени получил свои десять лет и отбывал их под Воркутой. А друга Петра Харитоновича и подельника освободить не удалось при всей очевидности отсутствия вины. Он выйдет на волю только после войны, на которой героически погибли его родители и брат. И то с лишением права жить в Москве и Ленинграде. Они много наговорили на себя, не выдержав спецметодов дознания. Когда снимают протез и бьют по источенному туберкулезом коленному суставу, выдержать можно, но если резиновой дубинкой по ушам – подпишешь любую чушь, говорил потом Петр Харитонович. Еще он говорил, что нигде не встречал так много и вместе умных, образованных людей, как в лагере. И те несколько месяцев, что он провел на каторге, были самыми интересными и плодотворными в его развитии. До сих пор Сева полагал, что каторга была только при царском режиме. В советской юстиции это слово было изъято из оборота: нет слова, нет и факта, им обозначенного.
Сева был оскорблен тем, что, когда он плакал над мертвым Сталиным, никто ему не сказал правды о тиране.
– А как тебе скажешь, когда ты с Павликом Морозовым да Зоей Космодемьянской носился.
– А Зоя-то при чем?
– Да, ты, пожалуй, прав. Ей просто с мамой не повезло. У меня это никак в голове не укладывалось: узнать, что твой ребенок погиб, и тут же бежать выступать по радио, как я воспитала дочку патриоткой. Не по-людски это.
После этого разговора из Севиной читательской памяти стали проступать вроде бы забытые сомнения. Как и все советские дети, он взахлеб прочитал классе в третьем или четвертом «Повесть о Зое и Шуре», но странный осадок остался от нее. Зоя, которой следовало восхищаться, никакого восхищения не вызывала. Она показалась ему особой неприятной – из породы тех девочек-ябедниц, которые из кожи вон лезут, чтобы угодить учительнице, а со сверстниками держатся жестко и прямолинейно. Сейчас бы он обозначил это словом «безапелляционно», но тогда он просто не знал его. Сева навидался таких девочек в детских садах и пионерских лагерях и немало потерпел от их честных разоблачений в грехах, о которых он впервые слышал в момент разбирательств. А второй герой этой книжки, Шура, прошел какой-то неясной тенью, он остался лишь в заголовке, и сквозь унылые похвалы ему проступало, что Зоя – мамина любимица, а Шура – отверженный, и его даже жалко было. А еще эта книга поколебала уверенность в том, что при допросе у Зои выпытывали, где Сталин, а она им в ответ выкрикнула: «Сталин на своем посту!» Какому идиоту в глухой деревушке придет в голову задавать такой вопрос поджигательнице конюшни? Но это был закон газетного жанра, и простодушные бойцы Красной армии, для которых правда – все, что прописано в газете, веровали, что так оно и было. И Сева, отогнав мелькнувшее сомненье, верил детской душою. Но ведь запомнил. Значит, не такая простая у него душа.
И память мгновенно подняла со своего дна нелепости, вычитанные из других книг. Как вредители, врачи Левин и Плетнев, отравили Горького. Сначала с помощью его секретаря простудили до смертельной горячки его сына Максима, а когда это не помогло – отцовское горе не сломило буревестника революции! – стали разрешать Алексею Максимовичу разжигать костры на даче. А ведь знали, гады, что дым вреден его больным легким. Другой враг народа, Ягода, чтобы извести товарища Менжинского, распорядился покрасить стены в его кабинете масляной краской. И верный сын партии, друг и соратник Сталина погибает, отравленный краской, от астмы. Так что Сева сгоряча и Ягоду в своих глазах реабилитировал. Обвинение против этого мерзавца было составлено так, что об истинных его преступлениях на процессе и не заикались. Да ведь и Берия, по тогдашним газетным разоблачениям, – не палач советского народа, а английский шпион. Вот тоже повод для размышлений: как-то странно выглядел заурядный шпион при такой высокой должности в государстве. А ведь это совсем недавно было, уже после смерти Сталина, чего боялись сразу правду сказать? С Берией была связана еще одна загадка. Отлученный со своего двора, Сева ездил гулять к двоюродным братьям на Покровку. Там над ним почти не издевались сильные ребята, принимали в игры, а когда однажды Сева забил гол, эту новость не без насмешки передавали из уст в уста года полтора. Там Сева прошел еще одно испытание. Играли в казаки-разбойники. Сева вдвоем с Димой Устимцевым оказался в стане разбойников, и, удирая от казаков, они оказались на чердаке. Дальше ход был один – пройти на высоте третьего этажа по карнизу метров тридцать. Димка, уже не первый раз проделавший такой путь, дал единственный совет: «Смотри только в небо». Сева в азарте игры преодолел это расстояние. Потом, когда спустился вниз и посмотрел на целых тридцать метров по карнизу шириною меньше ступни вдоль брандмауэра, коленки подкосились от страха.
В один прекрасный день Димка Устимцев удивил. Он бегал по двору и кричал:
– Ура! Да здравствует товарищ Берия! Он дедушку освободил!
Оказывается, Димкин дедушка – врач-вредитель, разоблаченный Лидией Тимашук. А с сыном генерала МГБ, инициатором дела врачей, Сева учился в одном классе. Оба почему-то не любили друг друга, но вражда была совершенно детская, неполитическая. У него в классе был еще один мальчик, ближайший Севин приятель, который исчез при загадочных обстоятельствах одновременно с недругом. Это было в шестом классе, когда с Севой случилось несчастье – у него начался костный туберкулез, и, хотя застигли болезнь на самой ранней стадии, на целых полгода Сева загремел в больницу. Как раз в этот год объединили мальчиков и девочек, и Сева вернулся в класс, наполовину опустевший от старых приятелей. В больнице же он был единственным двенадцатилетним шестиклассником: туберкулез – болезнь городских окраин, Сева попал в среду неинтеллигентных подростков, легко отвадивших его от привычных систематических занятий, и возвращение в родной класс оказалось процессом весьма мучительным: он выбился из общего ритма развития, безнадежно отстав в учении, а в знании иных реальностей далеко опередив ровесников. Короче, он стал отпетым двоечником. Кроме ребят, перешедших в бывшую женскую школу, из Севиного класса исчез генеральский сын. Рассказывали потом, что какой-то старинный друг его мамы забрал их в Оренбург, где усыновил детей бывшего замминистра и сменил им фамилию. Но и Севин приятель тоже пропал.
Он пришел к ним в четвертом классе, и как-то, когда Сева, обиженный генеральским сынком, посетовал ему, ответил: «Да он всегда такой противный был. Мой папа с его отцом работал, и мы в одной школе учились в первом и втором классах». Друг жил в доме на углу площади Маяковского и Садовой-Триумфальной, у них были две тесные комнатки, одна из них проходная, и ждали квартиру в высотном доме у Красных ворот. Но квартиру им дали не такую роскошную, как ожидалось, а гораздо скромнее – двухкомнатную в Сокольниках. Сева несколько раз ездил к приятелю в гости, а когда вернулся из больницы, первым делом позвонил ему.
– Здесь таких нет.
Как нет? Может, телефон сменили? Сева не поленился, съездил. Ему открыла незнакомая женщина и подтвердила: здесь таких нет. Высотку у Красных ворот, как много лет спустя узнает Сева, строили для высших чинов Министерства путей сообщения. Но папа генеральского сына служил по другому ведомству. Еще какое-то время спустя Сева нечаянно узнает, что в структуре МПС были политотделы – партийный комиссар и заместители, причем первый – генерал МГБ. Пока Сева лежал в больнице, прошла серия арестов в верхушке этого ведомства. Всех, кто не угодил в процесс Абакумова, через год-полтора выпустили. Когда в восемьдесят шестом году Сева прочтет в «Вечерке» некролог с сообщением, что гражданская панихида состоится в Доме железнодорожника, его догадка подтвердится. А уже в годы перестройки это имя назовет в интервью поэт и бывший зек. Но это все будет, а пока Сева чувствует себя вовлеченным в самый центр исторических событий.
И столько мыслей обрушилось на голову четырнадцатилетнего мальчика, впору с ума сойти. К лету власти созрели и выпустили постановление «О культе личности Сталина и его последствиях». Сама формулировка – «культ личности Сталина» – какая-то очень уж робкая и никак не соответствует «последствиям». Речь идет о немыслимых преступлениях, а тут какие-то невинные славословия, подумаешь – честолюбие вождя тешили. И как-то так у них получалось, что какой-нибудь полузабытый Всеволод Вишневский со своим блеклым «Незабываемым 1919-м» едва ли не главный виновник кровавой эпохи. О властях, уличив в преднамеренных умолчаниях и лжи, Сева стал говорить «они». Как взрослые.
Наконец, этот странный звонок с Лубянки. «Это квартира Николая Андреевича Фелицианова?» Старый брюзга дядя Коля, по документам расстрелянный, на какое-то время вырос в Севиных глазах, превратился в героя.
А мама стала, как на работу, еженедельно ездить на Кузнецкий мост в приемную КГБ. Она искала следы дяди Жоржа, своей двоюродной сестры, сгинувшей во Владивостоке в тридцать восьмом году. Тетю Ванду взяли как дочь полковника царской армии. Тогда же арестовали и ее брата дядю Владислава. Но тому повезло. С ним в камере оказался умудренный тюремным опытом старик, который посоветовал дать какие-нибудь такие показания, чтобы никого из друзей и знакомых не зацепить. «Я здесь стольких невинных навидался – никого отрицание не спасло». И дядя Владислав на ближайшем допросе «раскололся». Он объявил себя шпионом фашистской Германии, завербованным учителем немецкого языка. Но к шпионской деятельности не приступил, поскольку резидент умер. «А что ж ты раньше не признавался?» – «Так вы ж меня обвиняли в том, что я польско-японский шпион. А я хоть и поляк, но к их разведке никакого отношения никогда не имел, так же как и к японской». Ровно через полгода после ареста дядю Владислава выпустили. Он погиб на войне в сорок третьем году, командуя артиллерийской батареей на Курской дуге. В некрологе в дивизионной газете сообщалось: «Геройски погиб сын старого русского солдата…» А дочь старого русского солдата так живой из лап НКВД и не выбралась. В справке о реабилитации ее смерть датировали тем же 1943 годом, хотя мама после долгих самостоятельных расследований поняла, что кузину Ванду расстреляли вскоре после ареста. Почему-то в органах в период реабилитации действовала мародерская истина «война все спишет», а потому именно ее годами завершали приговор «десять лет без права переписки». Формула приговора – для внешнего использования, чтобы родственники расстрелянных не теряли надежды и с еще большим энтузиазмом возводили светлое здание социализма.
В очередях на Кузнецком к маме прибилась бледненькая белесая девушка, работница кондитерской фабрики. Эту девушку Майю мама привела как-то домой, и за чаем та поведала свою историю.
Она родилась и жила в Киеве с мамой, папой и бабушкой в огромной квартире чуть ли не на самом Крещатике. Единственное, что помнила, – двустворчатые остекленные двери, и как солнце сияло сквозь листву, и солнечные квадраты на паркетном полу. Детские ранние воспоминания, отметил про себя Сева, всегда почему-то начинаются с ярких солнечных бликов, а уж в их освещении – все остальное: мамино платье, уколы отцовской щетины, шкаф, пугающий огромными габаритами, игрушки… Откуда-то знала, что у папы был друг с необычайной фамилией Косиор. Больше из киевских лет Майя не знала ничего – вдруг все прекратилось, бабушка привезла ее в Москву, и здесь, на самой окраине, они поселились у тетки Евдокии – суровой, неласковой вдовы или старой девы, этого Сева не запомнил. Жили они теперь втроем в холодном, вечно сыром бараке, и перед самой войной бабушка умерла. Тетка была злая, обиженная жизнью и завистью к младшей сестре, хоть и отмщенной, и теперь всю боль и досаду срывала на подброшенной сироте. О родителях ничего толком не говорила, то ли в командировке, то ли в войну сгинули, хотя война-то началась, когда бабушка Майю сюда привезла, но и на это недоумение тетка отмалчивалась. Видно только, что не любила ни сестру, ни мужа ее. Закончить школу тетка Майе не дала – выгнала после седьмого класса искать работу, да такую, чтоб с общежитием.
И вот что странно. Рабочие требовались повсюду, ее охотно брали, но где-то через неделю-другую вызывали в отдел кадров и под тем предлогом, что мала, увольняли. Когда Майе исполнилось шестнадцать лет, тетка сама взяла ее документы и отправилась в паспортный стол. Майя, получив паспорт, стала привыкать к новой, теткиной фамилии. Зато ее сразу взяли ученицей на кондитерскую фабрику, в шоколадный цех.
Главенствовали там передовицы производства – дородные тетки, которые таскали домой все, что только можно было украсть, но молодым не дозволялось и шоколадной крошки схватить. Почти не таясь, эти ударницы социалистического труда ополовинивали нормы коньяка и рома, предназначенные для подарочных наборов, и все им сходило с рук. Молодыми же помыкали нещадно.
Майя все искала своего отца, выспрашивала о нем всех, кого можно, и в одном доме ее познакомили с каким-то важным человеком по фамилии Лисюцкий, который пообещал ей помочь, а через неделю вызвал ее в тот же дом, где они познакомились, попросил оставить их одних и ошарашил девушку внезапным вопросом:
– Что ж вы не сказали, что ваши родители репрессированы?
– А что это такое – ре… репрессированы? – Майя едва управилась с незнакомым словом.
– Отвечаю. Я навел справки по своим каналам. Ваш отец был арестован и осужден как враг народа. Судя по вашему вопросу, вы не ввели меня в заблуждение, а на самом деле ничего не знали. Советую на будущее – никому никогда никаких вопросов об отце не задавать.
И только сейчас выяснилось, что Майин папа – ни мало ни много бывший Председатель Совнаркома Украины. Когда Майиного отца реабилитировали, она уехала в Киев, и больше ни слуху ни духу о ней не было.
Сева был не умный – умнеющий. И процесс набирания разума резко ускорился.
В школе появился молодой рыжий учитель. Он вел в десятом классе литературу, а до седьмого докатились отголоски его славы. Дескать, уроки ведет – заслушаешься, но на опросах свиреп, как лев. Вздыбленная грива увеличивала сходство с царем зверей, несколько подмоченное очками с мощной диоптрией.
А первого же сентября этот очкастый лев явился в Севин класс.
Звали его Марк Аронович Штейн.
Начал он весьма необычно, хотя тема вроде ни к каким неординарным поворотам не подводила. Литература, сказал он, от латинского «литера», буква. И все, что написано буквами, уже есть литература. Тут же показал в окошко – на стене противоположного дома мелом начертано: «Саша + Таня = любовь». Вот это уже литература. Но мы ее изучать не будем. Это не художественная литература. Это, скорее, послание потомкам, если оно сохранится, как берестяные грамоты в Новгороде. Потом он стал говорить, что по литературе лучше вести толстые, общие тетради и писать на одной стороне. Вторая, левая, – для заметок по поводу.
Севины руки в момент сосредоточенности не знали покоя. Вечно он рисовал какие-то углы, рожицы, самому неведомые иероглифы, а то вдруг – паровоз и длинную цепь вагонов. Марк Аронович, объясняя, ходил по рядам вдоль парт и как бы в подтверждение мысли, как все же надо вести эти тетрадки, продемонстрировал на весь класс Севину – с рожицами, углами, иероглифами и паровозом.
Взрыв хохота не обидел, тут была добродушная ирония, и с этого момента Сева полюбил учителя. Хотя причины для любви проявятся позже, когда дело дойдет до Новикова, Фонвизина и Радищева. Литература восемнадцатого века совпадет по времени со скандалом вокруг романа Дудинцева «Не хлебом единым». Бывают моменты, когда произведения сомнительных художественных качеств, проповедовал тогда Марк, пробуждают общество с такой силой, что след, оставленный ими в истории, оправдывает все литературные слабости. В пример привел радищевское «Путешествие…», роман Чернышевского «Что делать?» и это сочинение Дудинцева. Судьба Симонова, изгнанного из редакторов «Нового мира», пошла в историческую параллель с судьбой Новикова.
Когда дело дошло до «Горя от ума», класс убедился, что не умеет читать. Марк Аронович вызвал старательную Леночку Лузянину, и та бойко оттарабанила по учебнику что-то о Чацком – выразителе чаяний декабристов.
– Очень интересно, – резюмировал Штейн. – Стоит, правда, заметить, что есть разные точки зрения на сей счет. Вот Александр Сергеевич Пушкин полагал, что Чацкий… как бы вам помягче выразить… что он просто-напросто неумен.
И прочитал притихшему от изумления классу отрывок из известного письма Пушкина Бестужеву. Потом он предложил такую игру: отметить фразы, ставшие пословицами, и посмотреть, из чьих уст они вылетели. Таково было задание на дом.
Задачка, однако. Справившись с нею, Сева обнаружил, что речь Чацкого не так уж богата афоризмами – «Я глупостей не чтец…», «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «А судьи кто?», «Карету мне, карету!» Вот, пожалуй, и все. Зато у Фамусова что ни слово – золото. Тут Сева уперся в стену. Чацкий ему намного симпатичнее, хоть и не признал за ним Пушкин ума, а Фамусов с его мудростями… Ну о чем тут говорить.
Первую пятерку у Штейна Сева получил как раз за то, что простодушно признался в неразрешимости задачи. Урок превратился в дискуссию до хрипоты, разве что не обзывали друг друга подлецами и оглашенными придурками. Только под конец, когда пар вышел, Марк Аронович подвел итог.
Он расставил уйму пятерок и сказал, что удовлетворен тем, как ребята глубоко проникли в текст грибоедовской комедии. А фамусовские пословицы потому и вошли в русскую речь, что они – плод житейской мудрости, выработанной задолго до Фамусова. Это правила приспособления к режиму. Хороши или плохи – другой вопрос. Они крепки, и с налету, эмоциональным порывом такую крепость не возьмешь. Заодно Штейн дал понять, что такое истинная литература – это та литература, где каждый персонаж защищен логикой своего поведения и тем самым психологически оправдан. И предложил факультативно прочитать «Гамлета» и провести параллель между мнимо сумасшедшим принцем и Чацким и грибоедовской Софьей и Гертрудой. Факультативно – значит, не обязательно, и к следующему уроку только Сева и прочитал «Гамлета». А параллели в самом деле интересные, и мысли, ими вызванные, догоняли Севу много лет спустя.
Дальнейшие отношения со Штейном у Севы были не из гладких – Марк Аронович был классным руководителем, а Сева, он ведь из отпетых двоечников, и в классе, где ценились наглядные успехи, был где-то в социальных низах. Место внизу было завоевано еще в ту пору, когда ценились не отметки (до шестого класса они у Севы были сносные), а физическая сила. И хотя поставить себя в классе Сева до конца школы так и не сумел, но с того памятного урока Сева почувствовал твердую почву под ногами. Иногда даже удавалось доказать свое превосходство над всеми. Где-то к концу года вспыхнул спор о том, что интереснее читать – реалистическую прозу или романтическую, полную приключений в путешествиях и войнах. Сева один выстоял против всего класса: он давно задвинул в дальний угол Жюля Верна и недочитанного Гюго. «Обыкновенная история» Гончарова, освоенная вслед за «Героем нашего времени» и излечившая от позерства, показалась куда как интереснее. Хотя класс решил, что Сева просто хочет понравиться учителю.
Экая чушь! Только позавчера Ароныч испортил мамин день рождения. В самый разгар праздника он позвонил и целый, наверное, час ябедничал на Севины двойки по английскому, физике и геометрии. Мама вернулась бледная и вместо вина принимала валерьянку. А все гости позорили Севу, его непроходимую лень и безответственность. Даже дядя Жорж – и тот смотрел на племянника с укором.
Дядя Жорж явился в дом внезапно в октябре.
Сева был во всей квартире один. Он читал. Когда Сева читает, мир отсутствует, и звуки его доходят не сразу. Отсюда и возникла неловкость. Раза с четвертого он расслышал настойчивые звонки в дверь. Пошел открывать.
На пороге стоял высокий лысый старик, в котором угадывались отцовские черты, но только угадывались – полного сходства не было. Но Сева и так понял, что перед ним дядя Жорж. Его ждали, о нем говорили, но никто не знал, когда он должен приехать: телеграммой он почему-то пренебрег, а путь из глубины Сибири далек и долог.
– Всеволод Львович? – спросил гость, чрезвычайно мальчику польстив, его еще не называли по имени-отчеству, разве что в шутку.
– А вы дядя Жорж?
– Да-с, Георгий Андреевич Фелицианов к вашим услугам.
– Пойдемте к нам, я провожу.
Но старик оказался бойкий, опередил Севу и безошибочно направился по извилинам просторной коммунальной квартиры к комнате Фелициановых. Хотя чему тут удивляться – дядя Жорж прожил здесь гораздо больше, чем сам Сева.
Комната имела вид неприглядный. Сева перед приходом гостя обедал, и над пустой тарелкой торчала книга, прислоненная к хлебнице; неубранная кастрюля с супом и грязная сковорода дополняли унылый натюрморт. Войдя вслед за дядей Жоржем, Сева вдруг увидел дом чужими глазами и готов был теперь провалиться от стыда. Убирался-то он перед маминым возвращением с работы и теперь был застигнут врасплох, как завтракающий аристократ художником Федотовым. Разумеется, и пыль издевательски клубилась по углам и ровным слоем покрывала поверхность книжного шкафа, буфета, радиоприемника и статуэтки богини Дианы. Юный хозяин засуетился, схватился за грязную посуду, бросил, за тряпку, но дядя Жорж остановил:
– Не надо. Я и не к такому привык. Мне уютно и спокойно, а больше ничего и не требуется. А что это вы читаете, молодой человек?
Молодой человек читал детектив из серии «Библиотека военных приключений» про шпиона, который вставил искусственный глаз окривевшей овчарке, а в глазу был вмонтирован фотоаппарат. Собака охраняла секретный завод, бегала по его территории и таким образом посвящала негодяя в самые сокровенные тайны советской военной промышленности. Как раз над тарелкой и разворачивались разоблачающие события.
Сева начал было рассказывать и вдруг сам увидел нелепость этой захватывающей истории. Ведь собаке, чтобы охватить объективом панораму цеха, надо вырасти по крайней мере с человека, а то и выше.
– М-м-да, богатая фантазия, – заметил дядя Жорж. – Хорошо, однако, что у вас, юноша, есть здравый смысл и критическое настроение ума. А сколько времени вы убили, чтобы прочитать это?
– Да вот вчера вечером начал и сейчас после школы. Ну еще на физике под партой читал.
– Прекрасно! Вы потратили почти сутки, чтобы убедиться, какая это чушь. Хорошо хоть сами поняли. Но вообще-то не советую тратить время на подобную пакость. Шпионов гораздо меньше, чем шпионских детективов. А работают они так тонко, что никакая книжная бдительность не спасет. И вообще эта профессия такая же скверная и подлая, как ловля шпионов.
Сей парадокс озадачил Севу. Он уже понимал, что при Сталине сажали невинных, но доверие печатному слову еще не рассеялась, и очевидная глупость, набранная типографским шрифтом, воспринималась им как частное недоразумение. Во всяком случае, в обилие агентов американской разведки он пока верил, и та шпиономания, в которой воспитывались советские дети в начале пятидесятых годов, еще не выветрилась из его головы, хотя он давно забыл, как на прогулках выслеживал подозрительных стариков. Вспомнил, посмотрел на дядю Жоржа и вдруг покраснел: уж этого-то старца с острым взглядом точно бы принял за врага.
– Чем же она скверная, эта профессия? Ну, я про ловлю шпионов…
– А там все на лжи построено. На лжи и провокациях. В разведку и контрразведку отбираются люди одного склада, и это отнюдь не лучшие экземпляры человечества. А в той атмосфере бдительности, что была при Сталине, настоящим шпионам жилось легче всего. Если верить обвинениям, перед вами, юноша, агент целых трех разведок: французской и германской в 1926 году и американской в 1948-м. Году к сороковому в лагерях сидели сотни тысяч разоблаченных немецких шпионов, только немцы к началу войны почему-то знали расположение всех наших секретных аэродромов и оружейных складов. Вот тебе и бдительные чекисты! Не читайте, юноша, шпионских книжек – людей там не найдете, мира не узнаете, а глупость авторов заразительна и для неокрепших мозгов просто вредна.
– Но ведь это же напечатали.
– Тем более скверно. Вы бы, Сева, русскую классику почитали, это надежнее. Что у вас там в школе по литературе проходят?
– Классицизм. Теорию трех штилей Ломоносова.
– О, детство русского языка! Прелестная эпоха.
– Чем же прелестная? Скучные длинные оды, а язык тяжелый, невразумительный.
– Да нет, были и тогда неплохие штучки. – Дядя как-то хитро улыбнулся и продекламировал:
- Стоит древесно,
- К углу приткнуто,
- Звучит прелестно,
- Коль пальцем ткнуто.
Се – Василий Тредиаковский. Это его впечатление о клавесине. По-моему, очаровательно. Но русский классицизм для постижения труден. Речь наша еще как следует не сложилась. Вот до Крылова дойдете…
– Ну-у, Крылов, – вздохнул Сева. – Это уж слишком просто.
– Читать его, конечно, просто. А писать? Он ведь был первым. Поди-ка напиши в самый первый раз:
- По улицам слона водили.
- Как будто напоказ.
Вот это «как будто» дорогого стоит. Здесь и бытовая речь, и тайная ирония, и пластика. А критика от всего этого нос воротит, вульгарность видит… И никакой славы – ну что Крылов? Вот Державин, Карамзин, князь Шаликов, адмирал Шишков… Только после этого «высоким стилем» писать как-то стыдно, сразу видна его выспренность и ненатуральность. О, это была великая смелость.
Опять парадокс! Дедушка Крылов – и смелость.
– Он что, герой, чтобы о смелости говорить?
– Ну, в известном смысле и герой. Ведь смелость одного корня с умением, смел – значит, сумел. А еще больше смелость имеет отношение к уму, чем к простой воинской отваге. Это одоление духовного страха. Страх духовный крепче физического, его порывом не одолеешь.
Часы в соседней комнате пробили пять. Только тут Сева спохватился – надо маме на работу позвонить, в комнате хотя бы видимость порядка навести, а дядю перебить как-то жалко. «Юноша», «вы» и вполне взрослая тема – все это было внове, никто с Севой так не разговаривал, но маму же надо предупредить, может, в магазин пошлет и вообще…
Дядя увидел озабоченность на Севином лице, оборвал себя на полуфразе:
– Ну, я долго еще могу рассуждать, а у вас-то дела, уроки. Вы занимайтесь, занимайтесь, а я прилягу на часок.
Сева достал подушку и плед, пошел звонить маме, а когда вернулся, комнату заполнил столь густой храп и присвист сквозь него, будто на диване рота солдат расположилась.
Дядя Жорж прожил у них тогда полтора месяца, пока не нашел себе пристанище на самом краю Москвы, в Кожухове. Там, в старом деревянном бараке, жила его довоенная пассия, некая Лидия Самсоновна, приютившая его когда-то в городе Зубцове. В войну ее угнали немцы, а в сорок пятом освободили наши войска и, счастливую, полную надежд, отправили в лагерь где-то на Печоре. Вернувшись из заключения, она устроилась в Доме культуры ЗИЛа библиотекарем, и завод предоставил ей комнату в длинном сыром бараке, где все пропиталось запахом гнилой древесины. Дядю Жоржа она и не пыталась отыскать, не верила, что он жив. Они случайно встретились где-то в магазине – охи, ахи, слезы, и дядя Жорж переехал к ней. Возникновение этой дамы в жизни Георгия Андреевича произвело шок в интеллигентных домах – уж очень дикой показалась связь старинного интеллигента с грубой зубцовской мещанкой. Все почему-то жалели дядю Жоржа, вздыхали о том, что он опускается, что эта особа крепко вцепилась в его душу, созданную для полета.
Дядюшкин переезд принес, конечно, облегчение – при ближайшем рассмотрении Фелицианов-старший оказался стариком, несмотря на крутые повороты судьбы, чрезвычайно избалованным и капризным. Когда-то он был у покойной бабушки любимцем, в детстве Жоржика берегли от страшного окружающего мира, в юности носились с его талантами, все ему дозволялось, а он задирал нос, презирал младших братьев, сделав, правда, исключение для Севиного папы, да и то когда тот подрос. Он был даже не эгоист, как другой дядюшка – Николай, а эгоцентрист. Требовал не столько обслуживания, сколько уважения до полного преклонения перед собой. И тут он столкнулся с неодолимой маминой гордостью. Ссор не было, но обстановка в доме была какая-то напряженная, от нее все порядочно устали.
Сева первое время глядел новому дядюшке в рот, с энтузиазмом бросался исполнить любую его просьбу, а дядя и рад был эксплуатировать племянника и как-то быстро начал им даже помыкать, а Сева, соответственно, увиливать от новых просьб. Но все равно за Севой осталась обязанность стелить и убирать раскладушку, бегать в магазин по десятку раз на дню, потому что по возвращении из булочной выяснялось, что дядя Жорж забыл попросить друга любезного купить газет, а вернувшись с газетами, надо было бежать за спичками… Наградой поначалу были лагерные рассказы в кругу взрослых, и, разумеется, Сева слушал их, навострив уши, но очень скоро эта тема как-то иссякла, дядюшка стал повторяться, лишь иногда возникали какие-то новые воспоминания, например, о князе Павелецком или протоиерее Фелицианове – дальнем родственнике, с которым дядя Жорж познакомился лишь в лагере. Интересно было разговаривать с дядей Жоржем о литературе, но однажды он вздумал заниматься с Севой английским, и тут их дружба едва не рухнула: Сева был упрям и ленив, а Георгий Андреевич нетерпелив и раздражителен. И в конце концов оба друг друга извели до полного изнеможения. Дядя Жорж Севе, признаться, надоел.
А уход тотчас же образовал какую-то пустоту в доме. Пустоту и общее недоумение: как это такой рафинированный интеллигент может ужиться с женщиной вульгарной, лишенной элементарного вкуса и не очень воспитанной. Нет, взрослые дядю Жоржа не осуждали, наоборот, «входили в положение»: что ж вы хотите, говаривала мама, Жоржу нужна женская рука – готовить, обстирывать, нос вытирать, он же с детских лет избалован. В положение входили, но видеть дядюшку вдвоем с супругою никто не желал. В гости к нему ездили только на день рождения и именины, его же самого принимать старались одного. Уж больно шумна и вульгарна была эта Лидия Самсоновна. А дядя при ней как-то тих и угнетен. И, что стало неприятной новостью для мамы, например, несколько пьющ.
И отношения на несколько лет подувяли. Только году в шестидесятом начался новый период Севиной жизни под знаком дяди Жоржа. Природа сыграла со стариком злую шутку: его могучая Лидия Самсоновна рухнула в полный паралич, и старому барину пришлось целых два года ухаживать за нею, кормить из ложечки, таскать судно, менять белье. Конечно, ему помогали, Сева со старшим братом ездили на дежурства в Кожухово, Сева научился довольно ловко делать уколы, смазывать пролежни – хоть в фельдшеры нанимайся. Наградой за это был царский подарок – антология русской поэзии двадцатого века Е. Шамурина и Н. Ежова, изданная в 1925 году, и дядюшкины рассказы об иных авторах этой книги.
Со смертью Лидии Самсоновны Георгий Андреевич, так с ней и не расписавшийся, снова остался без своего угла. Дом в 3-м Колобовском, где он был прописан, снесли, старик проворонил тот момент, когда жильцам давали новую площадь. Перспектив получить жилье у Георгия Андреевича практически не было – откуда взяться квартире для тапера в районном Доме пионеров? Так что теперь он снимал комнатку в самом центре, в Савеловском переулке. Первое время Сева целыми вечерами пропадал у него. Но дядюшка продолжал эксплуатировать племянничью любовь, а поскольку острота беды сошла, к тому же Сева был в поре бесконечных романов, и период этот тоже стал постепенно угасать.
А вообще в Севиной жизни как-то так все получалось, что дядя Жорж возникал в моменты интеллектуального подъема. Сева полагал, что он сложился как личность под влиянием учителя Штейна и дяди Жоржа. Марк Аронович был из романтиков и проповедовал то, что потом, в период «Чешской весны», было названо социализмом с человеческим лицом. И надолго в этих иллюзиях застрял, боясь допустить мысль, что человеческого лица у воплощенных утопий не бывает. Дядюшка же как-то легко разрушил эту преграду в юношеских мозгах. Для него в революции не существовало никаких авторитетов, хотя нигилизма он тоже не терпел. Это еще в девятом классе, когда Сева не без влияния Штейна был очарован Базаровым, дядя Жорж вдруг срезал:
– Хам твой Базаров. И больше ничего.
– А как же Одинцова? Она ж оценила его ум, волю…
– Для отрицания, друг мой, большого ума не надо. А волевой напор – это и есть единственная сила хама. Одинцова и не устояла. Да Тургенев сам как-то сробел перед этой силой, и «Отцы и дети» писались с некоторой оглядкой на реальных базаровых – Добролюбова, Максимовича и всей этой братии. А от их проклятий все равно не спасло. Почитай лучше «Обрыв», всмотрись в Марка Волохова – этот написан смелее, без оглядки. Вот и увидишь: разнузданный хам.
– Но ведь история пошла за ними, а не за слабаками из дворянских гнезд.
– А что в этом хорошего?
– Ну как же, прогресс…
– Прогресс, конечно, вещь приятная, друг мой. Да только и его сила, как бы тебе сказать, не очень-то и гуманна. Вот изобрели атомную бомбу. Мы и американцы одним ударом способны умертвить миллионы людей. А как дело коснется медицины – мы все еще «на пороге великих открытий» топчемся, разве что с туберкулезом справились, да и то случайно, благодаря грязной пробирке у Флеминга. А рак, а инфаркт? Что до прогресса социального – не мне с моим прошлым его приветствовать.
– Дядя Жорж, вы же видели Россию отсталую, нищую и безграмотную, а сейчас…
– А сейчас полуобразованная. Была отсталая аграрная, а стала отсталая индустриальная. Да и тогда не такая уж отсталая была, это все легенды нашей пропаганды. Заметь кстати, больше сорока лет прошло, а как заговорят о достижениях советской власти, все с тринадцатым годом сравнивают. Что до всеобщей грамотности, от нее все равно б никуда не делись, требование века, зато вытоптали величайшую культуру. Уничтожили Мандельштама, Цветаеву, всячески унижали Андрея Белого, об Ахматовой и не говорю, а над ними возвысили Демьяна Бедного и всю эту шпану вокруг него. Вот тебе и прогресс! Кричат: «Все для человека», а промышленность гонят для его успешного истребления. Зато как хватишься ботинки или одежду купить – ничего нет, а если отыщешь, так надеть стыдно. И это все со сталинской индустриализации началось. Как бы не надорваться… И вот еще что, молодой человек. – Дядюшка вдруг снова перешел на «вы». – Вы заметили, что история пошла за Базаровым. Увы, это не так. Мы все не туда смотрели, целое столетие только и судачили что о Базарове. А смотреть надо было на молодого человека в венгерке, базаровского прихлебателя. История пошла за Ситниковым. А базаровых эта химера, пожирающая своих детей, использовав их лозунги, уничтожает. Как уничтожила Дантона и Мирабо, Троцкого и Бухарина.
А Марка Волохова Сева, одолев длинный гончаровский роман, возненавидел с первых же страниц. Он очень трепетно относился к книгам, и даже с плохими расставался не без усилия воли. И варварство «передового» Волохова, истреблявшего на курево прочитанные страницы бесценных изданий, взбесило нашего библиофила.
Спустя целую жизнь…
В июне 1962 года Георгий Андреевич пришел в Политехнический на лекцию, посвященную 150-летию И. А. Гончарова. Он пришел заранее и занял то кресло в четвертом ряду, из которого когда-то синие глаза с ироническим любопытством рассматривали лектора.
Выцвели синие глаза. И стали пронзительно-голубые. Они сосредоточились где-то поверх головы Фелицианова, да это, в общем-то, все равно. Едва ли б она узнала его. После двух отсидок, войны, романа с Бахусом, как Георгий Андреевич именовал периоды пьянства, он сильно поистрепался. А величественная старуха в строгом синем платье с овальной камеей, приколотой между кружевными кончиками открахмаленного воротничка, сохранила черты былой красоты, и достаточно было небольшого усилия памяти, чтобы сбросить минувшие сорок лет.
Ариадна говорила без бумажки, но не заученный текст, а размышляла по ходу. Она не боялась пауз, когда задумывалась, и вдруг с проясненной улыбкой сообщала как бы тут же рожденную догадку. Георгий Андреевич поеживался, когда она вот с такой вот наивно-простодушной улыбочкой целый период закатила об искусстве цензорства в период александровских реформ. Если уж и суждено служить в этом институте, то следует быть умным и употребить все силы, чтобы разжимать заржавевшие тиски. И не угодить собственной головой между зажимами. И привела блистательные примеры того, как ухитрялся Гончаров одурачивать собственное начальство и протаскивать крамольный номер «Отечественных записок» в печать. Параллель рискованная, зато аудитория рукоплещет, что удивительно, когда речь идет о полузнакомом для аудитории классике.
Лекция кончилась, но Георгий Андреевич долго еще пережидал, пока рассосется толпа вокруг профессора. А когда аудитория опустела совсем, как-то подрастерялся, выдавил из себя:
– Ариадна Викентьевна… Если вы помните… Моя фамилия Фелицианов.
– Да. Я почти узнала вас. Тебя.
– Если вас не обременит мое общество, я мог бы проводить вас до дому. – Фелицианов решил в точности повторить ту фразу, с которой начался их роман аж сорок четыре года назад.
– Не обременит, – с той же интонацией ответила Ариадна. – Только я теперь живу не на Девичьем поле, а много-много дальше. А час поздний. Впрочем, это не беда, переночуете у меня. Только бы такси поймать. В эти чертовы Черемушки не всякий согласится.