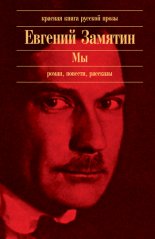Жилец Чехов Антон
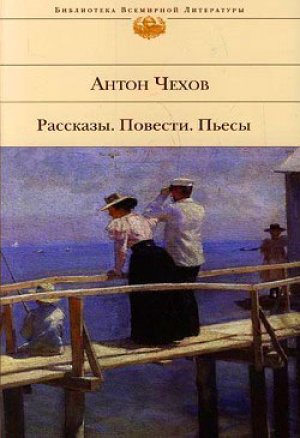
Мытарства войскового старшины
Знакомство с новыми обитателями особняка прошло как бы над головой рассеянного Фелицианова. Он весь уже был погружен в горюновскую рукопись. Дело дошло до слуховых галлюцинаций – Георгию Андреевичу явственно слышался голос несчастного войскового старшины. Хотя почему несчастного? Пулю он, видимо, получил сразу, а значит, избавился от пыток светом в бессонные глаза, от усердия местных добытчиков признаний где-нибудь в приграничном Овидиополе, где не стесняются надзора и выколачивают признание вины резиновыми дубинками. А выйти счастливым из переделок нового века едва ли кому дано. Счастлив был Горюнов или нет, но голос его прорывался из писарского витиеватого почерка и даже – после недолгого исчезновения с глаз – из букв отпечатанного на бесстрастной гэпэушной машинке текста. Внешности войскового старшины Фелицианов не угадал. Когда Штейн показал ему архивную фотографию четырнадцатого года, никакого интеллекта в глазах Горюнова не прочитывалось – обыкновенный казак, самодовольный, гордый новенькой офицерской формой и закрученными в парикмахерской усиками. Видно, и вырос балбес балбесом, пока война, революция и новая война не обременили душу страданиями, а голову – мыслями.
Конечно, Горюнов был отчаянный графоман, к тому же не очень перегруженный образованием. Происхождением из казачьей голытьбы, он прошел курс в городском училище для бедных в Нальчике, а дальше – кое-как добирал самоучкой. Беда еще в том, что в эмиграции его прибило к какой-то захудалой газетенке, где ему окончательно испортили вкус. Но больно уж талантливая личность проглядывала сквозь беспомощную попытку написать «роман моей жизни». Зоркий, недоверчивый глаз видел каждого, с кем Горюнов имел дело, насквозь. Ничего в военной профессии штатский до мозга костей Фелицианов не понимал, но в анализы бесчисленных боев с австрияками и немцами где-то в Галиции, потом за красных, за белых, снова за красных он, читая, погружался с неожиданным для себя азартом. И очень двойствен был тот азарт: он следил за ускользающей победой, желал ее, напрасно подгоняя повествование, и с ужасающей ясностью прозревал бессмыслицу всех этих смертоносных походов, боев, атак и отступлений. Что война гражданская была жестока и бездарна, он видел сам, о Первой же мировой представления у Георгия Андреевича до сих пор были туманны: ушей Москвы канонада не достигала, сначала все вокруг клокотали патриотическими эмоциями, которые быстро иссякли, от них остались казенные формулы, безликие лозунги, вызывавшие злую, усталую насмешку. А потом и на них перестали обращать внимание: война шла себе где-то там вдоль западных границ и поскорей бы кончилась, надоела. Горюнов, едва ли сам того желая, раздел войну. Глупость, жестокость, пьянство и воровство – вот все, что остается, когда сорвешь патриотические фразы сытых агитаторов войны до победного конца. Только над страницами горюновского романа до Фелицианова дошло, что в эту историческую прореху провалились миллионы безымянных, всеми позабытых людей, и теперь некому жертвы подсчитать.
А в то же время совершенно невыносимо было читать о любовных похождениях автора-героя. Его несло, как пьяного от стены к стене в тряском вагоне. То кидало в пошлейшую псевдоцеломудренную сентиментальность, и казалось (да так, наверно, и было), будто, кроме Чарской да Вербицкой, этот Горюнов ничего не читал. У него и фразочки выходили какие-то бабьи. Души вибрировали, тела содрогались, глаза полыхали огнем, а что творилось с несчастными сердцами – этими мышечными комочками с кровеносными сосудами – уж лучше б отсохла его рука. В сочетании с крестьянскими именами русских казачек, давно оторвавшимися от поэтического смысла древних евреев, эллинов и римлян, все это вызывало эффект комический. А то вдруг несчастный Горюнов просыпался грубым казаком, и его заносило в немыслимый натурализм, столь же неопрятный, как и сантименты, правда, ни у кого не заимствованный. Романист был крайне беспомощен, когда пытался мыслить и рассуждать за своих героинь. Тут и Фрейда не нужно, чтобы восстановить полную картину его эротических страданий, особенно в юности.
Невероятно интересны были дневники Горюнова, писанные в эмиграции. Фелицианов еще от Кости Панина слышал о галлипольском карантинном сидении, когда доблестные офицеры разбитых армий месяцами томились в палаточных городках на берегу Дарданельского пролива, вековечной мечты русских генералов, в какой-то сотне верст от Константинополя (войсковой старшина упрямо называл этот город по-старинному Царьградом, Стамбула же просто не признавал) в голоде и жажде, подвергаясь издевательствам турецких чиновников-крючкотворов. Те, видно, отыгрывались за минувшие победы христолюбивого русского воинства и робко оглядывались на Москву: не вздумает ли окрепшая Красная армия забирать назад опустевшие от русских Карс и Эрзерум; не поведут ли потакаемые Советами армяне войска – мстить за победы предков-сельджуков, за резню пятнадцатого года и уничтожение Кавказского корпуса в восемнадцатом году?
В этом, казалось, последнем унижении распадались личности. Не сразу: поначалу сбивались в стайки – по былым полкам, палаткам, старым и новым знакомствам. Стайки катастрофически быстро разрушались – командиры батальонов, полков и даже дивизий на глазах превращались в истеричек, визгливых и падких до обмороков. Смертельные ссоры происходили по сущим пустякам. Мало кому удалось сохранить достоинство в этой передряге, ничтожной по сравнению с самым легким лагерем в пределах советской России.
Горюнов держался чудом. Чудом своего спасения. По многу раз он вспоминал, как вели его на расстрел свои же казаки под надзором комиссара и, отличные стрелки, ранили в левое плечо, чтоб натуральней упал, а потом демонстрировали комиссару, как добили для верности штыком, пропоров шинель, а ночью вывезли в Ялту, еще ничью… Как-то перечитывая эти эпизоды о чуде, Фелицианов пришел в ужас. Наивный в делах конспирации войсковой старшина обозначил спасителей своих инициалами. Но палача-комиссара назвал полным именем – Култышкин Александр Семенович. Да и в других местах тех же казаков называл полными именами, не ведая, какое будущее им уготовил, когда дневники попадут на Лубянку. Георгий Андреевич ни минуты не сомневался теперь, что ОГПУ, завладев офицерскими записями, переловило всех этих добрых казачков.
Потом была долгая пора скитаний по европейским столицам – без гроша в кармане, без профессии, без языка, но с большой фанаберией, месяц от месяца, правда, тающей – доблестный штаб-офицер отборного казачьего войска, гордости русской армии. А кому в Париже или Вене нужна эта гордость? Гостеприимная Европа, царство свободы и демократии, вовсе не была намерена кормить двухмиллионную армию неудачников. И каждое утро храбрый воин, как нищий подаяния, выклянчивал самую пролетарскую работу – погрузить, разнести, убрать мусор…
И бесконечные сны о родной станице Слепцовской, об оставленной на произвол советской судьбы Олюшке, с которой не утерпел обвенчаться в августе двадцатого и теперь с тревогой вычитывал в газетах новости, пусть не всегда и достоверные, о том, как большевики расправляются с женами и детьми ненавистных эксплуататоров пролетариата и беднейшего крестьянства, сбежавших от карающей руки рабочего класса. Сны-кошмары и сны лирические, пронзенные светом и радостью, и не знаешь, что страшней: заново пережить погоню, тюремный сарай, расстрел, а утром ощупать себя живого или проснуться, ощущая хруст подсолнухова стебля в кончиках пальцев, отзвуки маминого голоса, запахи хаты, и увидеть убогие стены нищей мюнхенской квартирки, ошпариться мыслью о долге домохозяйке. Европейская реальность, по дневнику судя, не снилась никогда. С таких пробуждений и развилась, наверно, болезнь. Острая ностальгия, от страницы к странице переходящая в род шизофрении.
Сны свои Горюнов записывал, как сам он выразился, со стенографической точностью, но именно в этих записях в нем пробуждался художник – точность была именно такого рода: красочная, психологическая, музыкальная. Ему б таким языком да роман писать!
Но нет. Роман Горюнов писал для вечности, в назидание потомкам, а дневник – для себя, подальше от посторонних бестактных глаз. Вечное заблуждение талантливых писателей-самоучек: от одного только слова «роман» они начинают пыжиться, с легким пером обращаются, будто это не десятиграммовая железочка, а пятипудовая гиря, тужась и сочась горьким, удушливым потом, как силач на цирковой арене. Зато в текстах безответственных свободный талант поет, как птичка божия, перезимовавшая в клетке и выпущенная на волю в светлый праздник Благовещения.
Весь 1922 год Горюнов, не видя возможности легального возвращения на родину, где только расстрельная пуля да оставленная жена по нему плачут, рыщет по Европе в поисках какой-нибудь организации, которая готовит надежных людей для переброски через границу. Но лишь к исходу декабря его прибивает в Софию к врангелевскому генералу Самохвалову, основателю «Союза борцов за свободную Россию».
Генерал казался богат, удачлив и даже умен. Семейство свое и основной капитал он сумел вывезти в нейтральную Швейцарию еще в шестнадцатом году, подчинившись какому-то смутному предвидению. Его «Союз борцов» насчитывал десятка три бывших офицеров, жандармского штабс-ротмистра и несколько провинциальных общественных деятелей, людей пылких и на редкость бестолковых. «Союз» разрабатывал планы повстанческих движений в разных губерниях России, где остались «крепкие связи», а «свои люди» с нетерпением ожидали свержения совдеповского кровожадного режима. На генеральские средства, неумолимо, благодаря патриотическому энтузиазму Самохвалова, иссякающие, издавалась газета «Святая Русь», которая, начисто забыв о страданиях соотечественников, изнывающих под ярмом большевизма, отчаянно боролась с псевдоосвободительным «Движением за свободу Отечества» генерала Хлобыстова. Хлобыстов в свою очередь издавал газету «Православная Отчизна», которую всю, от начала до конца, под разными псевдонимами писал пензенский публицист Щелопанов – «золотое перо эмиграции». Насчет золота в его пере можно поспорить – легенды о содержании драгоценных металлов в его ручке-вставочке распускались, похоже, самим публицистом, но злой и едкой царской водки, без остатка растворяющей золото любой пробы, в его чернилах было предостаточно.
Алексей Пантелеймонович, виртуозно владевший казацкой шашкой, но книг за свою жизнь прочитавший едва ли полтора десятка, газет же не читавший вовсе, по генеральскому капризу был определен в редакцию «Святой Руси». «Святую Русь» тоже писал один человек – бывший хроникер суворинского «Нового времени» Иван Фомич Сухарев, уютный старичок в белой пикейной панамке. Мало-помалу и Горюнов стал строчить заметки, репортажи, потом даже и фельетоны, борясь с косноязычием русского воина, потея от непомерной тяжести труда, который раньше он и не почитал за труд – подумаешь, языком молоть! А ты поди помели! Нет, кули, набитые тяжелой влажной солью, таскать в марсельском порту куда как легче…
И все время ведь надо держать ухо востро, смело отражать выпады ехидного Щелопанова, не прощающего противнику ни единой оплошности. С таким бы умением да воевать! Однако ж стратег Хлобыстов, патрон Щелопанова, тем и прославился, что за три войны не выиграл ни одного сражения. Но в Софии кому до этого дело? И что проку от того, что в германскую Самохвалова отличал сам Брусилов, что в гражданскую Николай Петрович оборонял Ростов, брал Орел… Где теперь Ростов, где Орел? И где любимый главнокомандующий – продавшийся большевикам генерал Брусилов?
Смертельного врага Щелопанова Горюнов представлял себе этаким плешивым пузатеньким господинчиком с вечно пьяными голубыми глазками, вооруженными острыми, хищными зрачками; они на миг выскакивают, как мышь из норки, зорко осматриваются и тут же упрятываются в голубую похмельную муть. Встречал он таких господинчиков.
Года полтора войсковой старшина сражался с Щелопановым. За это время Алексей Пантелеймонович научился не только писать, но, к немалому своему изумлению, и читать. Оказалось, это целая наука, преподанная ему терпеливым редактором Иваном Фомичом. Сухарев заставил его прочитать «Капитанскую дочку», «Мертвые души», «Войну и мир» с тем, чтобы хоть попытаться понять, как это сделано. Самому Сухареву, судя по всему, уроки впрок не шли: статейки его писаны были кучерявым провинциальным слогом, тот же слог усвоил и прилежный ученик. Сухарев же посоветовал для обретения формы вести дневник с воспоминаниями о минувшем и событиями текущего дня.
В роман Горюнов ринулся сам.
23 мая 1924 года, как датирует это событие дневник, Алексей Пантелеймонович сидел на террасе турецкой кофейни, с тоскою глядя на восток, где за горами, за долами, за синими морями простирается равнодушная к нему родина. Писание дневника сыграло с ним злую шутку. Он втянулся в это грустное и бесполезное занятие, дневник развалился, превращаясь на глазах в невероятную смесь правды и вымысла, причем вымысел почему-то оказывался убедительнее и ярче простодушной правды. Он перестал понимать цели еженощного труда, тем более что по утрам обострялась тоска – глухая, черная, хоть горькую пей.
В таком-то состоянии из тяжкой задумчивости его вывел франтоватый господин лет не более тридцати.
– Очень приятно увидеть русского человека, с тоской взирающего на недоступный восток, – сказал господин.
– А откуда вы взяли, что я русский?
– По еврейской скорби в глазах.
Нельзя придумать большего оскорбления для казачьего войскового старшины. Казак может всю жизнь прожить, ни разу не увидев хотя бы одного еврея, но ненависть к несчастному племени растет из поколения в поколение. Так, мол, отцы и деды завещали.
– Да будет вам обижаться-то! Мы все теперь стали похожи на евреев – та же тоска во взгляде даже поверх улыбки, поверх безудержного смеха. Да мы и есть евреи – отовсюду гонимые, нигде и никому не нужные.
Так началась эта беседа, к концу которой выяснилось, что франтоватый господин и есть ненавистный публицист Щелопанов, золотое перо эмиграции.
– Мы здесь даже самим себе не нужны, уважаемый Алексей Пантелеймонович. Жизнь осталась там. Вот мне двадцать пять лет – счастливейший возраст, а я глубокий старик. Я живу старыми, дореволюционными мыслями, вижу старую, дореволюционную Россию, которой нет и никогда уже не будет. А впереди – черт его знает, что впереди… Целая, может и долгая, жизнь без цели и смысла, в поденном рабстве у сумасшедших старцев – что мой Хлобыстов, что ваш Самохвалов. Ей-богу, мне кажется, что наши генералы ничем не лучше большевиков. Дай таким власть – всю Россию утопят в крови, а что делать дальше с оставшимся населением, им неведомо, да они и знать этого не желают. Кроме дутого тщеславия, ничего от них не осталось.
Вот тебе и смертельный враг!
Поговорили и разошлись. И вроде ничего особенного – мало ли встреч было за годы скитаний да с такими людьми – не Щелопанову чета. Но этот молодой человек с беспощадной ясностью высказал мысли, которые беспокоили и самого Горюнова, но он боялся облечь их в слова, в четкие формулы.
И отныне Алексей Пантелеймонович, неблагодарный христианин, клял судьбу за чудо своего спасения. Который уж год носит его, вызволенного из-под расстрела, как мусор ветром, по миру без цели, без смысла. Хоть и на десять лет он старше Щелопанова, но жизнь впереди – долгая и заведомо старческая – страшила больше смерти. Он сдался болезни. Роман, который он начал писать в ночь с 23 на 24 мая 1924 года, не лечил, а, напротив, лишь усугублял ностальгию.
Возвращение в Россию стало навязчивой идеей. Любыми путями – но одним бы носком сапога на самый краешек русской земли ступить, а там хоть трава не расти над моею могилой. Путь был один – уговорить Самохвалова, располагавшего не только деньгами, но и своими людьми у границы, которые ведали контрабандные тропы.
Генерал был упрям и несговорчив. Он раз и навсегда определил Горюнова в редакцию «Святой Руси» и уже знать не хотел, что Горюнов из нижних чинов выбился в войсковые старшины, что он – кавалер Георгия 4-й степени и Владимира 3-й с мечами, что его боевой опыт побогаче, чем у какого-нибудь поручика Макина, который сгинул, едва дойдя до границы. Но судьба Макина как раз и стала на пути проектов Самохвалова. Это была уже четвертая группа, схваченная или уничтоженная чекистами. О двух – Павлова и Черемшина – сообщали советские газеты в судебной хронике, группы Лебедева и Макина исчезли бесследно; скорее всего, живыми не дались, а чекисты не большие охотники признавать свои промахи.
Навязчивая идея превращает психа в броневик. Перед ним падают все преграды. Больной ум становится изуверски изобретателен. Горюнов додумался писать самому себе письма от станичников Терского края, в которых казаки уверяли любимого войскового старшину, что они готовы в любой момент поднять по его приказу восстание против ненавистных коммунистов с их советами, комбедами и главным злодеем – ГПУ. А кубанские и донские – поддержат, уговор есть. Письма эти, якобы доставленные в Варну и Константинополь советскими матросами, а оттуда по цепочке – адресату, он приносил Самохвалову как верное доказательство срочной необходимости переправить его в Россию.
Генерал был неумолим.
– Уже четыре группы провалились. А я вас, голубчик, слишком высоко ценю, чтобы губить понапрасну.
– Так то были группы, а я – один. Мне помощники не нужны, их дома достаточно.
– Нет, голубчик, вы мне здесь нужны. Сухарев совсем уж плох, дряхлеет на глазах, а газета – дело хлопотное, без вас там полный зарез.
И на этот аргумент нашелся Горюнов. Он уговорил недавнего смертельного врага Щелопанова бросить своего маразматика Хлобыстова и блистать отныне золотым пером в «Святой Руси» за остатки эвакуированных богатств Самохвалова. Неподкупный пензенский публицист с легкостью согласился: вместе с последними крупицами ума у Хлобыстова заметно истаяли капиталы. Работать стало веселее, только вот беда – бороться не с кем. Тогда-то «Святая Русь» вспомнила о несчастных соотечественниках, брошенных ими страдать под игом большевиков.
Но лучше от этого Горюнов чувствовать себя не стал. Советский Союз через посольство стал покупать вместо двух пять экземпляров газеты, что могло означать лишь внимание к ним чекистов и агитпропа ЦК РКП(б); в эмигрантской же среде она, как и раньше, за солидную не почиталась, и подписчиков почти не находилось. Так что все их с Щелопановым усилия уходили в пустоту.
Ночами, отложив роман, Алексей Пантелеймонович сочинял письма, писанные корявой казацкой рукой, и в те часы сам верил собственным фантазиям. Воображение носило его на лихом коне по степным предгорьям Кавказа, он слышал, явственно слышал голоса своих товарищей, живых и убитых, их речь сама собой укладывалась на бумагу простецкими оборотами и казачьими пословицами. Хорунжий Пяткин, сотник Ловячий, ординарец Лука Васильчук, который дважды спасал его, когда в азарте боя оторвался от своих… Так ведь нет в живых ни Пяткина, ни Ловячего… А какое Самохвалову до того дело? Но уж больно письма от них выразительны получились!
Измученный пустыми надеждами, он являлся утром на квартиру генерала, где располагалась и контора редакции, писал вялые тексты, все заметнее уступавшие своей энергией прежним. А после обеда вновь одолевал сонного генерала планами казачьего восстания против совдепьей власти. Зачитывал ему письма покойного хорунжего Пяткина, сотника Ловячего; генерал кивал дремлющей головой, потом будто просыпался и отрезал:
– Нет!
Горюнов начинал снова, вооруженный затертой бумажкою с жалобами на жисть Луки Васильчука, написанными химическим карандашом, давшим лиловый отпечаток по расплывшимся каплям.
Генерал упрямился:
– Да пойми, голубчик, куда ж я тебя отпущу? Я уже с Парижем сносился, ты не думай. Там считают, что надо погодить с засылкой в Эсэсэрию, провести контрразведку среди своих – что-то уж больно удачливы стали чекисты. Не идет ли утечка информации?
«Идет, идет, это уж будьте благонадежны, ваше превосходительство, – думал, читая дневник, Фелицианов. – С государством, которое тайную полицию организовало впереди армии и поставило во главе Дзержинского, по слухам, несостоявшегося иезуита, в царских тюрьмах тертого, что твой калач, вести подпольную войну невозможно. Покойник довел свое злодейское ведомство до такого совершенства – никакому Бенкендорфу в самых сладких снах не грезилось. Наверняка купили какого-нибудь гордого русского аристократа, князя или графа в самом гнезде тайных белогвардейских движений, центров, и великие секретные планы эмигрантских штабов мгновенно становятся известны всем этим штейнам и менжинским. А может, и составляются планы всевозможных восстаний, диверсий и шпионажа в краснозвездной столице». Странная гордость за своих же тюремщиков.
Генерала Самохвалова Горюнов, герой-одиночка, все же дожал, и старик сумел соблазнить Париж перспективами широкого повстанческого движения, которое со станицы в станицу, как пожар в степи, охватит весь юг России, поднимет непокорную Чечню и Дагестан. Чечню и Дагестан осторожный Париж велел не трогать, а по югу что ж не прокатиться казачьему бунту. Чай, не пугачевские времена, будет кому поддержать.
На румынской границе кустаря-артельщика, токаря по дереву Павла Васильевича Филюшкина (так было в найденных при нем документах) ждали. Было намерение пропустить отчаянного войскового старшину поглубже в страну и установить за ним неусыпное наблюдение. Однако ж враг оказался опытен и первым увидел пограничников. У Алексея Пантелеймоновича был, конечно, шанс на спасение – уйти назад, в недоступную преследователям Румынию. Но он уже пользовался подобным шансом – счастья спасение не принесло. И Горюнов кинулся в самоубийственный прорыв.
Титульный автор
В один прекрасный день к островитянам явился классик совлитературы Спиридон Спиридонович Шестикрылов. Явился не один – при нем был молоденький казачок, весь какой-то перепуганный и беспокойный. На Шестикрылова смотрел глазами преданными, готовый исполнить любой каприз своего литературного патрона. Глядя на эту пару, можно подумать, что вернулось крепостное право: барин и его преданный камердинер. Но камердинер-казачок был уже сам с усам – в печати прогремели его «Терские побасенки», маленький сборничек экзотических рассказов, писанных на невообразимой помеси русского и украинского языков – суржике. Рассказы не бог весть какие, и суржик этот резал глаз и ухо столичного читателя, воспитанного в строгих правилах русской речи, сладко льющейся из уст актеров Малого театра, Художественного, но советская литература только-только начиналась, а вполне сносное социальное происхождение автора и бойкое, без грубых ошибок письмо (хотя поговаривали злые языки, что дело не обошлось без плотно редактирующей руки мастера – Спиридона Шестикрылова) обеспечили книжке некоторый успех. Громкоголосый, в распахнутой енотовой шубе и в унтах, Спиридон Шестикрылов держался полным хозяином в особняке, будто революция по какому-то капризу вернула ему экспроприированный сгоряча дворец. Штейна он вроде как и не заметил, только к Поленцеву подошел, ткнул большим пальцем под ребро и раскатисто расхохотался:
– Что, братец, не хотел по-людски, да не отвертелся по-скотски! Не избежать тебе нашего романа, так теперь уж дудки, не твой он будет в веках!
Если озвучить реакцию шестерых заключенных и даже пастыря их Штейна, хор в семь голосов припечатал бы:
– Хам!
Но арестанты были люди воспитанные, а с недавних сравнительно пор – и перевоспитанные, а посему язык за зубами держать научились. Об их перевоспитателе и говорить нечего: уместное молчание – его профессия.
Под енотовой шубой оказался отнюдь не смокинг, а полувоенный френч песочного цвета – точь-в-точь такой, как на Ленине в Мавзолее. И казачьи штаны с синими лампасами. Когда-то Шестикрылов был ангельски красив – Фелицианов помнил его еще с десятых годов сравнительно молодым и робким, с пухленьким нежным ротиком, пунцовыми щечками и пышными златыми кудрями. Он таскал по редакциям бесхитростные басни, потом стал печатать крестьянские рассказы о южных провинциях, да так бы и заглох в средненьких бытовиках, если б не случилась гражданская война и не дала ему шанса выскочить первым с романом о подвигах Красной армии и ее железного (все они почему-то не медные, не платиновые, не молибденовые, а исключительно, ржа их сожри, – железные!) комдива Культяпкина.
Теперь он важная персона, живой классик, редактор крупного столичного журнала «Заря над Пресней»… Зато кудри пооблезли, и через весь череп, безуспешно прикрывая наготу, зачесывались мертвые волосы, пересыпанные обильной жирной перхотью; куда-то делся богатырский, как у Алеши Поповича, румянец, сменившийся серой, нездоровой бледностью; в компенсацию пустеющему темени отращены были сивые казацкие усы.
Вообще-то Шестикрылов – не родная его фамилия, а псевдоним, в наши атеистические времена весьма двусмысленный. Настоящая же его фамилия Крылов, но, поскольку начинал он, как все малокультурные литераторы, с басен, а один Крылов в этом жанре давно уж прославился, Горький, большой любитель пестовать таланты «из простого народа», и придумал его имени шестикратное увеличение. Как следовало из бесчисленных устных рассказов Спиридона, Алексей Максимович встретил его, юного красавца, на пороге редакции «Посредника» цитатою «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился». Хотя красотою славились не серафимы (по ангельскому чину они выше телесной прелести), а херувимы, такую мелочь славный автор «Матери» не расслышал и одарил клеврета своего новым литературным именем.
Не замечая ни поджатых губ, ни презрительных взглядов, Шестикрылов уселся в гостиной во главе длинного овального стола. Веселость, явно напускную, как рукой сняло. Но и писательского в его облике ничего не осталось. Фелицианов попал в большое затруднение, попытавшись определить, по какому классу числить это существо: слово «чиновник» – верное по сути, а еще верней было б «сановник», так оба эти слова как бы умерли, ожидая воскресения в следующих десятилетиях, а «комиссар» при столь стремительной бюрократизации страны примеряло на себя саван. В духе своего времени Георгий Андреевич окрестил усевшегося председательствовать Шестикрылова аббревиатурой Управ.
– Советская власть, партия большевиков и лично товарищ Сталин («Лично товарищ Сталин? Это что-то новенькое», – мелькнуло у Фелицианова) дают вам, разоблаченным врагам революции, последний шанс искупить свою вину перед народом на передовых позициях литературного фронта. Я, как советский человек, честно признаюсь, долго сомневался в целесообразности такого наказания, по мне, так всем вам красное место на Соловках, но время настало мирное, и партия осуществляет главный принцип социализма – «От каждого по способностям». Как коммунист Ленинского призыва подчиняюсь воле партии и склоняю голову перед мудростью ее генерального секретаря товарища Сталина. Установка такая: вам розданы первичные материалы для написания большого романа, а коли сладите – эпопеи об участии терского казачьего войска в революции. Судьба казаков была непростая, но логика революционной действительности убедила и эту, в прошлом реакционную, массу в исторической неизбежности социализма.
Поскольку все вы как идейные и классовые враги советской власти утратили естественное право на титульное имя, автором будущего романа назначен товарищ… Оряс… товарищ Оресин Гавриил Федорович. Прошу любить и, так сказать, жаловать.
Казачок при этих словах встал со своего места в уголку и застенчиво улыбнулся. Мол, рад бы и отказаться от такой чести, но сами видите…
Поленцев в момент представления автора своим неграм достал платок и нервно закашлялся. Его бил с трудом скрываемый хохот. Он единственный из всех знал казачка и знал даже, почему так замешкался Шестикрылов, называя фамилию будущего творца казачьей эпопеи. Еще год назад Гавриил Оресин был Гаврилой Орясиным. Как когда-то Горький, Шестикрылов росчерком пера переменил родовое имя уже своему клеврету.
Шестикрылов еще полчаса распространялся о долге перед доброй партией большевиков и советской властью, опять про искупление вины – как пьяный Левушка Фелицианов: тот, выйдя за пределы нормы, всегда рассуждал круглыми периодами, – завершив рассказ или нечаянную мысль, начинал снова теми же словами. Спиридон Спиридонович был трезв, а потому закончил свою речь внезапно и с угрозой:
– Роман будет печататься в моем журнале. К десятилетию Октября он должен быть закончен. Чем чревато нарушение сроков, вам объяснит товарищ Штейн.
Очки под рыжим дыбом зловеще блеснули.
– Саботажа мы не потерпим. – И Штейн поднялся, завершая совещание.
Шестикрылов тут же отбыл, оставив за себя казачка Оресина.
Казачок на первый взгляд показался робок, суетлив, подобострастен. Он терялся, не знал, перед кем ему заискивать больше, кто тут самый главный. Ну конечно, Штейн. Однако ж сам Штейн, чутко уловил казачок, очень уж уважительно разговаривает с обитателями особнячка, будто они ему учителя. И растерянный Гаврила преданно смотрел в рот то Фелицианову, то Свешникову, то знатоку терского казачества отставному полковнику-преображенцу. С одним лишь Поленцевым как со старым знакомым он соскальзывал в некоторое амикошонство, впрочем осторожное, пытался перейти на «ты», но тут же был осажен надменным гением неоправдавшихся надежд и мелко-мелко залебезил перед ним.
Казачок все лепетал об ответственном задании партии и самого товарища Сталина, чувствовалось, что он смертельно перепуган свалившейся на него миссией: одно дело строчить побасенки под руководством Спиридона Спиридоновича, обучившего писать их легко, почти не задумываясь, другое – целый роман, который невесть кто творит, а если что не так, отвечать не им. Так товарищ Сталин и сказал и чубуком трубки повел под горлом. У казачка в момент особого волнения и новая манера выработалась – за горло прихватываться.
Георгий Андреевич сразу почувствовал опасность, исходящую от этого нарочито простенького юноши. Он еще осмелеет – нет, не то, осмелеть такой тип не сможет никогда: обнаглеет. И тогда из него полезет разнузданный раб. Тут уж держись, писатель-невольник!
Явление казачка народу нарушило хрупкое умиротворение заключенных. До сей поры их не трогали, содержали, как выразился Штейн, «на усиленном санаторном режиме», а чтение горюновских рукописей, старых книг и недавно доставленной новой рукописи какого-то деникинского осваговца – тоже незаконченный роман, но уже не о терцах, а о донцах – делом оказалось увлекательным и самозабвенным. О том, что за этот санаторный режим придется платить, все как-то подзабыли. Но уж больно омерзительна форма расплаты!
Преображенец нервно мерил шагами по диагонали камеру, его трясло от гнева.
– Знаю я этого Орясина! Этот сопляк на весь Терек прославился. Отрядом ЧОНа командовал. Уже война прошла, все утихомирилось – а эта шайка не унималась. Сначала думали – бандиты. Нет, это новая народная власть. Зерно у крестьян и казаков изымали, дома громили. А хозяев – расстреливали. И этот Гаврик все самолично норовил убивать. В войну-то его не видно, не слышно было, а тут, когда против безоружных… И ведь дурак, круглый дурак! Горцы совсем уж примирились с советской властью. Так нет же, давай, как при Николае Первом, аулы жечь! Ох, он там наотличался, этот мальчик! Мародер, вот он кто!
– Вы бы потише про мародера-то, – посоветовал наученный осторожности Свешников. – Тут ведь и стены имеют уши.
– Есть уши, нет ушей, я правду говорю – как был мародер, так и есть. А теперь за нас принялся, наши мозги высасывать. Упырь! Как хотите, господа, а по мне лучше пусть расстреляют, а на мародерское имя этого мерзавца работать – нет уж, увольте!
Он уж воздуху в легкие набрал, собираясь еще что-нибудь сказать покрепче, но Чернышевский, окинув преображенца меланхолическим взглядом, заметил:
– Об этом, Тигран Захарович, надо было в семнадцатом году думать. Или еще раньше – в четырнадцатом, когда в эту дурацкую войну влезли. Сами небось и кричали: «Закидаем немчуру да австрияков шапками!» Будто японцы в пятом ничему не научили. А теперь что после драки кулаками махать – мы каждым вздохом этой мародерской банде служим. Как граждане Союза Советских Социалистических Республик. Или смываться надо было в двадцатом подальше, чем вы упрятались. За пределы государственной границы. А что там вас ждало бы, видно из дневников несчастного Горюнова. Эмоциям, особенно гневу, лучше не доверять. И вообще, господа, хватит дискуссий. Давайте спать. Утро вечера мудренее.
– Нет, это слишком унизительно – мы сидим в тюрьме, а этот кровавый мозгляк будет распоряжаться нашим трудом, – возмущался Поленцев.
– К труду, уважаемый Виктор Григорьевич, мы еще толком не приступали. Это во-первых. А во-вторых… Вот вы прожили на свободе – и много ли написали? Хотите знать почему?
– Мне трудно найти себя. Я не знаю, чего нынешний момент требует от писателя.
– От писателя все моменты требуют одного: правды. В каждом звуке. Без правды нет гармонии. А вы все приспосабливались, все искали, как с новой властью ужиться. Глаза видят одно, а лукавый ум шепчет другое – как бы и написать складно, и не завраться.
– Перед литературой я честен. Я ни строчки лжи не позволил. – Поленцев был оскорблен.
– Потому и не написали ничего: врать не можете, а правды боитесь. На этом не один вы шею сломали, голубчик мой. Суетитесь много, суетитесь. Вы, я вижу, и здесь все места себе не находите – весь в порывах. Куда рваться-то? О чем беспокоиться?
– Я что-то вас, Александр Максимович, не понимаю. Мы же в тюрьме, в неволе! И не знаем причины. Может, вы и за дело сидите, а я ни в чем не виноват.
– Перед Богом все виноваты. И вы, и я, и он, и он – все. А Господь дал нам случай познать истинную свободу. Которую вы не желаете брать.
Тут даже преображенец встрепенулся. Ох уж эти символисты – нашел место для парадоксов!
– Никакого парадокса, господа. Вспомните, из-за чего у Пушкина началась Болдинская осень. Он взаперти сидел – дальше деревни не пускали. Карантин. Наша здешняя тюрьма – тот же карантин. А этому… как его, Орясину? – не завидуйте. Он еще дорого заплатит за все, дай бог ему долгой жизни. И мучений долгих.
– Что-то не похоже на Орясина, – усомнился Поленцев. – Он из толстокожих.
– Совесть пробивает самую толстую кожу. Она еще истреплет его, вот увидите. И чем лучше работа получится у нас, тем ему будет хуже. А я почему-то не сомневаюсь в успехе. Доброй ночи, господа!
– Вашими б устами, Александр Максимович, – вздохнул Фелицианов, – да мед пить. Таких людей совесть доводит до отчаяния, и тут уж они переходят все крайности. Жизнь назад не повернешь, а раз так – пропади все пропадом. Кроме меня, любимого.
– Может быть, может быть. Ну так тем хуже для него. А вообще приглядитесь к нему. Так называемый новый человек. За ним – будущее. Все эти романтики революции шею сломят, а Оресин останется и будет торжествовать. И он, и подобные ему.
– Неправда. Новый человек только зарождается, – строго объявил Шевелев. – Мы, конечно, перегружены пережитками старого мира, и Оресин тоже не исключение, но давайте оптимистично смотреть в будущее. Революция даст освобожденному человеку новую мораль, где не будет места ни мародерству, как вы тут изволите выражаться, ни торгашеству, ни прочим порокам капитализма.
– Я пока не заметил, уважаемый Глеб Михайлович, какими пережитками старого мира перегружены вы. Мне, во всяком случае, вы представляетесь человеком честным и верующим.
– Я атеист. Убежденный атеист.
– Ну да, вместо Иисуса Христа веруете в Маркса, Ленина и Розу Люксембург. Поверьте, это не меняет дела. И я когда-то в Маркса веровал. Слава богу, недолго. Но крепко и даже истово. Почти как вы. Но вот скажите мне, дорогой марксист, как им строить нового человека, когда они начали с того, что испортили вот этого мальчика, Оресина нашего? И сотни тысяч других таких же. Нет ничего проще, как развязать дурные наклонности. Крикни «Грабь награбленное!» – и вот тебе готовый бандит. Только от чистого уголовника отличается тем, что тот осознает свою вину, а этого от вины освободили комиссары. Рыцари революции вроде Троцкого или Дзержинского, который ложки серебряной не украдет и даже оброненный кошелек подаст, зато прикажет расстрелять сотню-другую самых невинных людей.
Сладкая каторга
Наступило горькое счастье для жителей Необитаемого острова.
Все они, кроме, пожалуй, бывшего преображенца, были отчаянными графоманами в самом прямом смысле этого слова, то есть людьми, одержимыми страстью водить пером по бумаге. И вот ведь странность: злая судьба, заключив их в тюрьму, выпустила страсть на свободу. Прав был тогда Чернышевский: у нас только в тюрьме ты свободен. От бытовых забот, от любви и ее подобий, от погоды за окном, от лени и даже от тщеславия, заевшего талант Поленцева, да и, признаться, самого Фелицианова. Лишение имени на титуле будущего романа снимало страх перед бездной чистого листа. Не осталось стыда – пусть этот Орясин отдувается перед своим Сталиным за неловкую фразу. Пишем как Бог положит.
Ну не совсем как Бог положит. Целых две недели каждое утро начиналось с диспутов о том, какой тон и ритм письма избрать для этого «Хладного Терека». В большой моде были эксперименты с россыпью неологизмов, междометий, незавершенных, загадочных полуфраз с подтекстом. Пылкий Свешников обрушивал на головы соавторов экзотические начала с глаголами, усеченными в невнятные существительные, лихими остротами, явно столичного окололитературного происхождения. Ему поддакивал аспирант Шевелев, других стилей не признающий. Он давно уже сбросил классово чуждых Пушкина и Льва Толстого с корабля современности и в этом футуристическом убеждении застыл. Поленцев, любитель яркости, нередко покупался и принимал сторону изящной выспренности. Зато преображенец Тигран Захарович исходил гневом, видя глумление над речью Лермонтова и Тургенева. Был он знатного армянского рода и посему оказался особенно ревнив к чистоте и первозданности русской речи. Но авторитета у литературной молодежи он не имел, и гнев его непременно вызывал тайную насмешку. Старик Чернышевский угрюмо помалкивал, насупя седые брови. Он не высказался ни разу, но все, особенно Свешников и Поленцев, как-то побаивались его: начинал-то святой старичок буйно, хоть и не объявлял во всеуслышание безнадежно устаревшими почтенных классиков, но как-то задвинул их в презрительную тень ранней славы русского символизма. А что с его собственной поэтикой произошло за столько лет? Никто того не ведал.
Старичок-то и учудил. Однажды утром он пришел в гостиную с аккуратной стопочкой бумаги и зачитал страниц пятнадцать блистательного текста – классически спокойного, ясного и ни у кого не заимствованного. И разом утихли все споры.
Нет, не все. Темпераментный преображенец остался недоволен. Его знания истории Терской области, вражды и братства местных народов и полувоенной жизни местного казачества, бдительного и по-восточному хитрого, как бы повисли в воздухе. Терпеливое повествование Чернышевского о детских годах Арсения Перова (такое имя дали герою) прекрасно обошлось без местной экзотики; в богатом словаре старого поэта не нашлось места не то что говору терских казаков – даже южному акценту.
– Как же так, господа, – кипятился полковник, и пышные седые усы его трепетали обидой, – поселили героя в Слепцовской, бывшей Сунженской, а про самого Николая Павловича забыли.
– Это вы про Николая Первого?
– Нет-с, Александр Максимович, никак нет-с. Я про генерал-майора Николая Павловича Слепцова, героя Кавказской войны, говорю. Да и о самой войне – молчок. И о линиях ни слова. А терские казаки – линейные, по-нынешнему – прифронтовые.
– Линейным, батенька, было все казачество. Оно заменяло пограничную службу. Только забайкальское было образовано с полицейской целью – ловить беглых каторжников. Что же до Кавказской войны – так к рождению нашего героя она тридцать лет как кончилась. Да про нее все Лев Толстой рассказал в «Хаджи-Мурате» – и о геройстве, и о погромах… Так что, прикажете нам погромы славить? А наш ракурс иного взгляда не предполагает. Нет уж, увольте! Мне за Гоголя, за его страсть к этому безобразию в «Тарасе Бульбе» на всю жизнь стыдно.
– Ну почему уж и погромы? Там и настоящего героизма хватало, и мудрости. Вспомните лермонтовского Максим Максимыча.
– Максим Максимыч – строевой офицер, это другая песня.
– Нет, как хотите, а романа о терских казаках без экскурса в историю этого этнического образования я не представляю.
– И сразу вылезут белые нитки. Не забывайте, Тигран Захарович, роман пишется самими казаками, изнутри, они не могут разжевывать того, что в их станицах каждому младенцу известно. И на титуле будет стоять имя этого… Орясина. Премерзкий тип, доложу я вам.
– Его патрон тоже хорош.
– Каков мэтр, таков и сантимэтр.
Шутка старого поэта чрезвычайно развеселила Поленцева.
– А вы знаете, как в литературной Москве называют шестикрыловский журнал? Кубанский казачий хор. Сам-то Спиридон из-под Екатеринодара, папаша его нагайкой демонстрантов в Петербурге охаживал, о чем, сами понимаете, вспоминать нынче не принято. Так у него вся редакция – бывшие станичники, кубанские казаки. А журнал-то московский, и официально зовется «Заря над Пресней».
– Небось сам название придумал? – поинтересовался Чернышевский.
– Не знаю, может, и сам. А что?
– Славное названьице. Явно провинциальной выдумки. Москвичу б такое едва ли в голову пришло. Где, по-вашему, Пресня?
– Ну в Москве.
– А в какой ее части?
– М-м, на западе, кажется.
– Вот-вот, именно на западе. Значит, заря над Пресней – вечерняя, закатная. За ней – непроглядная ночь. А солнышко покатило дальше, светить миру капитала. Россию, господа, спасет отсутствие у них поэтического слуха.
– Провинциал, что вы хотите? Он и жалует одних провинциалов, а казачков в особенности. Москвичей же Спиридон на дух не переносит и печатает, если только в ЦК пожалуются и оттуда нажмут.
– Холуйское отродье!
– Но, но, но! – осадил Чернышевского Штейн.
Как он тут вдруг оказался? Будто воздух уплотнился в его тучную фигуру.
– Я не позволю порочить товарища Шестикрылова. Его заслуги и перед государством, и перед литературой признаны, а никого из вас читывать в нашей советской печати что-то мне не доводилось. И еще мой вам добрый совет, товарищи авторы: если так огульно окрестить все казачество, никакого романа мы с вами не напишем. И все вы погибнете бесславно. Без любви творить нельзя. А тот же Горюнов хоть и смертельный наш враг, но, по трезвом размышлении, у меня даже некоторую симпатию вызывает. Человек в любом сословии может остаться человеком.
Какой-то неклассовый подход у нашего чекиста, отметил Фелицианов. От нас, что ли, интеллигентским гуманизмом заразился? Но вслух высказал совсем иное:
– Я вижу, господа, все, в общем-то, приняли стилистику, ритм, манеру мышления, заданную Александром Максимовичем. На мой взгляд, есть резон каждому из нас своей рукой переписать странички, с которыми мы только что ознакомились. Это позволит быстрее войти в ритм нашей общей прозы. А потом уж раскинем по главам задание всем.
До чего ж приятно старинное обращение «господа»! И надо сесть в тюрьму, чтобы безбоязненно величать так друг друга.
Легко давать дельные советы. Исполнить самому не так просто. Сколько ни бился Георгий Андреевич, а никак не получалось просто и бесхитростно переписать текст Чернышевского. Все у него норовило высказаться своими, фелициановскими словами, и нельзя сказать, чтобы это было к лучшему. Он измучил первый абзац, второй… К концу четвертой страницы все же сумел подстроить дыхание под мелодию романной фразы, но и тут как-то было ему тесновато и наружу просились свои слова. Выпустив их на простор чистого листа, Георгий Андреевич обнаружил, что теперь его собственная стилистика не разрушает достигнутой Чернышевским гармонии, и взялся переписывать с начала, строго отвешивая меру дозволенности.
В минуту, когда Фелицианов весь как бы исчез, обратившись в точку на кончике пера, послушного лишь рождаемой фразе, ее ритму и сквозь ритм увиденному лучу солнца в казацкой хате, как он осветил жирный лист ваньки мокрого на окне, и задвигались, чередуя под моргающим взглядом семилетнего Арсения теневые и освещенные лепестки оконного цветка, ах, тавтология попалась: «на окне» и «оконного» – и стремительный поиск выхода: заменить? усилить, реализовав как прием? – вот в эту минуту постучали в дверь.
Доннерветтер! Сорвалось! И уже не восстановишь – ускользнуло. Тень слова мелькнула и исчезла, и звон трамвая на бульваре, чугунный нос Гоголя, барометр на стене, пепельница под рукой, полная окурков, выступили из позабытой реальности.
– Да, да, войдите, – подавив раздражение, злобу и досаду, отозвался на стук Фелицианов.
Явился преображенец.
– Вы простите, Георгий Андреевич, но мне не дает покоя отсутствие в романе полезных исторических сведений.
– Да, но мы вроде бы пришли к какому-то общему выводу.
– Никак нет, позвольте с вами не согласиться. Вы просто большинством задавили меня, а я не нашелся, чтобы возразить с достаточной убедительностью. Я среди вас единственный хранитель традиций терских казаков, и, если мои сведения вам не нужны, я не считаю себя вправе отбывать срок в таких неестественных условиях.
– Условия нашего содержания зависят не от меня. И даже, думается, не от нашего тюремщика господина Штейна.
– Это не играет роли. Я чувствую себя здесь лишним. Нет, не то! Согласитесь, уважаемый Георгий Андреевич, есть какая-то подлость и двусмысленность в нашем положении. Я сижу полтора уже года, видел в тюрьме разных людей, поверьте, очень достойных… Уж вы-то не хуже меня знаете, что за варварство и дикость наши тюрьмы. Но не пойму – за что нам такая привилегия? Мне стыдно. Перед товарищами, оставленными в камере. Будто я их предал и теперь ем их хлеб, пью их кофе… Вы все писатели, может, вы этого и заслуживаете в силу, ну-у, таланта, что ли. А я… Я офицер, человек службы и чести, я не могу…
– Чего вы не можете?
– Чувствовать себя дармоедом.
– Ну тут все просто. Попробуйте сами писать.
– Я, знаете, привык больше подписывать. Приказы, реляции, иногда прошения. Сочинительство – не моя стихия.
– И не покойного Горюнова. Я в этом убеждаюсь все больше. Однако ж видите каков результат! Может быть, вы и правы, и сюда вас привезли по чьей-то ошибке. Да и вся эта их затея, на мой взгляд, большая ошибка. А нам-то какое дело? Мы обязаны использовать свой шанс и высказать все, что помним, знаем и думаем. Вы прожили большую и интересную жизнь, были на трех войнах…
– Двух. В гражданской я не участвовал. Ни за белых, ни, естественно, за красных.
– Что не за красных, понятно. Но вы вроде бы монархист, во всяком случае, по воспитанию. А как же присяга? Вы гвардейский офицер.
– Присягу нарушил не я. Присягу нарушил Николай Второй.
– Я не в восторге от последнего императора, но что-то не припомню за ним такого, скорее, наоборот, в силу скудости ума он все возводил в абсолют, в особенности предрассудки самодержавия.
– Он отрекся от престола вместо отречения от глупостей, которые натворил. И честные люди России почувствовали себя идиотами. Мы присягали трусу и ничтожеству. И я вообще отказался воевать. За кого бы то ни было.
– А где ж вы жили?
– Уходил в горы. На Кавказе всегда можно найти место, где тебя никакие революции не достанут.
– Достали же!
– Это, дорогой мой, на их языке выражаясь, не революция, а реакция. От нее, поверьте, укрыться труднее. Где-то я вычитал фразочку их вождя, не то Сталина, не то Троцкого: «Социализм – это учет».
– По-моему, это Ленин. Но не ручаюсь.
– Да, так вот на их учете я погорел. И чует мое сердце, мы с вами только цветочки их учета.
– Все может быть. Меня нынешние обстоятельства сделали фаталистом. Я не волен распоряжаться собственной судьбой. И посему положил себе из каждого момента извлекать максимум возможного. Та иллюзорная жизнь, когда казалось, что от моей воли, желания хоть что-то зависит, кончилась в момент ареста. А ваша так еще раньше – когда вы ушли в горы. Нам остался только физический конец. Но я что-то не припомню, чтобы явившийся в этот мир не покинул его рано или поздно. Мы достигли в своем путешествии пригорода смерти.
Вдруг неловко стало за пышность фразы.
Но и выход нашелся.
– Знаете что, давайте я буду за вами записывать. Здесь вполне хватит места для отшельника с вашей примерно судьбой. Как-то у вас по-русски – взять и в самый азартный момент всеобщей схватки отскочить, уйти в сторону, зажить в пещере…
– У Горюнова нет такого.
– Ну и что? Мы сами теперь творцы, можем писать что хотим. Давайте так. Два часа в день вы мне будете рассказывать о своей жизни – вдруг что-нибудь пригодится.
– Но это же моя жизнь! Как я ее могу пустить на какой-то роман, да еще его припишут этому грязному мужику.
– Мы с вами, уважаемый, в тюрьме. И та жизнь – кончилась. О ней, кроме нас самих, никто больше не узнает. Не знаю, как вам, но мне было бы обидно упускать шанс поведать о себе миру.
– Миллиарды людей покинули этот мир, оставив свою жизнь в тайне. Мы с вами только в общих чертах можем что-либо сказать о жизни какого-нибудь египетского фараона, а что его подданные? Что осталось от них? Или, скажем, о предводителе какого-нибудь полка, не помню, как уж там они назывались, в храбром войске персидского царя Дария? И ничего, мир стоит. Вот что вышибла из меня революция, так это тщеславие. Они истребляют из памяти всех героев. Полководцы, государственные умы, патриоты России – что от них осталось? «Царский сатрап», «реакционер»… И это – о Ермолове, князе Аргутинском-Долгоруком, Лорис-Меликове! Памятники взрывают, мемориальные доски выламывают, зато что ни городишко – улица Робеспьера. Заставьте-ка русского мужика правильно выговорить! Или еще лучше – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Что за святые? Откуда?
– Мне, Тигран Захарович, нет дела до их святых. Да и вам, наверное, тоже. А оставить хотя бы крупицу правды о том, что мы видели, мы обязаны. А потомки разберутся, кто здесь был святым, а кто преступником.
– Что нам за дело до потомков? К тому времени наши кости сгниют. И еще вопрос, докопаются ли до нашей крупицы.
– Пожалуй, вы правы, – горько усмехнулся Фелицианов. – Если мы, потомки Пушкина и Достоевского, не извлекли уроков, на внуков нечего надеяться. Наворотят других глупостей, своих. Но… не знаю, как объяснить… Видимо, поиск истины – своего рода инстинкт, заложенный в человека. И когда сочиняешь, возникает странный эффект: в какой-то миг оказывается, что не ты ищешь истину, а она тебя. И все-все освещает вокруг, и начинаешь понимать вещи, разуму, казалось, совершенно недоступные. Мы же толком не понимаем, что произошло с Россией, с нами самими, революция всех застала врасплох. Сколько волнений, бунтов произошло в истории, и никогда до семнадцатого года они не знали победы. А мы, свидетели, так и не разобрались ни откуда взялись эти большевики, ни почему победили… И ведь своими глазами все видели.
– Видеть-то видели, да что толку?
– В том и толк, пусть и запоздалый, что хоть что-нибудь поймем, пока ведем свой рассказ. Надо включать память, воображение, а там само пойдет. И хоть что-то прояснится. Не знаю зачем, но почему-то ясность одаривает неслыханной радостью. И вы дождетесь этой радости.
– Но я, Георгий Андреевич, рассказчик-то никуда не годный.
– Это не беда. Вы же видели, слышали, а потом – думали, и немало: что еще делать в отшельничестве?
– Думать-то думал, да что проку? Я воспитан на воинских уставах да циркулярах, читать начал слишком поздно и бессистемно. Русские аристократы народ воспитанный, но темный, дремучий. Серьезных знаний – никаких. Боюсь, пустое это дело, зря вы со мной связываетесь. Вы не думайте, я был свидетелем отречения императора от престола и взялся было даже мемуар оставить потомкам – да такая дрянь вышла, самому тошно.
– Ну так давайте с этого и начнем. Глава «Царский поезд». Без этого нам все равно никуда не деться, а ваши сведения, хотя бы мелкие детали – да вы просто не представляете, какая это ценность! А что до языка – я сам не из нищих, и публика здесь собралась, владеющая словом.
Мучитель белого листа
Поленцев резво взялся за дело. Каждое утро он садился за стол перед огромной стопою белой бумаги. Он мыслил драматургически, сценами, и мгновенно набрасывал планы сюжетов, преобразуя скучные повествования Горюнова, сотника Клюквина, собственные эпизоды из Первой мировой и гражданской. Но дальше планов – развернутых и весьма стройных – дело не шло. Едва он брался за их осуществление, слова, как ему казалось, издыхали на глазах. Он приходил в отчаяние, клял свою бездарность, хотя всего-то и надо было или отложить неудавшийся оборот до лучших времен и идти дальше, или напрячь волю и слух и чуть-чуть переиначить написанное, поискав эпитет или прибегнув к инверсии, оживляющей ритм. Виктор Григорьевич страшно завидовал в такие моменты (а иных он не знал) Свешникову, яркости его дара, умению схватить метафору со стены, из окошка – откуда угодно. Сам-то Поленцев свои метафоры вымучивал. Критик оказался сильнее творца, но это, понимал Поленцев, слабое утешение. Так он одолевал две-три фразы, под ними рука рисовала какие-то углы, круги, птичьи крылья. А текст замирал.
Когда собирались у Штейна с чтением написанного за последние два дня, предъявить было нечего. Виктор Григорьевич, одолевая неловкость, начинал пересказывать свои планы, увлекался, зажигаясь от собственных слов. И вроде как вот она глава – вся придумана до тончайших деталей. А где рукопись-то? Что на общий стол положить?
Фелицианов, занятый записью рассказов преображенца, не мог позволить себе еще записывать за профессиональным литератором. Он к тому же осваивал громадный материал о взаимоотношениях казаков с горцами, которые после долгого, но хрупкого и настороженного мира резко обострились в гражданскую войну. Тогда снова запутались узлы междоусобиц горских князьков, и надо было разбираться, какой клан за красных, какой за белых и как они теперь сожительствуют с русскими обитателями станиц. У Горюнова сведения об этом были скудны; добытая из архивов ОСВАГа рукопись казачьего сотника Фаддея Клюквина, прекрасно в этих вопросах ориентировавшегося, обрывалась декабрем 1919 года. Ради одной фразы приходилось ворошить уйму газет, как наших, так и белогвардейских, изыскивать хоть зернышко истины в безграмотных протоколах допросов во Владикавказской ЧК, ужасаясь в очередной раз глупости и жестокости тех лет. Можно подумать, то, что происходит с ним самим, не жестокая глупость.
Но что делать с Поленцевым? Как ему помочь? Никому нет дела до того, что Виктор Григорьевич так одарен, изобретателен и наделен жизненным опытом, которого б на четверых хватило, если он решительно не способен завершить хотя бы один абзац, и весь его Божий дар выбалтывается в воздух, не оставляя реального, вещественного следа. Ну потерпят его неделю-другую, а дальше что? Соловки?
Выход нашел Штейн.
– Мы прикрепим к нему стенографистку.
И уже на следующий день в камеру-кабинет Поленцева явилась, как ее представил Штейн, «ударница машинописи и стенографии» Эльза Альфредовна Гогенау. Перед фамилией замялся: в вихрях революции с нее слетел баронский титул «фон», а звуковая в нем потребность осталась. Арон Моисеевич стал чуток к таким вещам. «Товарищ Гогенау», – сказал он.
– Товарищ Гогенцоллерн, – буркнул в ответ насмешливый Поленцев так тихо, что Штейн не услышал, зато услышала стенографистка и пришла в ярость.
Ударница вообще оказалась особой высокомерной, из тех дамочек, которые знают себе цену и, отбурлив страстями и успокоившись, цепким взглядом ловят своего покупателя. Здесь таковых не предвиделось, Эльза была раздосадована тем, что из центрального аппарата ее внезапно переместили в это логово неудачников, не сумевших на воле устроить своей судьбы и что-то там сочиняющих под присмотром органов. Да к тому же, как выяснилось, роман про белогвардейцев. Белогвардейцев Эльза Альфредовна ненавидела люто – они не оправдали ее ожиданий, когда казалось, вот-вот, еще чуточку – и Добровольческая армия славного генерала Деникина под развевающимися знаменами, под пение медных труб войдет в Москву. Но тут что-то случилось – непоправимое, ужасное – армия покатилась на юг, ускоряя день ото дня позорное бегство.
Одна, в полуголодной Москве, с происхождением, весьма сомнительным для новых властей, Эльза, эта тихая институтка, послушная и старательная, любимица строгих классных дам, всего за одну ночь преобразилась вся. Она вцепилась острыми коготками в новую жизнь. При Реввоенсовете республики открылись курсы стенографисток, которые она успешно окончила, какое-то время в Реввоенсовете и работала, весьма ревностно, и ей уже предложили пойти в секретари к самому Льву Давидовичу. При всем своем снобизме она в самый решающий момент отказалась от этой чести. Сама не могла объяснить почему. Но в аппарате ВЧК ей показалось надежнее. Сейчас, когда пламенный трибун революции, организатор и вдохновитель Красной армии зашатался в своих креслах, она испытывала злорадство и поражалась тогдашней своей интуиции.
Помимо работы штатной Эльза не отказывалась от поручений деликатных, и дом ее, салон, так сказать, притягивал к себе буйны головы лиц, вызывающих пристальное внимание карательных органов. В основном это были нэпманы, молодые авантюристы, легкомысленно поверившие, что политика, провозглашенная Лениным, в самом деле всерьез и надолго. Эльза, видавшая лучшие времена, не верила нэпу ни на грош и забавлялась игрой чекистов с наивными нуворишами.
Свое будущее Эльза Альфредовна давно расчислила. Среди сотрудников аппарата ОГПУ – людей или до бешенства фанатичных, или надломленных собственной злобой и ужасом перед содеянным – она приглядела наконец человека безупречного успеха – легкого в общении, остроумного циника, чем-то напоминавшего ей Дориана Грея, и вела с ним тонкую, как ей казалось, игру, не торопила событий, держала его на должной дистанции, но нити отношений не прерывала. Лисюцкий, ее избранник, был несколько фатоват, избалован успехом у женщин и в омут брака не стремился. Но ничего, время еще есть – созреет. Жизнь – не роман Уайльда, от шалопайства рано или поздно устают и просятся в тихую гавань. А она уже готова, и кнехты ждут швартовых.
В органах ее научили ничему не удивляться, а если и случится на ее глазах нечто сверхординарное, чувств своих не выказывать. Уж раньше-то она б точно вскрикнула или хотя бы покраснела, увидев среди заключенных своего избранника. Эльза же и бровью не повела. Она только присмотрелась повнимательней к арестанту и, отметив несвойственное победоносному Лисюцкому выражение глаз, как у провинившейся собаки, поняла ошибку зрения. Нет, просто похож.
А Фелицианова с того момента невзлюбила. Его сходство с избранником оскорбляло самою мысль о жизненном успехе.
С Поленцевым Эльза держалась чрезвычайно надменно. И Виктор Григорьевич не то чтобы оробел с нею – уж он-то подобных особ навидался на своем веку, – но никак не мог в ее присутствии достигнуть свободы. Он терял нить мысли и не диктовал, а мямлил, вымучивая из себя жалкие фразочки, лишь приблизительно сохранявшие размытый абрис разбудившего среди ночи и еще час тому назад ясного сюжетного поворота с тончайшими ходами и ответвлениями. Да, затея со стенографисткой – пустое дело.
Так они маялись дня четыре, обрастая раздражением, вот-вот готовым преобразиться в острую взаимную ненависть. Сегодня бы уж точно дело дошло до открытого скандала. Эльза Альфредовна с утра, еще в трамвае, где ей какой-то охламон грязными подкованными сапожищами наступил на ногу, и ее ботики с меховой оторочкой изуродовало ужасающее пятно не то известки, не то еще какой-то гадости, была за ряжена злобной энергией, готовой немедленно выплеснуться на недоумка Поленцева. Опять будет мямлить, запинаться, слова из него хоть клещами вытягивай. Лучше бы раскаленными, подумала Эльза. У девушки было богатое воображение.
А недоумок Поленцев, прочитавший на ночь у Горюнова описание известной битвы под Касторной, где он тоже участвовал и тоже командовал эскадроном, только на стороне красных, решил взяться за переделку этой главы. Бешено заработала болтливая память, как в синематографе открыв ему тысячи мельчайших подробностей, навсегда, казалось, погребенных в забвении. На воле он не любил говорить о войне. Ни о Первой мировой, ни о гражданской. И надо же – даже глаз закрывать не надо: сквозь всю здешнюю обстановку проступают степные холмы, полотно железной дороги, пакгаузы, а запах горелого угля, смешанный с запахами сухой осенней полыни, так явствен, и легко вызываются забытые голоса… Но тут приходится из оператора превращаться в режиссера, чтобы показать увиденное с противоположной, вражеской стороны, а значит, ветер не в спину, а в лицо, река Олим не спереди, а сзади…
Это оказалось легко. Читая рукопись Горюнова, обдумывая ее, он вдруг понял, что в гражданской войне очень часто один только случай определял, на какой стороне сражаться. У войскового старшины тоже не было никаких серьезных убеждений, потому и воевал то за белых, то – после разгрома Деникина, когда Врангелю веры не было, – за красных. И те его не признали. И опять бы воевал бог весть за кого, да война кончилась. А в белые Горюнов попал просто потому, что с армией не расставался. Виктора, не угоди он в мае семнадцатого раненым в московский госпиталь, тоже волной воинской дисциплины уволокло бы куда-нибудь на Дон. Армия «царская» просто-напросто, обратившись с развалившегося германского фронта внутрь страны, стала белой. И Виктор Григорьевич стал бы служить в ней верой и правдой. Все-таки боевой офицер, штабс-капитан, выпускник Николаевского кавалерийского училища – куда б делся? В Москве же, вылечившись от ран, дождался мобилизации – и вот вам красный командир. Мог бы стать и белым. И у той же Касторной воевать бок о бок с Горюновым.
И не надо искать слова. Они сами бог весть какими судьбами льются из Поленцева, точно соразмеряя пропорции между памятью и воображением. Недолгие запинки в диктовке происходили, когда вдруг вместо минуту назад запланированной точной логикой фразы вставал неясный призрак другой, неожиданно для самого Поленцева переворачивающей эпизод в пользу не частного факта, бывшего на самом деле, а правды, освещающей все событие. Как если бы Виктор Григорьевич не эскадроном командовал, а обеими схлестнувшимися армиями. Он даже уловил тот момент, когда сила, витавшая над войсками и метавшаяся между сторонами, не ведая, в какую приткнуться, вдруг приняла ясное направление за красных. Тогда он этого момента почти не заметил, не на его участке произошел слом белых сил, но как-то вдруг стало легче. Вроде ничего не изменилось, и так же падают твои товарищи, и тебя вот-вот зацепит шальная пуля, осколок снаряда или казачья шашка, но откуда-то взялась полная уверенность в успехе и разбудила второе дыхание.
Поленцев не мог усидеть на месте, он мерил комнату шагами по диагонали и притом никак не управлялся со скоростью своих движений, то медленных, когда замирал на месте и только вытянутая ладонь вытанцовывала нарождающуюся мысль, а то разве что не бегал из угла в угол. О, как раздражало Эльзу Альфредовну это мельтешение, суета, а диктовал Виктор Григорьевич быстро, рука еле поспевала, как назло, ломались в спешке карандаши…
Эльза злилась, злилась, но в какой-то момент ей, в общем-то безразличной, даже враждебной к тому, что сочиняют эти бедолаги, вдруг стало интересно. Ей интересны перипетии чужого боя на какой-то железнодорожной станции под Воронежем, где она никогда не была и куда едва ли когда-нибудь попадет. Записывая за Поленцевым, она чувствовала запахи паровозной гари, видела, как внезапно грянула ночь и смешала бьющихся людей, и переживала за командира казачьего эскадрона, которому надо выводить казаков, а куда? Местность полузнакомая, того гляди угодишь красным в лапы. Чертовщина какая-то. Ее трезвость, ее спасительный эгоизм заглох. Она теперь единственно чего боялась, так это ляпнуть ошибку в записи – когда увлечешься текстом, такое бывает. В двадцатом году заслушалась импровизаций Троцкого – потом всю ночь маялась, пытаясь привести его речь в божеский вид: все какая-то ахинея получалась.
Но тут еще и другое. Где тот интеллигентик-неудачник, который робко выдавливал из себя слова, тут же от них отказывался, потел, старался и был омерзительно жалок? Куда все подевалось? Перед ней был блистательный русский офицер, лишь в силу обстоятельств не ставший полководцем – Суворовым или Кутузовым. Те же глаза, но не тусклые, как у полумертвеца, нет. Взгляд Поленцева остр и быстр, устремлен куда-то далеко, где летают мысли, и он их тут же схватывает и с лету диктует в тетрадь. И вот она бьется под карандашом у стенографистки, Эльза Альфредовна еле успевает, но не раздражается, ее радует эта поспешность, эта гонка. Да, это тебе не квартальный отчет какого-нибудь отдела «Б», торопливо зачитанный по бумажке!
На обед они не пошли, велели принести в кабинет, да так к еде и не притронулись.
Отбой застиг их внезапно.
Все расчеты полетели к чертовой матери.
Тщательно расписанное будущее с хрусталем на красавце-буфете, пережившим в ее доме гражданскую войну и разруху, разлетелось вдребезги. Эльза Альфредовна влюбилась. Как же так? Солидная женщина, двадцати пяти лет, пребывающая в солидном романе с перспективным молодым человеком, гордостью отдела борьбы с контрреволюцией, – и вдруг, как девчонка-гимназистка… И ничего, решительно ничего ей теперь не нужно – ни самодовольный счастливец, ловец заблудших душ Лисюцкий, ни рай с ним в квартире в новом доме, который возводят для чекистов на Чистых прудах, в мечтах обставленной старинной мебелью и освещенной люстрами, давно уж выбранными в комиссионном на Арбате, ни дача на Николиной горе… Ничего ей не нужно. Даже выходных дней.
Ну вот встала. Да, оделась, и погода хорошая. Нет, не мороз и солнце, а та редкая оттепель, когда не туман топит в сырости город, а из далекого будущего дразнит свежим запахом талой воды весна. И дома делать не то чтобы нечего – ничего не хочется делать. И вообще скорее, скорее отсюда. Что-то зачастил со своими звонками Лисюцкий – почувствовал? А силы продолжать игру внезапно иссякли, она разговаривает с ним, одолевая усталость, возникающую сразу, едва заслышит его до тошноты ласковый голос. И на разрыв нельзя – опасно. Так пусть звонит в пустоту.