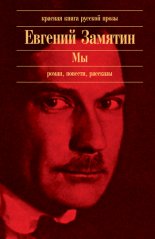Жилец Чехов Антон
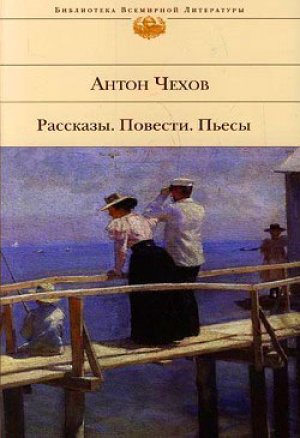
– А это, Лисюцкий, как посмотреть. Свобода не на Лубянской площади. И не в лелеянном Париже. Свобода в голове. Или она есть, или ее нет и не будет ни при каких райских условиях. Раб как раз ты, хоть и из-бран-ный. Да только над тобой только в этом здании – целая пирамида. А над Лубянкой – Кремль. А над Сталиным, как над всяким тираном, – страх, доходящий до мании преследования.
– Что-то пока не замечалось…
– Заметите – поздно будет.
Разговор принимал оборот, опасный уже и для хозяина кабинета. Имя, произнесенное арестантом, еще не стало священным, но уже было неприкасаемым. И обдавало непрошеным страхом. Мечты Лисюцкого разлетелись, он уже ни о чем не помышлял – скорее отделаться от этого болтуна, пусть им теперь исправители займутся.
– Молчать! Я не позволю оскорблять генерального секретаря нашей партии. И знайте, Фелицианов, вы сами себе вырыли яму.
Лисюцкий вызвал конвойных, и Георгия Андреевича вывели наконец из этого кабинета, с тем чтобы привести в точно такой же, разве что без казенного дивана. Там ему какой-то малый чин предъявил готовенькое обвинительное заключение, потребовал расписаться, после чего начались лубянские процедуры – обыск, фотографирование, заполнение каких-то бумаг – и лишь часа два спустя его отвели во внутреннюю тюрьму.
Вот что странно. От Фелицианова отстали. Его больше никто никуда не вызывал, будто согласие подписать любую чушь было принято за полное признание вины, не требующее документальных подтверждений. Ну что ж, думал Георгий Андреевич, будет суд, уж там-то при адвокате и прокуроре, которому решительно нечем подкрепить эти несусветные обвинения, я и оправдаюсь. Трезвый голос перебивал надежды: хоть раз, Фелицианов, ты слышал о суде, об оправдательных приговорах? Вспомни, что тебе говорил тот же Лисюцкий! Враг навсегда! Вспомни и жди своей участи. И нечего тешить себя иллюзиями. Жизнь кончилась. Обидно – на тридцать седьмом году… Как Пушкин, Ватто, Рафаэль. С той лишь разницей, что Пушкин, Ватто, Рафаэль – не безвестный арестант Лубянки, о котором и вспомнить, кроме родных, некому. Сам виноват – это же ты выбрал свободу. Полную независимость от общества, от властей. Выбрал, вот и сиди. И жди, когда пулей в затылок освободишься от всего на свете. В конце концов, хоть и мало я прожил, а навидался достаточно. Я был и счастлив и несчастлив в любви, я путешествовал, я наслаждался «Сикстинской мадонной» в Дрездене и «Джокондой» в Лувре, я слышал Шаляпина и наблюдал игру Михаила Чехова в «Гамлете», я видел войну и видел мир, я перепробовал уйму радостей да и горюшка хлебнул… Нет, в самом деле пора.
За ним пришли 1 марта.
Пришли и привели в ту же комнату, где заставили расписаться в обвинительном заключении. Тот же скромный чин зачитал ему приговор Особого совещания – пять лет лагерей общего режима без права переписки.
Процесс, готовившийся под карающую силу 58-й статьи нового Уголовного кодекса, – генеральная репетиция последующих великих акций бдительных органов: Шахтинского дела, Промпартии, а далее и над самими большевиками – развалился, не дойдя до суда. Панин умер вскоре после очной ставки с Фелициановым, за Сапожкова вступился Орджоникидзе и вырвал его прямо из пасти ОГПУ в момент, когда вот-вот должны сомкнуться ее мощнеющие челюсти. Ну Сапожков-то никуда не денется, органы возьмутся за него, едва товарищ Сталин щедрою рукою бросит щепоть мерзлой февральской земли на гроб верного своего друга и соратника товарища Серго. Любимова же и Фелицианова по-тихому оформили на каторгу.
Дорога дальняя, казенный дом…
После зачтения приговора Фелицианов вступал в каждый новый день, перешагивая через ужас. Из обжитой камеры внутренней тюрьмы на Лубянке – в кромешный, как увиделось в первую минуту, ад Бутырки, где в общей камере на двадцать человек содержалось не меньше сорока. Из тишины – в гвалт, вонь и неразбериху. Очень тяжек был первый шаг в бутырскую камеру. Георгий Андреевич отвык от людей. И ждал удара, и не знал, от кого он последует, но переступил порог, осмотрелся – да нет, везде люди. Он не показал своего страха. И как-то обошлось. Только пообвык – этап. Из тюрьмы ночью вывели заключенных на запасные пути Савеловского вокзала, погрузили в столыпинские вагоны и добрых десять суток везли куда-то на север. В Перми арестантов поставили вдоль путей на колени, пересчитали, выстроили в колонну и прогнали к берегу Камы, где, снова пересчитав который раз в этом долгом пути, загнали в баржу. Куда они плыли, какими реками, неведомо – заключенных содержали в трюме, тесном и грязном.
В начале мая Георгий Андреевич очутился в северной глубине Пермской губернии, и Большой Камень – Урал застил свет восходящего солнца. Так ему казалось первое время, пока глаз не привык к мрачной громаде и не научился находить в ней хоть и чужую, но красоту. Еще не стаял снег в тайге, и ночами донимали заморозки. Лагерь только строился: когда их колонну привели сюда, он являл собою широкую вырубку, обнесенную колючей проволокой. Спали в палатках, и поутру волосы приходилось отрывать от тюфяка – примерзали.
Вот она, настоящая каторга!
Впрочем, в обиходе слово это запрещено. Каторга – средство угнетения доблестных революционеров, изобретенное царизмом. Самая гуманная в мире советская власть – перевоспитывает преступников специально для этой цели созданной системой исправительно-трудовых лагерей. Эсеры исправляться не хотят и величают себя каторжанами, в отличие от беспартийных и уголовников: те – каторжники. Но сути название не меняет. Приговор каждого превращает в обезьяну, которая, в соответствии с передовым учением Энгельса, взяв в руки лопату или пилу, обязана преобразиться в идеального гражданина социалистического государства. Гордые эсеры достигать идеала таким вот образом не желали, с ними пока считались, только пайку урезали. Георгий Андреевич не стал присоединяться к революционным фанатикам и счел для себя разумным не выделяться из каторжной толпы.
Фелицианову в целях идейного и нравственного преображения выдали пилу. Напарником у него был крестьянин лет пятидесяти Ферапонт Ксенофонтович Сольцов, человек настолько смирный, что было непонятно, как такой может загреметь на каторгу, да еще со сроком в десять лет. Он даже на бытовика не похож. К Фелицианову Ферапонт Ксенофонтович относился с трепетным уважением без тени лукавства, которое, грешным делом, Георгий Андреевич в нем поначалу заподозрил. Спрашивать, за что сидишь, было неловко, тем более что и о своем-то аресте Фелицианов толкового ответа дать не мог.
Выяснилось все само собой. Ферапонт Ксенофонтович помянул вилюйскую каторгу, которую отбывал еще при царе.
– А при царе-то за что?
– Еще в японскую было. В армию не шел и других отговаривал.
– Что, боялся?
– Нет. Бог нам всякие испытания принес, и бояться их нельзя. Но на Каиново дело тоже идти нельзя. А армия для Каинова дела сотворена. Мы же – от Авеля. И Иисус Христос от Авеля.
– Так вы духоборы, что ли?
– Нет, мы чернышевцы. Чернышевский был, слышали?
– Так он же Русь к топору звал.
– Нет. К топору нельзя, топор – дело Каиново. А Чернышевского я сам видел и по слову его пошел. Сам пошел и других повел. Очень умственный человек был наш Чернышевский. И жизни святой, Авелевой жизни. Стихи божественные писал. Нет, не мог он звать к топору. Вы тут, барин, что-то путаете.
Ну да, откуда этому крестьянину знать Николая Гавриловича, когда тот году в восемьдесят восьмом, если не ошибаюсь, умер. Видно, это другой Чернышевский. В первые годы века был в Петербурге поэт из ранних символистов, который, рассказывали, в какую-то секту подался. И исчез, растворился в северных лесах.
Но сведения о втором Чернышевском – Александре Максимовиче – у его адепта были скудны. Их целой группой судили в девятьсот четвертом за срыв мобилизации, и с тех пор до Ферапонта Ксенофонтовича только послания апостола новой веры доходили. То с Поволжья, то – году в девятнадцатом – с Кавказских гор. За их-то распространение и угодил Ферапонт Ксенофонтович в лагеря уже в советское время.
Чернышевский в глазах страдальца за его дело давно уже превратился в символ святости, хотя стихи его, попавшиеся как-то на глаза, не произвели на Фелицианова сильного впечатления. Они только заповедь напомнили: «Не поминай имени Господа Бога своего всуе». Умиление птичками, козликами, елочками, елеем лившиеся из его строк, отдавали свежей влюбленностью в экзотическую идею. Такое случается с неофитами. Теперь этот бывший символист сам стал предметом религиозной легенды, мифа. С его именем, видно было, чернышевцами легче сносилась каторга: очищение от Каинова греха, наросшего на душах людских за тысячелетия. Последние лет семь о вожде секты не было ни слуху ни духу – вероятно, мученическую смерть принял.
Странное дело, но и Георгию Андреевичу благодаря напарнику-страстотерпцу собственные невзгоды стало переносить легче. В конце концов и его грех был в том, что Россия пошла по этому страшному пути. Хотя сам он вообще никакого пути не видел, сколько ни задумывался над будущим в минувшие годы. А тогда все ждали катастрофы и своим ожиданием – почему-то очень азартным, как в толпе зрителей корриды, – только торопили ее. Всюду только и разговоров – Россия гибнет, Россия на краю пропасти. И, сказавши вслух «Россия», русские говоруны как-то умудрились отделить ее от себя самих. Вот Россия погибнет, а я дома останусь, Марфушка самовар принесет, чай буду пить с пряниками. И никому в голову не приходило, что дом-то твой в России стоит. И погибнет вместе с нею. И не будет тебе ни Марфушки, ни чаю с пряниками. Что и произошло. И сам был в числе таких азартных говорунов, вот ведь беда. Беда и вина.
Георгий Андреевич сторонился личностей сильных, чья магнетическая воля притягивала к себе окружающее большинство. Он оберегал свою самостоятельность. И хотя в лагере смешно надеяться на будущее воплощение гуманитарных способностей, ради которых и держался самосохранения, – тридцати шести лет на свободе ему на это не хватило, он по какой-то нравственной инерции держался подальше от всякого рода вождей и трибунов.
В июньском этапе заключенных выделялся высокий рыжеволосый старик с поседевшей раньше головы бородою и глубокими пронзительными глазами. Суровость надменного, неприступного взгляда удивительным образом сочеталась с их ясной голубизной. Видно, еще где-нибудь на пересылке вокруг старика сбилось некое стадце преданных ему людей. А сам он, смолоду привыкший властвовать, держался с неколебимым достоинством, и даже охранники как-то поеживались от его гордой осанки и насупленных бровей.
На перекличке по прибытии этапа на фамилию Фелицианов отозвался и вновь прибывший. Легкое замешательство, пока охранник не догадался добавить имя. Тот был Владимир.
В 1913 году два честолюбивых Фелицианова, профессор истории и священник прихода Николы на Могильцах, составили и издали в типографии «Родословие Фелициановых» с непременной таблицей генеалогического древа, больше широкой, нежели глубокой. Род начинался всего-навсего с 1740 года. А далее в глубь веков – тьма. Жорж, в ту пору студент, помогал родственникам-энтузиастам, разыскивал предков по архивам, переписывался со всей Россией, куда забредали вольные отпрыски их славной фамилии. Работа эта была интересна, но как-то поостудила его дворянскую – в третьем лишь поколении – спесь. Фелициановы по происхождению даже не священно-, а всего лишь церковнослужители – дьячки, пономари и прочая мелочь. Правда, к началу нынешнего века многие выбились в люди. Жоржа удивило происхождение собственной фамилии. До Александра Первого русское духовенство фамилий не имело, потому и не нашлось свидетельств об отце и матери основоположника рода – сельского дьячка Феодора из-под славного города Дмитрова. Внук его Евлампий, поступивший в 1818 году в духовную семинарию, и короновал себя столь пышной фамилией, на взгляд Жоржа, сильно отдающей литературщиной. В гимназии Жорж гордился красотой имени, в университете – стыдился, теперь привык.
Владимир Фелицианов, соборный протоиерей в Богородске, приходился Георгию Андреевичу, как следовало из генеалогической таблицы, четвероюродным братом, но даже знакомы они не были.
В бараке протоиерей сам подошел к Жоржу.
– Удивительно в узилище найти носителя своей редкой фамилии.
– А мы родственники и приходимся друг другу братьями в четвертой, если не ошибаюсь, степени. У нас общий прапрадед – дьячок Феодор церкви Успения Божьей Матери в городе Дмитрове. А прадеды – Илья и Порфирий – его сыновья. Мы от Порфирьевичей, а вы от Ильичей.
– От Ильичей, говорите? Ну-ну! – Гордого старика явно покоробило происхождение «от Ильичей», да еще в сочетании с именем его. Сейчас это звучит весьма двусмысленно. – Нет-с, я Владимир Терентьевич.
И холодок пробежал между братьями, хотя что такого сказал Георгий? Будто это он ославил такое хорошее отчество. Как бы оправдываясь, Жорж пустился в рассуждения об их генеалогическом древе, перечислил всю известную ему и неизвестную родню, всплывшую в процессе издания родословной. Брат Владимир слушал его невнимательно – его заботило братство во Христе, духовное. Он предпочел бы и Жоржу быть не братом, а отцом, как для своих клевретов. И разговор увял.
Засыпая, Жорж мучился недоумением: как это так вышло, что он вроде бы подчинился отцу Владимиру, искал его симпатии к себе, а не дожидался братских чувств и равенства? Протоиерей привык властвовать, вести за собой – хоть в бездну. А проповедует смирение. Почему с иными людьми не получается держаться независимо?
Общения с братом были редки. От ежевечерних молитв, когда отец Владимир собирал вокруг своих нар паству, Георгий уклонялся – ему претила атмосфера рабского подобострастия, которая, как облако, окутывала брата. Что-то в этом было омерзительно мирское, а Владимир не чувствовал двусмысленности положения каторжного вождя и принимал поклонение как должное. Чем он тогда отличается от старого народовольца Залепухина, которому в рот смотрят молодые эсеры?
Георгий Андреевич как бы погрузился в русскую историю: здесь перемешались век семнадцатый с веком девятнадцатым. Посмотришь на Владимира – будто и не было в России Петра Первого. А Залепухин мыслил категориями шестидесятых годов, что ни слово – клятвенная речь над могилой Добролюбова или Писарева. В его-то годы – старику было хорошо за семьдесят – можно было б и поумерить революционный пыл. Какой-то вечный гимназист пятого класса, как Илларион Смирнов. Почему эти «сознательные» все такие одинаковые? Хотя из разных партий и даже ненавидят друг друга едва ли не больше, чем царя и буржуазию, против которых вместе боролись.
А потому, что человек мал и в мир пришел нагим. Слово для него – одежда мысли, а не мысль. Мысль-то надо найти самому, перебирая тысячи слов, а это трудно. Мысль требует внимания и терпения. А у человека среднего ума на такие упражнения просто не хватает сил. Ему проще пойти за мыслью, кем-то уже найденной и облаченной в лозунг. С лозунгом он чувствует себя одетым. И что ему за дело, что, едва выкрикивается лозунг, мысль умирает? Она боится законченных формул. И вот ведь странность: тому же Залепухину легче положить свою жизнь за звонкий лозунг, чем просто сесть на пенек и подумать. А уж класть чужие жизни за красивую фразу – это пожалуйста, мы своей-то не щадили, что нам чужая!
Залепухин подорвал в Фелицианове с детства воспитанное уважение к старости. Он ведь прожил яркую жизнь, знавал Желябова и Кибальчича, отбывал ссылку вместе с Короленко, в эмиграции дружил с князем Кропоткиным, а в Ницце, если не врет, пил чай у самого Лорис-Меликова и хвастался, как победил в споре этого царского сатрапа. Хотя в отставке, в царской немилости, признавал Залепухин, бывший диктатор в бархатных перчатках оказался милейший, любезнейший человек. Залепухин и в уме не отказал покойному графу. И почитал своеобразной жертвой царизма.
Да, столько прожил, столько и стольких видел, а ума не нажил ни на грош. Ферапонт Ксенофонтович выразился о нем очень хлестко – Народный барин. И в среде политических это звание закрепилось за старым революционером.
Вот кто совсем не походил на барина, так это князь Василий Алексеевич Павелецкий, отпрыск рода Рюриковичей. Он с поразительно естественной легкостью общался со всеми. И, единственный из политических, часто бывал зван на кружку чифиря к блатным, к их верхушке. Удивительный талант мимикрии. Как он не ужился с советской властью?
А очень просто – не успел.
Довольно известный в свое время этнограф (имя его, во всяком случае, было в университетские годы известно Фелицианову, но так, понаслышке, как всякое имя в отдаленной области знаний), князь Василий Павелецкий в 1911 году отправился в очередную экспедицию к островам Полинезии, к каковым тягу имел с юности. Он ведь путешествовал в тех краях еще с самим Миклухо-Маклаем. От него и перенял науку общежития с дикарями, науку, в общем-то, нехитрую, преподанную миру Робинзоном Крузо, но почему-то надменными европейцами так до сих пор и не усвоенную.
Там князя застала мировая война, и домой он по сей причине не торопился. Поскольку сам себе хозяин-барин, экспедицию Павелецкий завершил лишь в 1922 году, отправился в Лондон, где сделал с десяток докладов и выпустил пару книг. Весь этнографический мир рукоплескал русскому ученому. Чего еще надо?
Берегов отчизны дальней. Оторвавшейся от прочего мира не только в пространстве, но и во времени. Социализм издалека представлялся царством будущего для всего цивилизованного человечества. Люди разумные отговаривали затосковавшего князя, но тот с маниакальным упорством добивался визы к родным пенатам. Добился.
Представился Фелицианову князь таким образом:
– Действительный член Императорского географического общества, польско-японский, а также английский шпион князь Василий Алексеевич Павелецкий. Я очень убедительно просил добавить звание шпиона новогвинейского, ибо там провел добрый десяток лет, но следователь меня не понял. А жаль, очень бы это экстравагантно звучало.
Князь оказался новым напарником Фелицианова: Ферапонта Ксенофонтовича начальник лагеря забрал для обустройства собственного теремка. И вот что интересно, сноровки у Рюриковича в работе с топором и пилой оказалось не меньше, чем у прирожденного крестьянина.
– Чего ж вы хотите? Я все-таки жил на малообитаемых островах, там и не такое приходилось делать самому.
Унынию князь не поддавался, и это первое время раздражало Георгия Андреевича. Все-таки благородный человек не должен чувствовать себя на каторге, как в среде естественной. В минуты мрачности Фелицианов становился с Павелецким угрюм и высокомерен. Он прерывал перекуры, угадав минуты особого блаженства и расслабленности напарника: «Социализм не ждет, ваше сиятельство, зовет к пиле!»
На фелициановское высокомерие князь, пару раз перетерпев, ответил однажды таким взглядом, что Георгий Андреевич тотчас почувствовал себя дворовым мальчишкой, провинившимся перед барином и ожидающим жестокой порки на конюшне. Русский образованный человек, пусть и дворянин, и русский аристократ – не одно и то же. Есть разница. И минутами – весьма ощутимая. А вечером князь отправился к блатным и болтал с ними до самого отбоя.
Наутро Павелецкий опять держался просто, будто не было вчерашней размолвки. И перекур их был долог и блажен.
– Как-то странно, ваше сиятельство, видеть вас в обществе закоренелых уголовников.
– Ничего странного. Я ведь этнограф. Мне сам Бог велел изучать обычаи диких народов. Их язык, их тотемы, их табу. Тут много интересного, скажу вам.
– Это-то понятно. Непонятно другое. Что для вас может быть интересного в наших бандитах? Примитивные страсти, язык скудный и невнятный, а уж обычаи… Увидел слабого – добей! Фраер – не человек. Умри ты сегодня, а я завтра. Нагляделись, спасибо! Меня еще в Ярославле в пересыльной тюрьме всего обчистили и ржали в здоровые глотки. Бр-р-р! Мерзость.
– Да что уж хорошего. Но науке нет дела до моральных оценок. Она исследует беспристрастно. А что до воровского закона, то его следовало бы изучать каждому советскому человеку. Впрочем, изучит и так, никуда не денется.
– Парадокс – уже пристрастие. А вы, я вижу, мыслите парадоксами.
– Ничуть. Эти наивные воры в законе думают, что они свободны. И малолеток соблазняют видимостью свободы. А на самом деле воровской закон – самая жесткая иерархическая структура с беспощадной дисциплиной. Нарушение может стоить, и как правило стоит, жизни. Точно так же строится племенное, первобытно-общинное общество. Параллели удивительные! Вы думаете, они просто так украшают себя татуировкой? Ничего подобного – это особая знаковая система. Точно такая же, как у дикарей острова Пасхи. Ранг вора угадывается по рисунку на правом плече. Число посещений сих мест – тоже. Ну и так далее. Кстати, вы никогда не задумывались, почему их советская власть величает социально близкими?
– Ясное дело, хоть и люмпен, а все ж пролетарии.
– Нет-с, не только поэтому, друг любезный. Воровской закон – это первобытный социализм в чистом виде. А социализм, как мы с вами теперь убеждаемся, возвращает общество в первобытное состояние. Это они правильно угадали: общественное развитие идет по спирали. У истории нет особых путей, она все народы прогоняет по старым, объезженным колеям. Заблудившись в лесу, как бы прямо вы по избранному направлению ни прошли, вернетесь на то же место, свершив десятиверстный круг. Так и все народы в историческом пространстве свершают круг: сбиваются в империи, достигают мощи, а потом империя разваливается и на ее месте или где-нибудь неподалеку – новая. Только каждый раз варварски разрушают столетиями нажитую культуру и потом с немыслимыми трудностями возводят новую. Революция разрушила государство во всех его институтах. Но пустоты не бывает. Создается новое. И создается по законам первобытного мира, то есть – воровского закона.
– Вы, князь, обрушили на меня столько неожиданного, дайте обдумать.
– Думайте, думайте, Георгий Андреевич, это полезно. И вот вам для осмысления последнее: вы обратили внимание, что у большевиков в лексике, весьма, кстати, по ничтожности культуры обедненной, вдруг всплыло слово «вождь»? Во всяком случае, до одиннадцатого года, пока был в России, я его почти не слышал. А вождь – понятие племенное, догосударственное. Мы еще насмотримся самых варварских установлений новой власти. Все у них только начинается. Скоро кто-то из этих вождей перехитрит всех прочих и начнет такую резню, какой и при Грозном не видывали. Да своих же вождят кровью повяжет. Ах, да что я вам рассказываю. Вы сами видели, как по прибытии сюда пахана Ежика был уничтожен прежний пахан, Косой. А чьими руками? Холуев самого Косого. В знак верности Ежику. То же будет на самой вершине политического олимпа. И точно так же новый пахан повяжет кровью тех своих соратничков, кто уцелеет.
Дружба Георгия Андреевича с князем возбудила в лагерном начальстве жажду познания. Фелицианова призвал к себе начальник лагпункта Шелуханов и как-то слишком уж ласково стал расспрашивать, как ему тут живется. Очень ему, человеку темному, полезно бывает пообщаться с человеком из образованных, «вот как вы, Георгий Андреич». И вот с гражданином Павелецким ему было б интересно поговорить. И стал наводить мостики-вопросики, о чем они, дескать, беседуют.
– Только о погоде, – видно, слишком резко ответил Фелицианов. Настолько, что вражда затаенная вмиг обратилась во вражду открытую.
– Замордую я тебя, Хвилологический, – пообещал Шелуханов. – Живым не выбересси.
И на следующее же утро направил Георгия Андреевича чистить свинарник.
В сентябре Фелицианова вызвали «с вещами». Все ясно, Шелуханов сдал его на новую расправу.
В конторе лагеря его ждали четверо штатских с очень уж нештатской выправкой. У одного, видно старшего, была папка с личным делом заключенного Фелицианова Г. А., которую ему вручил Шелуханов. Рожа начальника лагеря сияла при этом злобной радостью, но и досада читалась: не дали всласть наиздеваться над Хвилологическим.
– Готов по такому случаю предоставить – хе-хе-хе! – личный экипаж.
И действительно, из лагеря до старинного села Усть-Язьвы везли на шелухановских лошадях. Вниз по реке – Вишере, оказывается, – Фелицианов путешествовал не в трюме баржи, как весной в лагерь, а на катере. Мрачная красота северного Предуралья дышала былинным величием, покоем… А за излучиной – вышки с часовыми, проволочные ограждения, варварские пролысины в древних лесах. Разбуженная природа являла безобразие ее самозваного царя. И все это называлось бюрократически-скучным словом: лесозаготовки. Чем ниже по течению, тем чаще вышки с вертухаями, развороченная земля, унылые зеки в бушлатах, и не на чем взгляду остановиться.
Конвой торопил угрюмого механика – надо было успеть на последний в нынешнюю навигацию пароход. Успели. И до Перми по Каме заключенный Фелицианов плыл в отдельной каюте с плотно зашторенными иллюминаторами. В Перми его поместили в речное отделение милиции, где в одиночной камере Фелицианов провел остаток дня. Ночью та же молчаливая четверка на черной машине привезла его на вокзал. И тут – не столыпинский вагон, а нормальный, пассажирский и даже купейный. Чудеса! Трое остались с ним, четвертый исчез. В купе тоже были плотно зашторены окна, и арестант понятия не имел, куда везут его. И вот что интересно: еду ему приносили из вагона-ресторана. Что-то не похоже на суд за невыполнение нормы выработки. А на третий день пути Георгия Андреевича переодели – точно в такой же шевиотовый костюм, как у спутников-конвоиров. Только на заключенном он болтался, как на вешалке: шили по размерам, оставшимся на Лубянке. К чему такой маскарад? Но Фелицианов уже научился ничего не спрашивать (да и не у кого: конвоиры за весь путь не сказали ему ни слова) и ничему не удивляться.
Необитаемый остров
Сойдя с поезда, Георгий Андреевич обнаружил себя на перроне Ярославского вокзала. Глаза разбежались, жадно охватывая толпу, вагоны дальнего поезда Москва – Владивосток, стоящего под парами по другую сторону платформы, шехтелевское строение под сказочным кокошником, и снова – в толпу, с бессознательным ожиданием чуда: мамы или братьев, встречающих его с букетом цветов (а духовой оркестр, каторжник, не хочешь?), или увидеть хотя бы одно знакомое лицо. Голова закружилась, он едва не упал, потеряв равновесие. Упасть ему не дали, жесткие пальцы молчаливых спутников, подхватившие его с обеих сторон за локти, вернули Фелицианова к реальности. «Не оглядываться!» – приказал ему голос откуда-то сверху, и локти почувствовали резкую боль в подтверждение услышанному.
Спутники ускорили шаги, пробивая коридор в тесной толпе на перроне и влача с собой еле справляющегося с темпом Фелицианова. Но глаз успел утолить ностальгическую жажду башенкой классического Николаевского вокзала, часами Казанского с золотыми знаками зодиака на синем фоне, крикливыми извозчиками, красными и голубыми трамваями посреди площади, пока конвоиры не впихнули Георгия Андреевича в черный автомобиль с наглухо, как в купе, зашторенными окнами. Поехали.
Спрашивать, куда едем, естественно, бесполезно, да он и сам догадывался – на Лубянку. Взялись-таки за Иллариона, мелькнуло. Но нет, с Мясницкой, как сумел-таки разглядеть Фелицианов через переднее стекло, машина резко свернула направо, на бульвары.
Ворота открыли не сразу. Чекист, что сидел с шофером, вышел из машины, и Георгий Андреевич увидел перед собой за решетчатой оградой двухэтажный неоштукатуренный кирпичный особняк с мезонином весьма замысловатой постройки: с арочкой над крыльцом, венецианскими окнами. Правое крыло отсутствовало: то ли отрезали ради модной асимметрии, то ли денег не хватило. Он легко узнал этот особнячок, года с два назад отделившийся от остальных домов на Пречистенском бульваре странной тайной нового своего существования. Дом пугал видимостью жизни: пролетарская герань на окнах со шторками, выметенный дворик – и ни души. Будто дворик вымели и цветы на окошках расставили не живые люди, а призраки. Необитаемый остров в устье веселого и шумного, полного трамвайного звона и детского крика московского бульвара. Да, не случайно, видать, завершал тот бульвар мистически остроносый Гоголь, застигнутый точной фантазией скульптора Андреева в горькую минуту.
Вероятно, зал, куда ввели Фелицианова, был когда-то гостиной. Он и сейчас претендовал на старокупеческое великолепие. Хрустальная люстра непомерных объемов царствовала между полом и потолком. Концертный рояль, как черный слон, дремал в пространстве, которое как-то язык не поворачивался назвать углом. Стол в центре, под люстрою, был расставлен, как на большой прием. Но не стулья окружали его – стульев здесь вообще не было, – а массивные кожаные кресла. Целую стену занимал стеллаж с книгами, а напротив – того же роскошно-казенного фасона, что и кресла, кожаный диван. Восседал на диване уполномоченный ОГПУ Арон Моисеевич Штейн.
– Присаживайтесь, Георгий Андреевич, – необыкновенно любезно предложил чекист, когда конвоиры тихо и незаметно исчезли. Фелицианов всю комнату обежал взглядом – пропали, как сквозь землю провалились, все трое. Люк у них тут, что ли? – Садитесь, садитесь, не стесняйтесь.
Кроме как на кресла или тот же диван, сесть было некуда. Георгий Андреевич выбрал отдаленнейшее из кресел. Вроде как притулился на краешке – и утонул в невесомости. Нигде и никогда не видать больше Фелицианову таких мягких кресел. Как-то само собой получилось, что и он развалился в позе свободной и непринужденной.
– Так мы остановились на том, что вам следует задуматься о своем отношении к советской власти и начать служить не мещанским скудным интересам, а новому обществу. – Штейн заговорил так, будто не семь с половиной месяцев, а всего несколько минут прошло, как он отлучился из кабинета, где допрашивал Фелицианова под казенными взглядами Ленина и Дзержинского, хотя председатель ОГПУ за это время успел умереть, по случаю чего заключенным выпал выходной день в знак безграничного траура и всенародной скорби. – Я полагаю, вам удалось проникнуться чувством справедливости наших требований, не так ли?
Фелицианов не принял тона. Он смерил Штейна взглядом, который счел презрительным, и промолчал. Уполномоченный ОГПУ паузу выдержал, равно как и взгляд.
– Я понимаю, вас несколько ошеломила обстановка. – Гордость звучала в голосе Арона Моисеевича, видно, все здесь подбиралось по его вкусу. – Что ж, осмотритесь, спешить нам некуда.
Фелицианов молчал.
На предложение «Закуривайте!» тоже никак не отреагировал, хотя курить захотелось смертельно. Он пытался сосредоточиться, понять, что с ним происходит, для чего везли его с таким комфортом через полстраны из барака в особняк – есть же за этим каверза. Но перинная невесомость в кресле лишала его тело и мысль опоры, и даже густая злоба на Штейна рассеивалась, не находя твердого слова.
Спешить Штейну в самом деле некуда, но упорное, враждебное молчание Фелицианова посеяло сомнение и тревогу. Штейн ожидал увидеть человека сломленного, покорного, готового на все, что угодно. Получил – врага. А с ним – работать.
Гуманистом Арон Моисеевич Штейн не был и считал, что разговор с врагом короток, тут даже лагерь слишком мягкая мера, но полагал также, что плодить врагов из мирных обывателей дело глупое. С тем же Фелициановым можно было б, чуть пугнув, прекрасно обойтись и без лагерного перевоспитания, на Лубянке пока еще достаточно камер для содержания в относительно сносных условиях. К чему это напрасное катание по стране с этапом, лагерем и экзотическим возвращением? Сейчас не гражданская война, можно и поутихнуть. Тем более что реальных врагов у республики и так достаточно. Увы, начальство его было иного настроения.
ОГПУ набирало силу. Вокруг Лубянской площади в его ведение отходили дом за домом, внутренняя тюрьма ощущала недостаток в одиночных камерах, а руководители входили в какой-то раж демонстрации своей силы. Бей своих, чтобы чужие боялись. Он все чаще слышал эту дикую поговорку. После очевидного для посвященных падения Троцкого и внезапной смерти Фрунзе стало явственно ощущаться, что ведомство товарища Дзержинского сильнее армии. Под колеса карательной машины все чаще стали попадать военспецы и даже командиры весьма пролетарского происхождения. Пока, правда, не выше комбрига, но это только начало, полагал Штейн. И ничего хорошего в будущем не ожидал. А наверху царило какое-то опьянение от видимых успехов.
Штейн же не доверял победам. Он хорошо помнил октябрь семнадцатого, когда вдруг оказался в кабинете начальника департамента ценных бумаг Министерства финансов. Министерство, разумеется, называлось теперь народным комиссариатом, а департамент – его отделом, но сущности это не меняло. Радость сменилась ужасом. Желанная власть обернулась кромешной ответственностью. Этот же ужас он читал в глазах Менжинского – народного комиссара финансов, не имеющего о денежных системах решительно никакого представления. Под ногами – великая империя, разоренная войной, безоглядным воровством и бездарностью всех предыдущих правительств. И мы – социал-демократы с опытом и психологией оголтелой нищеты. Одиночка в Орловском централе – рай по сравнению с роскошным кабинетом статского генерала. Только Ленин и Троцкий в те дни не теряли присутствия духа, и Штейн преклонился перед их силой. Менжинский скоро надоел Ленину бесконечной беготней к председателю Совнаркома по самым пустяковым поводам, и тот отправил его с глаз долой в Германию. А Штейн рад был перейти в новое ведомство – грозную ВЧК.
Должность в ВЧК была куда скромней, чем в наркомате финансов, но с каким облегчением Штейн сбросил с широких плеч не по ним высокий чин и окунулся в работу, знакомую со стороны противоположной: то его ловили в сети государственной карательной машины, теперь он, мстя за свою оплошность в 1909 году. И вот что значит слово – до Штейна только году в двадцатом дошло, что теперь он сам оказался в жандармах, но это вызвало только насмешку над прихотью судьбы. В конце концов, не до рассуждений, когда республика в кольце фронтов.
Рассуждения нагнали не спросясь. Стали невыносимы утренние пробуждения. Нет, не совесть, совестью старого большевика не проймешь. Он видел, что его родное ОГПУ теряет голову и чувство меры. И добром это не кончится. Нет, не кончится.
Карающий меч революции ржавел на глазах. В ЦК партии обнаружилась какая-то фанатическая жажда разоблачений. Мало им реальных врагов, подавай теперь «потенциальных». Того гляди дело дойдет до контрольных цифр и особой строки в Госплане: раскрыть двенадцать заговоров, разоблачить сто террористов, четыреста шпионов и триста диверсантов. Подать на жаркое потенциального врага нетрудно, но что толку? Мы еще не можем обойтись без буржуазных специалистов, а пролетарские выучатся, дай бог, лет через тридцать. Правда, по дороге на работу эти трезвые мысли улетучивались, и в кабинете уполномоченный ОГПУ Штейн впадал в азарт умственной борьбы с противником, из которой чаще всего выходил победителем.
Глодало другое. Центральный аппарат романтического ВЧК-ОГПУ превращался в контору. Уже превратился. По коридорам стали ползти сплетни. Это бы полбеды, но тихие оговоры за спиной стали обретать физическую силу, и начались какие-то странные игры: опытных, старых чекистов потихоньку убирали из Москвы, «на укрепление» то каких-нибудь тмутараканских органов, то вообще на хозяйственную работу, а на их место сажали людей не самых, по мнению Штейна, достойных. После смерти Дзержинского это таинственное перемещение кадров обрело характер лихорадки. В нем вдруг снова, как в годы подпольщины, заговорило чувство опасности.
Пили чай в узком кругу соратников, и Фриновский невзначай бросил фразу: «Ну ты, Арон, известное дело – человек Менжинского». Тут Штейна и ожгло. Хотя что особенного? А то – когда служащие раскладываются по именам начальства, жди беды. А в ОГПУ с недавних времен едва ли не к каждому приклеивалось: человек Дзержинского, человек Менжинского, человек Ягоды. Ягода влез в особое доверие к Сталину, приносил на хвосте новости из Политбюро и устные директивы, гораздо более обязательные к исполнению, чем письменные приказы и распоряжения самого председателя ОГПУ. И вот что настораживало опытного Штейна: по слухам, «люди Ягоды» обкладывали верхушку самого ЦК ВКП(б). Когда-то такого рода деятельность сгубила Третье отделение. В архивах царского министерства внутренних дел Штейн однажды обнаружил заключение сенатора Шамшина о работе этого пугала всей России. Профессионального революционера, Штейна изумило, что на сыск в среде царских сановников средств тратилось неизмеримо больше, чем на преследование народников. Тогда это немало потешило чекиста. Сейчас, когда в те же игры подозрительный Сталин втянул ОГПУ, не до смеха.
Он почувствовал себя в западне. Добровольно из ОГПУ не уходят. Технология прощания со слабонервными была отработана еще в восемнадцатом году. То машина наедет на бывшего чекиста посередь пустой улицы, то кирпич упадет. Всякое может случиться с человеком, которому опротивела наша служба.
Но Штейну повезло. Его «бросили» на создание особой группы, дело потихоньку двигалось, и хотя чуть не лопнуло в один прекрасный день, но все же настал миг, когда Арон Моисеевич простился с Лубянкой. Наверно, это опять было понижение, но иному повороту в карьере радуешься больше, чем самому почетному возвышению. Он выбывал из опасной игры в центральном аппарате, обретал относительную независимость, а само дело представлялось крайне интересным. Если бы не нюансы.
Ситуация с Фелициановым была идиотской. Загребли его случайно, по записной книжке арестованного Панина в ту пору, когда Штейн получил новое задание от Менжинского. Готовясь к допросу, а главное, уже в ходе разговора, даже с первого взгляда уполномоченный ОГПУ решил, что Фелицианов мог бы сгодиться ему, о чем и было доложено первому заму председателя, и Менжинский, посмотрев на подследственного, одобрил выбор Штейна. Но чуткие стены Лубянки донесли о создании особой группы под крылом Менжинского Железному Феликсу – принципиальному противнику всех и всяческих игр с классовым врагом, и сама идея была едва не угроблена. Тем временем ушлый Лисюцкий дожал Фелицианова, и тот едва не подвел себя под расстрел. Во всяком случае, сам Лисюцкий хлопотал о высшей мере социальной защиты советского государства от несостоявшегося филолога и проявил при этом упорство фанатическое, добравшись до кабинета Ягоды, которого без труда убедил в чрезвычайной опасности Фелицианова для общества. Видно, Люциан Корнелиевич никак не мог смириться с прихотью природы, одарившей его двойником. Но для Штейна, романтика сыска и в известной степени идеалиста, настырность Лисюцкого означала необходимость влезать во внутриведомственные интриги, искать защиты для Фелицианова у Менжинского, а в лице товарища по работе схлопотать смертельного врага. Неизвестно, чем бы кончилась эта борьба, но ягодовские костоломы угробили Панина, и дело развалилось. Штейн сумел добиться для своего подопечного относительно мягкого приговора. Да на всякий случай из газетного отчета о разоблачении шпионской группы Панина и Любимова имя Фелицианова убрали. В июле Дзержинского, грех говорить, но слава богу, не стало, и затея его первого зама воскресла.
Сейчас перед уполномоченным ОГПУ сидел человек настороженный и озлобленный. Враг. А Штейну нужен деятельный союзник.
– Вы, Георгий Андреевич, уже играли в молчанку. Результат известен. Я жду.
– От меня вы больше ничего не дождетесь. Всего, что вам надо было, вы добились. Добавить нечего. О степени моей вины – нулевой! – вам прекрасно известно. Чего вы еще от меня хотите?
– Сотрудничества.
– Ну уж этого я вам никак не могу обещать. Тем более что мне уже таковое предлагали. А результат отказа только убедил меня в правильности.
– Речь идет о другом сотрудничестве.
– Все равно. Я ни в каком роде не желаю ни в чем помогать вам. И вообще не понимаю, зачем вы меня привезли сюда.
– А вам что, хорошо было в лагере? Может, мы вам слишком уютную зону предоставили? По вашему виду незаметно. Но у нас есть и другие лагеря. За Полярным кругом. Или в песках Туркестана. Ах, этот юг, ах, эта Ницца… Так, кажется, Тютчев говаривал? Можем и в те края отправить. Погреться. В Туркестане сейчас большая стройка затевается, без работы не останетесь.
– Какая разница, где умирать?
– Вам – никакой. А у нас есть свои виды.
– Много на себя берете. В смерти вы вольны, но не более того. А к смерти я готов. И напрасно вы мне помешали.
– Насчет своей готовности отправиться на тот свет вы ошибаетесь. За доказательством дело не станет. Но сегодня я бы не хотел прибегать к мерам крайним и болезненным. Все-таки не забывайте, где вы находитесь. Здесь нет решеток на окнах, и трамваи звенят, и птички поют… Но это ровным счетом ничего не значит. Вы в тюрьме. А условия отбывания срока – это уж наша забота. Так вот, перехожу к делу.
– Я, гражданин уполномоченный, ясно сказал, что никаких дел со мной прошу не начинать.
Фелицианов ожидал, что Штейн взорвется, вспылит, и эта казнь в невесомом кресле кончится где-нибудь в камере. Привыкнув к мысли о быстром конце, Георгий Андреевич торопил время, а всякая неопределенность оттягивала муку.
Нет, Штейн не взорвался, не вспылил – он всякого навидался. Ламывать приходилось и не таких. В частности, и вежливым пренебрежением к личному оскорблению. Он просто переменил планы на сегодня и решил не посвящать заключенного в суть дела. Успеется. Он согнал с лица добродушную иронию, стал сух и официален.
– В соответствии с режимом отбывания заключения, – заговорил Штейн скрипуче-канцелярским голосом, – вам вменяется в обязанность чтение некой рукописи. По прочтении вам надлежит написать рецензию на это произведение. Норма чтения – двести страниц в день. На сегодня вы лишаетесь прогулки и обеда.
Со стеллажа извлечена была толстая папка на добрую тысячу страниц. Штейн, аккуратно положив ее перед Фелициановым, ушел. Урчание мотора за окном означало, что он отбыл домой. А может, к начальству. Кто его знает?
Георгий Андреевич остался один.
Когда ты на свободе, бульвары представляются средоточием тишины. Мы, оказывается, умеем не слышать. Сейчас же уличные гулы обвалились на слух несчастного Фелицианова, они дразнили арестанта, манили на волю, вселили в душу лихорадочное беспокойство. Он закрыл форточку – не помогло: чуть глуше, но еще заманчивей и соблазнительнее. Слух обостряется, зачем-то нестерпимо хочется связать обрывки разговоров у трамвайной остановки – она как раз напротив ворот особняка.
Георгий Андреевич метался из угла в угол, не в силах сосредоточиться ни на одной мысли. А ведь надо хотя бы попытаться понять свое новое положение, выработать линию поведения со Штейном… Он вышел из комнаты.
Никуда его конвоиры не делись – вот они, все три добрых молодца молчаливо стоят в коридоре. Указали, где туалет, ванная, во все прочие помещения – «Не положено!» И, как часовые у мавзолея, замерли у дверей, невесть куда ведущих.
Не положено так не положено, Георгий Андреевич вернулся в гостиную. Опять ходил из угла в угол, отмерив по диагонали одиннадцать шагов. Так ни до чего не додумавшись, из простого любопытства – он не намеревался делать этого – развязал тесемки.
Титульного листа не было. Ни названия, ни фамилии автора. Почерк витиеват, особенно на первых страницах, с вычурными писарскими кудрями вокруг прописных и тех элементов строчных, что витают над строкой или играют под нею. Текст начинался, как у каждого третьего графомана, с весеннего пейзажа: «Весна в тот год выдалась поздняя, зато дружная». И пошло-поехало: ручейки, зеленя, птички райские щебечут… Страниц семь усердного и равнодушного описания природы, знакомой Фелицианову по гимназическим каникулам на Кавказе. Действие, видимо, происходило там, в долинах Терека. Но до действия далеко – длинная и корявая этнография русских поселений на границе с Чечней и Дагестаном, быт казачества, долгое, страниц на сорок, детство с материнской лаской, отцовым ремнем и обидами на драчливых товарищей, преодоленными упорными тренировками с бодливой козой и воспитанным в самом себе бесстрашием.
Один эпизод, впрочем, растрогал Фелицианова: козу Маланью, на которой мальчик отрабатывал приемы борьбы, зарезали и съели. Сильные искренние чувства каким-то образом передаются робкой на перо руке, неведомо как находятся точные слова и к месту.
Мало-помалу Георгий Андреевич втянулся. Оказывается, за эти месяцы он страшно соскучился по написанным буквам – в лагере даже клочка газеты не увидишь, о книгах и говорить нечего. В студенческие годы он занимался немного редактированием – в основном статей для одного мелкого декадентского журнала, изредка попадались рассказы, но с романом он имел дело впервые. Впрочем, романом эту аморфную громаду текста назвать трудно – концы не вязались с концами, своенравная мысль убегала от самого автора. Но уже забрезжили какие-то собственные соображения, тут, конечно, есть что доводить до ума. Хорошо бы с автором поговорить.
В норму Георгий Андреевич не уложился – страниц за сорок до нее в глазах зарябило, в них будто песком брызнули. Поскольку читал он, лежа на диване, так и заснул, не раздеваясь, убаюканный перинной мягкостью.
Разбудили, как в лагере, в шесть утра.
В половине седьмого явилась девица – официантка? горничная? – в белом крахмальном передничке, молча внесла поднос: черный кофе, две булочки-бриоши, глазунья из двух яиц, кубик масла. И это тюрьма?
Да, тюрьма. Те же охранники, и тот же окрик: «Сюда не положено!»
После кофе чтение пошло легче, и часы глотались вместе с текстом стремительно и незаметно.
Штейн явился на третье утро.
Интересная у него манера – вести разговор, будто последняя фраза отзвучала только что.
– Вы, Георгий Андреевич, как я понимаю, приняли наши условия.
– Никаких условий я не принимал, тем более что ничего толком о них не знаю. Вы оставили меня в полном бездействии, наедине вот с этой папкой. А как человек грамотный и по чтению стосковавшийся, я и стал ее читать. Но это вовсе ничего не означает. – Фелицианов счел уместным держаться с непосредственной, простодушной наглостью. Терять ему все равно нечего – комфортное перемещение через полстраны из барака в особняк Георгий Андреевич отнюдь не считал приобретением, он ждал подвоха.
– От вас пока больше ничего и не требуется. А в дальнейшее сами втянетесь. – Тут Штейн позволил себе подхихикнуть. – И надеюсь, что после физических упражнений на свежем воздухе вы с особым старанием начнете трудиться на том поприще, к которому призваны, так сказать, от природы. И получили соответствующее образование.
– Покупаете вдохновение?
– Я не хуже вас знаю, что не продается вдохновение. – Фелициановская реплика привела Штейна в раздражение. – Нет, от вас и ваших товарищей потребуется только рукопись правдивого, реалистического романа. И вы ее создадите. Чем чреват саботаж, я полагаю, вы поняли.
– Так вы хотите, чтобы я написал правду о том, как наши органы превращают свидетеля в обвиняемого, как простого, мирного обывателя путем логических подмен и шантажа заставляют признать за собой самые нелепые преступления? Как в лагере на политических натравливают уголовную шпану, как доводят до полной дистрофии полуголодом и непосильными каторжными работами? Как издевается над заключенными вохра, бесчисленные надзиратели, кумовья? Последние полгода вдохновили меня лишь на такую тему.
– Не забывайтесь, Георгий Андреевич. Ваш срок только начался, четыре с лишним года впереди. И кстати, товарищ Шелуханов характеризует вас не лучшим образом и ходатайствует перед нами о возбуждении в отношении вас нового уголовного дела, поскольку на путь исправления гражданин Фелицианов не встал, общался с враждебными контрреволюционными элементами, в общественной жизни лагпункта не участвовал. И это в наших силах – удовлетворить ходатайство товарища Шелуханова или, наоборот, за честный, добросовестный труд на благо родины сократить ваше пребывание в заключении. Советское уголовно-процессуальное право допускает и такое. Нет, тему мы вам зададим сами.
– И что же это за тема?
– Да вот же – в той рукописи, что вы прочли. Терское казачество в революции.
– Не знаю, терский ли то был или донской, но в 1905 году из собственного окна видел, как лихой казак на коне загнал в наш двор курсистку и хлестал ее нагайкой.
– Казаки разные были. За красных целая дивизия воевала. И хорошо воевала, доложу вам. Да и товарищ Буденный из казаков, донских, правда, а не терских.
– Едва ли я могу быть полезен. Казаков после того случая невзлюбил на всю жизнь, да и в гражданскую нагляделся – у белых, замечу вам. И, честно говоря, никогда ими не интересовался. И это сочинение, – указал на папку, – не прибавило ни симпатий, ни интереса.
– Придется поинтересоваться. А материала у вас будет достаточно. – Штейн широким жестом обвел книжные стеллажи. – И это еще не все. В вашем распоряжении каталог Румянцев… простите, Ленинской библиотеки – можете заказывать все, что вам заблагорассудится. И копии архивных документов. Но самое главное – первичный материал.
История первичного материала, вкратце рассказанная Штейном, была такова. На румынской границе летом прошлого года в перестрелке был убит белогвардейский офицер, некто войсковой старшина Горюнов Алексей Пантелеймонович, пытавшийся тайно проникнуть в советскую Россию. Единственное, что удалось при нем обнаружить, – мешок с бумагами. Это были рукописи – дневники времен эмиграции с некоторыми отступлениями в область воспоминаний и какой-то нескончаемый роман. Бдительные местные чекисты сочли, что в рукописи зашифрованы какие-то ценные сведения. Долго ломали головы в Одессе, потом в Киеве, откуда мешок с рукописями попал в Москву, где наконец догадались, что никакого шифра тут нет, а есть просто незаконченный роман и дневник растерявшегося от великих потрясений человека. Рукопись дали на экспертизу известному писателю, тоже казаку, Спиридону Шестикрылову – его роман «Огненная лава» прогремел не так давно на всю страну и уже попал в школьные учебники. Спиридон, получивший в награду за шедевр советской классики редакторство в большом журнале, пришел в восторг от прочитанного и изъявил готовность немедленно печатать неведомый роман у себя. Да кто ж позволит в советском журнале печатать белогвардейца? Ленина с его широтой в этом смысле в живых уже не было, Троцкий свою былую силу потерял, к Сталину с подобной идеей и подойти страшно. К тому же роман этот был не закончен, он даже названия не имел, а расхлябанность композиции, отступления от вкуса, а то и элементарной грамотности отмечал и сам восторженный рецензент. Но Шестикрылов азартом своим заразил Менжинского, и Вячеслав Рудольфович, в молодости баловавшийся литературными упражнениями, нашел соломоново решение: роман дописать силами ОГПУ, автора назначить из вольных литераторов. Сам Шестикрылов от такой чести отказался. Он, видите ли, казак кубанский, а Горюнов – из терских; к тому же, утверждал гордый классик, его стиль давно, еще до революции, сложился, устоялся и признан народом. Как бы не обнаружили подмены! Нет, здесь нужен писатель молодой, малоизвестный…
Затея в своем окончательном виде чрезвычайно понравилась Сталину. Да, это очень полезно – показать всему миру, что логика революционной борьбы даже враждебное нам казачество – верных слуг царского режима – убеждает в своей неизбежной победе. Потому что советская власть – подлинно народная власть. И если это будет показано художественными средствами, убедительно и ярко, я буду только приветствовать. Такой роман еще послужит расцвету советской литературы. Хватит нам кормиться хилыми сочинениями хлипких попутчиков. Пусть свое веское слово скажет писатель из простого народа. У Сталина уже вырабатывались манеры восточного мудреца, отвешивающего согражданам краткие афоризмы-формулировки. И даже хорошо, что казак, добавил он, чуть подумав. Яша, конечно, погорячился с ними в восемнадцатом, пора поправить его ошибку. Да ведь после Яши еще друг Серго наворотил, – пришлось-таки Менжинскому тронуть неприятную тему, – терское казачество истреблялось целыми станицами. Что от него осталось? И Серго поправим, невозмутимо ответствовал Коба. Серго мне друг, но покой среди горцев дороже. Пора восстанавливать русское население на Кавказе. Но пусть органы ОГПУ, заметил в конце беседы осторожный генсек, обеспечат полную секретность предстоящего предприятия.
В ОГПУ была создана спецгруппа «Хладный Терек» (вкус тот еще, отметил про себя Георгий Андреевич) – по наспех придуманному Шестикрыловым названию для горюновского романа. Возглавлять группу поручили Арону Моисеевичу Штейну, который с первых же месяцев после создания ВЧК занимался работой в литературно-художественной среде. О том, как Дзержинский чуть не похоронил сию блистательную идею, Штейн, разумеется, не распространялся.
Пока Фелицианов – первый из будущих создателей «Хладного Терека», скоро прибудут и остальные.
– Вам как первому предоставлено право выбрать себе кабинет.
– Я бы хотел устроиться в мезонине окнами на бульвар.
– Восток. Летом по утрам солнце будет мешать. К тому же не забывайте: вы заключенный, ходу отсюда без конвоя нет. Как бы не затосковать, на бульвар глядючи. Опять-таки и шум не даст работать.
Северные окна выходили на симпатичный дворик соседнего дома, куда когда-то в доисторические времена студент Фелицианов захаживал в издательство «Мусагет». Блока видел. Поэт ожег надменным взглядом юного поклонника, и почему-то Жорж и сейчас почувствовал неловкость и стыд. Нет, не надо сюда смотреть. Да и темно, мрачно было в комнатах на северной стороне. Фелицианов все же настоял на своем.
Комнатка с широким полукруглым окном была маленькой, с довольно низким потолком, зато массивный письменный стол под темно-зеленым сукном – дубовый, с резными дверцами у тумбочек и широким ящиком в середине – был точь-в-точь как у папы в кабинете. Пахло тайнами детства. И письменный прибор красного мрамора с бронзой был под стать столу – тяжелый, добротный. Глаз несколько шокировало кресло карельской березы, уж больно выбивалось из стиля, продиктованного столом, но было оно удобно, и на том спасибо. Что с этих чекистов хороший вкус и чувство стиля спрашивать. Свезли небось не разворованное в процессе реквизиции, что под руку попало, а на их пролетарский взгляд любое барское добро шикарно и в шике одинаково.
За обедом – нарпитовским по качеству (что, впрочем, голодный Фелицианов оценит позже) и барским одновременно, на явно у каких-то старинных дворян реквизированном сервизе, украшенном фамильным гербом, с крахмальными салфетками, столовым серебром, и тихая девушка неслышно подавала, меняла блюда и растворялась в воздухе – Штейн поведал Георгию Андреевичу режим его здешнего заключения. Подъем, как и в лагере, в шесть утра. С семи до пяти вечера (впрочем, если вам хорошо работается, конец трудового дня мы ограничивать не будем) – работа. Оставшееся время – по вашему усмотрению. Можете читать, играть в шахматы, да что хотите… В двадцать два – отбой. Жить будете в общей камере. Она находится в подвале. Никаких свиданий, передач, писем не полагается. Режим «без права переписки» для вас остается прежним.
Постепенно Необитаемый остров обживался робинзонами, прибывшими сюда как из мест не столь отдаленных, так и прямо с Лубянки.
Первым аж с самих Соловецких островов был доставлен серебряный старец, будто сошедший с древней иконы новгородского письма: измученное лицо, удлиненное узкой бородою, длинные тонкие руки, глаза выцветшей синевы, глубокие и ясные.
– Чернышевский, – представился старец.
Ох уж эта старомосковская привычка всюду отыскивать родню и знакомых и тут же преподносить, желая доставить собеседнику приятное, полагаясь на крепость связующей нити! Фелицианов разлетелся, радостно сообщил, что читал ваши, Александр Максимович, стихи, а с последователем вашим Ферапонтом Ксенофонтовичем Сольцовым сидел в одном лагере.
Старик же при воспоминаниях о стихах поморщился, а имя Сольцова привело его в состояние мрачное.
– Да, – сказал он. – Я грешен, многих совратил с пути, и Сольцов в их числе. Несчастный человек. – И даже не поинтересовался, как он там, здоров ли, или лагерь измордовал верного чернышевца. Нет, замкнулся, ушел в себя, и вроде как говорить стало не о чем.
Полночи Фелицианов вертелся, казнил себя за бестактность, какой дьявол тянул за язык… Старику тоже не спалось на новом ли месте или от тяготы возраста. Но вдруг во тьме раздался его голос:
– Я, кажется, не сумел скрыть своего раздражения. Простите, любезнейший.
– Да нет, что вы, я сам виноват. Мне казалось, вы были б довольны, что вас помнят, что за вашим словом пошли, и идут, и дальше будут идти.
– Вот в том-то и беда, что идут. Никуда не надо идти! Особенно по слову, «по глаголу моему». И впредь умоляю – ни по глаголу моему, ни по имени существительному и имени прилагательному, ни по наречию и причастию, ни даже по междометию моему не надо никуда ходить. Я сам, сам сбился с пути с первых же шагов. Ну ладно бы сам – в человечестве никто не минул заблуждений. Я простодушных людей повел за собой.
– Так вы к добру звали. Тот же Ферапонт Сольцов. Ну пошел бы он как верноподданный на ту же японскую войну – хлопнули б где-нибудь под Ляояном, вот и весь сказ. Сейчас, конечно, пацифизм, который он проповедует, очень уж не в моде, но вода камень точит. А в наш жестокий век…
– В наш жестокий век я своим болтливым языком десятки людей на каторгу отправил. Что при царе, что при этих. А добро, если хотите знать, истинное добро не ходит толпами. Оно созревает в одинокой душе.
– Как я понимаю, оно тогда в вашей душе и созрело, и вырастило слово, за которым пошли, уверовав.
– Слово, которое зовет, надо каленым железом… Нет, железо слишком слабо, не тот материал – каленым юмором выжигать, драть сатирой как сидорову козу! Зовет слово однозначное, буквальное. Это смерть поэзии. А народ, похоронивший поэзию, гибнет сам. Свято место пусто не бывает. Место поэта – тем более. Плюхнется на него дурной стихотворец, тут-то и жди беды. Мы вот уж век по Пушкину страдаем, как ему, бедному, от Бенкендорфовой цензуры доставалось. А вы представьте на миг – вдруг победили бы декабристы. Возвели бы того же Пестеля на престол. А Павел-то Иванович, уж будьте благонадежны – не осторожного чиновника без особых амбиций, каким был Бенкендорф, – он бы к Пушкину Рылеева приставил. С его самомнением и твердолобой непререкаемостью. Не уверен, что под такой опекой наше солнце русской поэзии не закатилось бы на десяток лет раньше.
– Позвольте, но они ж друзья были. И Пушкин, когда намеревался из Михайловского бежать, к Рылееву как раз и направлялся…
– Где царствует тщеславие, дружбы быть не может. Поверьте моему опыту – все литературные кружки, братства разваливались в считаные дни, когда речь заходила о первенстве. Ущемленные в Божьем даре наделены бешеной энергией уничтожения. Псевдотворцы, плохие литераторы вроде моего однофамильца – вот истинные злодеи и душители. И какую гадость в истории ни возьмете – всюду, всюду плохие романисты да поэты. Вперед, мать их ети, без страха и сомненья! А ты хоть посмотри, что там впереди-то, дурья башка! Какие казни, какие лагеря! Мало вам было гильотины? А ведь это изобретение французской революции. Либерте, фратерните, эгалите! Освободились, нечего сказать…
– От собственных голов, – усмехнулся Фелицианов. – Но вы-то не Марат какой-нибудь, вы-то проповедовали абсолютно противоположное.
– Содержание не имеет значения. Инквизиция казнила за то, что не так посмотрел, подставив левую щеку.
– Так, Александр Максимович, нас тут собирают по слову. Роман писать.
– Роман – это другое дело. Слово художественное, если оно нам поддастся, многозначно. За ним толпа не пойдет. Эх, нам бы такой силы стих, как у Лермонтова, помните?
- Выхожу один я на дорогу.
- Сквозь туман кремнистый путь блестит…
И какая толпа, скажите вы мне, ринется на кремнистый путь? А стихи доходят до самых заскорузлых душ. Ну ладно, заболтались мы с вами, а в шесть побудка.
Вслед за Чернышевским прибыл из владикавказской тюрьмы гвардейский полковник, бывший преображенец с громкой исторической фамилией. Отец его, армянский князь Аргутинский, одно время служил начальником Терской области и, соответственно, был наказным атаманом терского казачьего войска. Казаки и укрывали преображенца от властей, пока Всесоюзная перепись населения 1925 года не выковыряла его из маленького хутора, затерявшегося в предгорьях Кавказа.
Леонтий Свешников был доставлен прямо с улицы. Ну вот только что он читал свой рассказ «Случай в Злобунове» на Никитинских субботниках, и сам Андрей Белый удостоил его блистательным разносом. Рассказ, говорил он, – ристалище ритмов: робкого своего и победительного чужого, замятинского, отчасти пильняковского. И всякого рода «белая кипень» явно не виденная, но прилежно вычитанная. Много он еще наговорил, вгоняя бедного автора в смятение. А шли с литературного вечера вместе и полночи кружили по переулкам и бульварам, и Борис Николаевич пребывал в чрезвычайно взволнованном состоянии, и мысль Свешникова едва поспевала за быстрой, вдохновенной речью живого классика, в общении оказавшегося на редкость щедрым и доступным собеседником. Но очень уж умным – Леонтий с трудом понимал бурную, скачущую с ассоциации на ассоциацию речь Белого.
Зато Белый похвалил обнаруженный им в Свешникове дар метафоры и солнечную энергию слова. Он сам догадался, что Свешников – южанин, и даже Одессу заподозрил по случайной оговорке в рассказе о русской деревне, затерянной в лесах Средней полосы. В том и ошибка была, что Леонтий, ослепленный солнцем и морем, не научился различать сумеречных оттенков нашей убогой природы и взялся за описание географически не освоенного края.
Восторженный, Свешников, расставшись с дикорастущим русским гением (так он величал в уме Бориса Николаевича) у его подъезда, летел по ночной Москве быстрым шагом и пытался уложить в памяти, расставив по полочкам, мудреные мысли о значении цвета у Гоголя, как менялась гамма радуги от «Вечеров…» до «Шинели», о вторжении нечистой силы в русскую действительность, и проглядывались новые вариации собственного творения, так доброжелательно и нещадно разнесенного этим удивительным человеком, и жгла еще досада, что не расспросил о Блоке, Мережковском, о берлинских впечатлениях. Но, даст бог, еще увидимся, расспрошу…
На Пречистенке обогнала Леонтия черная машина, притормозила, любезный молодой человек предложил подвезти, внутри сидел еще один молодой человек, скромный и молчаливый слушатель литературных бесед у Евдоксии Федоровны, всегда почему-то располагавшийся в дальнем уголке.
Леонтий было отказался, но как-то нетвердо, любезные молодые люди чуть поднажали в настойчивости, он и сел. Едва захлопнулась дверца, услышал:
– Вы арестованы.
На Лубянке узнал Свешников, что рассказ его, давеча прочитанный на Никитинских субботниках, есть не что иное, как самая настоящая контрреволюционная агитация и пропаганда, целиком умещающаяся под сенью статьи 58, пункт 10, нового Уголовного кодекса. Вина усугублялась еще тем, что Свешников подпадал под формулировку «изготовление литературы». У него допытывались, кому он еще показывал эту вещицу, недостойную глаза советского гражданина. Как ни был ошарашен Леонтий нежданным арестом, хватило духу стоять на том, что рассказ едва вышел из-под пера и прочитан был вчера вечером первый раз, дабы не подпасть под формулировку следующую: «и распространение». Но скромный слушатель литературных бесед извлек из папочки копию рассказа, найденную в личном архиве аспиранта Шевелева.
– А это как понимать?
– Так ведь Глеб Михайлович пишет диссертацию о современной прозе, он сам попросил у меня рассказ… Ему все несут. К тому же я ни тогда, две недели назад, ни сейчас ничего контрреволюционного здесь не вижу. Да вы же сами были на обсуждении, вы же слышали: говорили много, даже ругали, но такое обвинение никому и в голову не пришло.
– Там публика специфическая, – с тихой угрозой проговорил следователь, – а у нас – вот, – и достал из той же папочки рецензию на «Случай в Злобунове» о трех страницах в полтора интервала на пишущей машинке. В завершение подпись: Спиридон Шестикрылов.
– Я не давал своей рукописи товарищу Шестикрылову, – пролепетал растерянный Свешников. Первое его чувство при виде этого документа было искреннее изумление.
– Это мы позаботились о вашей судьбе. Мы надеялись, что рассказ молодого и способного литератора мог бы украсить страницы журнала «Заря над Пресней», мы ж в вашем деле не специалисты, хотели сделать вам сюрприз, но оказалось – сами получили, и, слава богу, товарищ Шестикрылов не утратил классовой бдительности. Но вы почитайте, почитайте.
Показывать чуткому собеседнику с голубыми внимательными глазами второе чувство, охватившее Леонтия уже при чтении рецензии, здесь и сейчас явно неуместно, ибо чувство это, превысившее ужас, было омерзение.
Как странно, думал Свешников, Борис Николаевич камня на камне не оставил от моих упражнений, а я был счастлив. Этот хвалит стиль: «Слог у товарища Свешникова есть… сочный русский язык», а в пример приводит ненавистную отныне «белую кипень боярышника», и «своеобычный ритм» отметил, и даже изобретательность в сюжете находит, а все комплименты – мимо сути, и ощущение такое, будто в твоей свежей, невинной постельке грязный, потный мужик переспал с пьяной вокзальной шлюхой. А дальше-то, дальше: «Но мне бы, – пишет этот Шестикрылов, – не хотелось бы впредь называть Свешникова товарищем. Товарищ ему – недобитый тамбовский волк из банды Антонова». И на двух оставшихся страницах Шестикрылов вскрывает кулацкую, буржуазную суть господина Свешникова, не желающего понять указаний товарища Бухарина, а следовательно, и политики партии на селе. «Единственный коммунист – убогий недоумок Стайкин боится обогащаться, потому что не верит партии, как бы линия не переменилась и не охлестала б по спине доверчивых. Выводить такого коммуниста – явная контрреволюция, прикрытая так называемым психологизмом». Ну и так далее. Хотя чего там далее – кроме этой несчастной фразы, ничего в моем невинном рассказике нет.
Прямо с Лубянки, обысканного, остриженного и офотографированного, Свешникова привезли на Пречистенский бульвар вслед за однодельцем его аспирантом Глебом Шевелевым.
Последним доставили Виктора Поленцева. Он был единственный, почти посвященный в тайну своего заключения на Необитаемом острове. Виктор происходил из нестареющих литературных мальчиков при редакциях газет и журналов. Таскал маститому редактору «Зари над Пресней» тов. Шестикрылову свои вечно незавершенные обрывочки, отрывочки, кусочки в робкой надежде однажды проснуться знаменитым. Кормился же поденщиной, которую за настоящее не считал, хотя в мелких его рецензиях, фельетонах, набросках с натуры все отмечали острый глаз и тонкий юмор. Он как бы состоял в свите преуспевшего классика совлитературы и никем, в общем-то, всерьез не воспринимался. Что и немудрено: к тридцати двум годам Поленцев так ничего цельного из талантливых обрывочков, отрывочков, кусочков и не создал – на середине пути его изгрызало высокое эстетическое чувство, в нем блекли еще полчаса назад блестящие фразочки. Он уже не верил обнадеживающим похвалам Шестикрылова, Леонида Леонова, Пильняка, Серафимовича и даже интеллигентного и насмешливого Булгакова и беспощадно рвал свои бессонные шедевры, обедняя тем самым облик растущей советской литературы и добычу чекистов при обыске.
На непомерное тщеславие Поленцева и сделал ставку Шестикрылов, предложив в приватной беседе стать автором создаваемой силами ОГПУ эпопеи терского казачества, будущего шедевра советской литературы, куда там моей «Огненной лаве» (тяжкий вздох и напрасное ожидание от бестактного собеседника комплимента). Вот мы и остановили свой выбор на вас, Виктор Григорьевич. Благо родом вы из Пятигорска, хоть и не казак, да кое-что видели, пережили, в гражданской войне, хоть и спец, хорошо себя проявили, вам и карты в руки. Одно условие: это ответственное задание партии – ни о нашем разговоре, ни о том, как и кем пишется роман, ни звука.
Увы, ошибся товарищ Шестикрылов в товарище Поленцеве.
Отказался. Категорически и наотрез. Наивный, он полагал, что шедевры создаются ангелами во плоти.
Поленцев открывал ключом дверь своей квартиры, а с нижней площадки окликнули:
– Виктор Григорьевич, погодите.
Погодил. Теперь здесь.