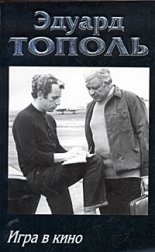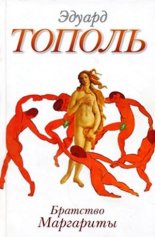Катынь. Post mortem Мулярчик Анджей

6
Юр приехал в тот день практически в полдень. Его документы были как будто в порядке, но при виде милицейского патруля он вышел из вагона на другую сторону путей. Доехал на трамвае до Раковицкого кладбища. Потом прошел еще немного пешком до домика с неоштукатуренными стенами. Там жила тетка Михалина. Но дверь ему открыла совсем чужая женщина. Она посмотрела на рюкзак, на сапоги, на истрепанную ветровку и висевшую на боку холщовую сумку. В дом она его не впустила. Позволила только оставить рюкзак и сумку. А если он назвался родственником, то, верно, знает, что Михалина работает в Театре Словацкого? Да, он об этом знал, знал, что она там работает постижером [3] и костюмершей.
Юр нашел тетку в театре, в котором царила предпремьерная суматоха. Тетку Михалину его визит застал врасплох, как и то, что он хочет у нее остановиться: сейчас у нее жила родственница мужа, которая укрывалась здесь после Варшавского восстания. А сам Юр, уж не пытается ли и он, случаем, спрятаться у нее от властей? Нет, заявлял он, ни от кого он прятаться не намерен. Он хочет наконец жить, собирается стать студентом. Ведь найдется же у тетки, наверное, хоть какая-нибудь конура для него?
Горбатая тетка Михалина с плоским, что твоя камбала, лицом, велела ему подождать у театрального входа: когда премьера закончится, они вместе пойдут к ней домой.
Именно тогда он и увидел среди выходившей из театра публики тех двух девушек. А когда спрашивал, все ли девушки в Кракове такие хорошенькие, то думал он в этот момент только об одной, о той единственной, у которой была родинка на щеке…
7
Воздух стал легче, чем еще день или два тому назад. Май набирал силу на бульварах – Плантах, зеленели газоны вокруг Вавеля, на стоянке для дрожек воробьи, весело чирикая, прыгали под ногами у лошадей, запряженных в дрожки, копались в конском навозе и своим неугомонным чириканьем возвещали о наступлении весны.
Ника остановилась на площади Марии Магдалины, с улыбкой наблюдая за стайкой голубей, рассевшихся на белых стенах костела Святых Петра и Павла на улице Гродзкой. Переступая с лапки на лапку, они смотрели со своей высоты на серо-бурых прохожих, спешивших внизу по улице один за другим, словно муравьи. Все торопились куда-то вперед, как будто хотели догнать кого-то или убежать от чего-то. Они несли свертки, рюкзаки, узелки и производили впечатление участников великого переселения, когда берут с собой все, что имеют. Весна обходила их стороной, она их не касалась. Они двигались вперед, сталкиваясь на тротуаре, уперев взгляд в свои ботинки, и при этом не намеренные никому уступать дорогу, как люди, которым удалось уцелеть и спасти свою жизнь во время войны и которые теперь не собираются ничему и никому подчиняться…
Это произошло неожиданно. Ника была уже возле Рыночной площади, когда с улицы Гроздкой на площадь въехал открытый грузовик марки «ЗиС» с портретом Сталина, укрепленным над шоферской кабиной, а сидящие на коробе кузова советские солдаты вспарывали воздух очередями из автоматов.
И вдруг толпа на мгновение замерла и тут же рассыпалась в испуге. Голуби с хлопаньем крыльев вырывались из-под ног людей, послышались крики, и люди, которых Ника только что видела вокруг, разбежались, как будто пытаясь найти хоть какое-то убежище. Но почему некоторые из людей бросаются обниматься? Что это, жест отчаяния или радости? И откуда раздаются эти звуки колоколов?
Она добежала до Мариацкого костела, успевая внимательно смотреть по сторонам. С улицы Флорианской на Рыночную площадь на огромной скорости въехал газик с советскими солдатами. Она увидела поднятые вверх автоматы. Видела, как на мостовую сыплются автоматные гильзы, напоминавшие золотые зерна кукурузы, когда их освобождают от шелухи. Нике хотелось бы услышать, что кричат люди, но в этом гвалте слова были подобны обрывкам бумаги, которые уносит ветер. Оказавшийся рядом с ней милиционер сорвал с плеча винтовку и открыл стрельбу поверх здания Сукенниц, передергивая затвор раз за разом. Люди сбивались в группки, махали руками, а она стояла посреди Рыночной площади, ничего не понимая и лишь ощущая тяжесть портфеля с учебниками для первого класса лицея.
И тогда раздался звон колоколов с башни Мариацкого костела. Поначалу колокола робко, как бы вполголоса охнули, но через минуту их густой, могучий звук разнесся над Рыночной площадью, разливаясь по всем улицам.
Этот колокольный звон, словно пытавшийся заглушить беспорядочный хор человеческих голосов, сумасшедшую стрельбу и хлопанье крыльев испуганных голубей – все, что творилось сейчас вокруг нее, было симфонией конца войны. Ее подхватил какой-то парень и начал кружить в сумасшедшем танце. Она ощущала на своих плечах его сильные руки, все вокруг вертелось в вихре, пока у нее вдруг не закружилась голова и она не выпустила из рук портфель. Ника, осев на колени, хотела его поднять, но парень оказался проворнее, он уже держал в руках ее портфель, и, когда их лица сблизились, он притянул Нику к себе и поцеловал прямо в губы. Ника оттолкнула его, в возмущении хотела вырвать свой портфель, крикнуть ему прямо в лицо, что это хамство, что это недопустимо, но не успела, так как парень улыбнулся ей как-то озорно и как будто даже чуть беспомощно.
– Конец войне! – когда Юр это произносит, он в самом деле взволнован. – Сегодня мы все вместе и все можно!
И вдруг она увидела, как блеснули его глаза, он поднес палец к самому ее лицу и сказал, будто действительно нашел свою судьбу:
– Да! Это вы! Я вас видел в театре. – Его палец потянулся к родинке на левой щеке Ники, и, пытаясь перекричать мощный звук колоколов, Юр признался ей, что когда-то цыганка ему нагадала, чтобы он, как король Попель, остерегался мышей. [4]
Мелькнула его белозубая улыбка, он хотел еще что-то сказать, но в эту минуту звучание колоколов перекрыл топот копыт. Прямо на них неслись дрожки, в которых сидели два пьяных советских солдата. Они взметнули вверх автоматы и пустили очередь. Ника от неожиданности съежилась, и тогда Юр, посмотрев на нее, произнес с забавным превосходством мужчины-партизана:
– Вижу, что вы барышня необстрелянная. Хуже нет бояться своего страха!
Ника вырвала портфель из его рук и бросилась бегом в сторону улицы Шпитальной. Звук колоколов буквально прижимал ее к земле.
8
Тоненькая, как иголка, кисточка погрузилась в бутылочку с тушью. Анна приложила к глазу увеличительное стекло и склонилась над старой фотографией. Она сидела сгорбившись за небольшим секретером, фанерованную поверхность которого защищал лист упаковочной бумаги, поверх этой бумаги лежала старая, порыжевшая от времени фотография. Размытый профиль мужчины, подбородок которого упирался в жесткий воротник мундира, увиденный в увеличительном стекле, сначала расплылся как в тумане, и только потом, когда Анна склонилась над ним еще ниже, изображение сделалось настолько резким, что можно было разглядеть на погонах мундира три звездочки. Острие кисточки сначала зависло над глазом капитана. Каких-то три едва заметных движения, и левый глаз стал более выразительным. Анна снова окунула кисточку в тушь и занялась бровью, а потом вторым глазом. Капитан теперь смотрел на нее как на кого-то знакомого.
В этом контакте с незнакомыми прежде лицами, которые в процессе ретуширования становились распознаваемыми, было для Анны нечто интимное. Словно завязывалось близкое знакомство с кем-то, о ком мы мало знаем. Ведь когда владелец фотоателье пан Филлер поручал ей ретушировать фотографии, он не всегда сообщал информацию о тех, кто был изображен на этих снимках. Поэтому Анна про себя, мысленно, называла их: «Пан капитан, который любил жирное» или «Поручик холостяк с голодными глазами»…
Сколько таких знакомств она уже завела, вглядываясь в снимки через увеличительное стекло! Иногда она знакомилась с их судьбами ближе, когда женщина, отдававшая фотографию на ретуширование, готова была рассказать историю всей своей жизни и любви, соединившей ее с этим человеком в военной форме. Ибо преимущественно это были фотографии военных.
Анна как раз прорисовывала кисточкой позумент на воротнике капитана, когда из-за окна до нее донесся звон колоколов. Бьют тревогу или звонят во славу кого-то. Анна осторожно отложила кисточку, чтобы не испачкать поверхность секретера, и открыла окно. В заставленное мебелью помещение вместе с ритмичным звуком колоколов ворвался теплый майский воздух. Анна оперлась о подоконник, закрыла глаза и позволила легкому ветерку расчесывать ее длинные каштановые волосы…
Когда раздались выстрелы, в дверях гостиной появилась взволнованная Буся, как обычно, в черном платье.
– Что там происходит? – спросила она, подходя к окну.
Теперь они стояли рядом, вслушиваясь в доносящийся издалека шум. За спиной они услышали грохот распахнувшейся двери. На пороге появилась тучная жена железнодорожника, все тело ее колыхалось, как у человека, оказавшегося на узеньком мостике, и тут же из глаз ее хлынули слезы.
– Господи Иисусе! Люди!!! – с этими словами она бросилась к Бусе и заключила ее в объятья. – Госпожа профессорша! Войне конец!!!
Следом за женой в гостиную протиснулся и сам Ставовяк в форме железнодорожника, преодолевая свою обычную робость, он схватил руку Анны и принялся ее целовать. В этот момент Буся, побелев как пергамент из-за охватившего ее волнения, опустилась в кресло. Анна бросилась за каплями, и, когда она отсчитывала положенные тридцать капель, прописанных доктором Кшижановским, в дверях появилась Ника.
– Выходите из дома! Война кончилась!
И тогда Буся ожила. Она проглотила капли и встала с кресла, словно почувствовав внезапный прилив сил.
– Идемте в костел, надо поблагодарить Бога! Анджей наконец вернется, – сказала она. – Теперь все отыщутся.
Ника посмотрела на мать, как будто ожидая, что та как-нибудь сумеет сдержать безосновательные иллюзии бабушки.
– Ты не хочешь сказать ей наконец правду? – спросила она вполголоса.
Анна повернулась и в упор посмотрела на Нику. Какое-то мгновение они смотрели друг другу прямо в глаза.
– А ты знаешь правду?
– Я ее боюсь.
– Я тоже.
Только теперь они обнялись.
9
Моросил мелкий дождик, когда военная машина «Газ-67» остановилась на улице Брацкой. Рядом с водителем сидел поручик, сзади двое полковников. Один из них выбрался из-под брезентовой крыши газика, в руке его была папироса, которую он старался прикрывать ладонью, поручик подал ему плащ-накидку, но тот решительным жестом отказался.
– Подождите меня.
Сидевший сзади полковник в фуражке с синим околышем и окантованным козырьком жестом указал на часы: уже опаздываем. Ярослав кивнул головой, подтверждая, что он в курсе.
– Я сейчас вернусь. – Он посмотрел на номер дома, одернул мундир военной полевой формы, поправил фуражку и, стуча каблуками кирзовых сапог, двинулся к воротам. Тут он глубоко затянулся папиросой, носом выпустил дым и, бросив окурок, вдавил его сапогом в грязь. Папиросы он курил так, словно каждая затяжка должна была спасти ему жизнь…
Он торопился. Шагал через две ступеньки, что не помешало ему внимательно разглядеть стены лестничной клетки с отвалившимися тут и там кусками штукатурки. Перед дверью с латунной табличкой «ПРОФ. ЯН ФИЛИПИНСКИЙ» он еще раз одернул мундир, поправил портупею, нажал на звонок и ожидал в явном напряжении. Он услышал шарканье шлепанцев, в дверях появилась тучная женщина с красными щеками. Она в недоумении смотрела на полковника, который, бросив взгляд в глубь коридора, заметил на белой двери полоску бумаги с красными печатями.
– Это квартира профессора Филипинского?
– Да… – Женщина неуверенно смотрела на гостя. – Но профессор погиб в Заксенхаузене.
– А с кем я говорю?
– Ставовяк Тереса. Мы тут по ордеру.
– А семья профессора?
В этот момент в глубине квартиры появилась Буся в длинном черном платье. Сквозь пелену катаракты она смотрела на мужчину, стоявшего в дверях. Приблизившись, она увидела военную форму и воздела вверх руки.
– Ендрусь! – Это восклицание вырвалось у нее даже не из горла, а откуда-то из самого чрева. – Вернулся! Я знала!
Ставовяк попятилась в глубь коридора и с порога кухни наблюдала за этим странным визитом. Ярослав деликатно удерживал разволновавшуюся от счастья женщину.
– Мне очень жаль, но я не тот, за кого вы меня приняли. – Он приложил пальцы к козырьку и представился: – Полковник Ярослав Селим. Я получил ваш адрес от пана майора.
– Вы от него?
Ярослав ощущал на себе взгляд внимательно наблюдавшей за ним Ставовяк. Он осторожно взял под руку женщину в черном и повел ее к дверям гостиной.
– Давайте поговорим.
Ставовяк смотрела на стеклянную дверь гостиной так, словно хотела взглядом проникнуть внутрь.
Ярослав подвел разволновавшуюся женщину к креслу. Буся машинально прикоснулась своей хрупкой рукой к рукаву мундира Ярослава. Цвет его был вроде бы тот же, но на ощупь он не был столь гладким, как тот, который носил Анджей. Здесь было ощущение жесткой, как будто только что расчесанной овечьей шерсти. Ярослав осмотрелся, обведя взглядом гостиную, ему достаточно было и одного взгляда, чтобы понять, что жильцы этого дома живут словно в условиях затянувшегося переезда.
– А жена господина майора? – Он говорил с легким львовским акцентом. – Его дочь? Они живы?
Буся кивнула головой. Что-то по-прежнему сжимало ей горло, не позволяя говорить. Она вновь протянула руку, ухватила пуговицу на рукаве мундира полковника и впилась взглядом в его глаза, смотревшие на нее из-под козырька полевой фуражки. Ярослав не снял фуражку, может, просто забыв, а может, для того, чтобы произвести впечатление человека, который лишь на короткий миг прервал свою поездку. И действительно, в этот момент прозвучал лающий звук клаксона. Ярослав подошел к окну, отодвинул штору и посмотрел вниз, на брезентовый верх ожидавшей его машины. Клаксон прозвучал еще раз, из-под намокшего брезента выглянул поручик, обвел взглядом окна дома.
Ярослав направился к дверям. Буся с трудом поднялась с кресла, вытянула руки, словно любой ценой хотела задержать гостя, но тот уже стоял в дверях гостиной.
– Прошу вас, передайте госпоже майорше, что я виделся с ее мужем.
– Значит, он жив! – Буся машинально сложила руки в молитвенном жесте, и лицо ее вдруг озарилось каким-то необычайным светом.
– Этого я не сказал, – заметил Ярослав и добавил, как будто хотел оправдать свой лаконичный ответ: – У меня приказ, мне надо ехать в Берлин. Явлюсь к госпоже майорше через несколько дней.
Он отсалютовал и направился к входной двери. Буся засеменила за ним, шаркая тапочками. Ей хотелось задержать неожиданного гостя, остановить, расспросить, но тот, уже закрывая за собой дверь, просунул голову в дверной проем и сказал нечто, что должно было служить предвестием того, что визит этот не был последним:
– Мне надо еще кое-что передать от господина майора.
– Так скажите, что это! Сейчас! Сию минуту!!
– Это некий предмет. Но сейчас его при мне нет.
10
– Он так сказал?
Анна, стоя перед зеркалом, как раз собиралась снять с головы бордовую шляпку-ток с вуалью, но рассказ Буси о визите какого-то полковника остановил ее жест на полпути. Два последних года она носила эту вуаль, словно желала скрыться от чужих взглядов, стараясь оставить свое лицо исключительно для себя, и теперь она смотрела на Бусю сквозь серую дымку. Буся была какой-то иной, чем сегодня утром, когда жаловалась на сердце. Теперь она стояла посреди загроможденной гостиной в черной шляпке из плетеной соломки и натягивала на руки черные шелковые перчатки. Она была сосредоточенна, словно после обряда причастия. В руках она сжимала молитвенник. Она торопилась, она спешила в костел, чтобы поблагодарить Бога за данный ей знак от сына. Но Анна хотела знать больше. Она схватила свекровь за руки и вынудила ее посмотреть сквозь сеточку вуали ей прямо в глаза.
– Кто это был?
– Полковник. Действительно, полковник. Я же разбираюсь: у него были три звездочки и две нашивки.
– Из какого полка?! Каких войск?!
– Теперешних.
– Мама, повторите еще раз по порядку: что он сказал?
– Я же сказала, Аннушка: он сказал, что виделся с Анджеем…
– Когда?! Где?!
Буся беспомощно покачала головой: нет, этого он не сказал, не успел, очень торопился, у него был приказ ехать в Берлин, но когда он вернется, то сейчас же сюда явится, ведь он сказал, что ему надо передать что-то от Анджея, какую-то вещь.
– Так почему он ее не оставил?
– У него не было этой вещи при себе. Ведь это знак, что Анджей жив. – Буся взглянула на Анну из-под полей черной шляпки. – Может, и ты по этому случаю пойдешь в костел?
В этом был скрыт упрек ей, что Анна до сих пор недостаточно настойчиво искала пути к Господу Богу, но одновременно и надежда, что знак, который они сегодня получили, как-то изменит ее отношение. Анна опустила вуаль и взяла Бусю под руку. Она и так собиралась сегодня пойти в костел Святого Марка. Сестра Анастасия из лицея Вероники обещала, что договорится относительно ее встречи с каноником Ясиньским. Только он мог что-то знать о тех документах, касавшихся Катыни, которые в свое время попали в Краков. Каноник Ясиньский должен был с ней встретиться тотчас после майского богослужения в честь Пресвятой Богородицы. Анна даже Бусе об этом не говорила, так как не следовало об этом говорить вслух…
11
В полумраке костела Буся сидела на первой скамье рядом с Анной, которая даже здесь не открывала своего лица и смотрела сквозь дымку вуали на ангелов, возносившихся к алтарным небесам. Она искала взглядом сестру Анастасию, которая должна была устроить встречу с каноником Ясиньским. Но ее не было в костеле. Может, она ждала где-то снаружи?
Проникавшие сквозь разноцветные витражи лучи майского солнца ложились на лица верующих, на серый костюм Анны. Она смотрела на алтарь, но ей казались лицемерными улыбки святых, как будто все эти персонажи, эти скульптуры с воздетыми к небу руками взирали сверху на толпу молящихся людей с некой иронией, будто сострадая их наивности. Анна не могла усидеть на скамье. Ей по-прежнему не давал покоя вопрос, что за офицер приходил к ним сегодня. И что ей поведает священник Ясиньский. Когда Анна встала со скамьи, Буся, поглощенная молитвой, даже не обратила на нее внимания.
Анна прогуливалась возле костела, с надеждой глядя по сторонам, не появится ли откуда-нибудь сестра Анастасия или хотя бы незнакомый священник, который должен был сюда явиться, но никого не заметила. Когда люди начали выходить из костела, Анна заглянула в ризницу. Министрант как раз помогал приходскому священнику освободиться от стихаря. При виде Анны священник Тваруг доброжелательно улыбнулся.
– Госпожа майорша! – загудел он басом. – Вы все же посетили наши пределы.
– Я сопровождала свекровь. – Анна оглянулась в надежде, не ждет ли ее где-то за шкафами с ризами каноник Ясиньский.
– А я-то думал, что конец войны внушит вам веру в то, что Бог милосерден и что возлагаемые на Него надежды в конце концов оправдаются.
Он вглядывался в лицо Анны, скрытое под вуалью, с одной стороны, доброжелательно, а с другой – словно осуждающе.
– Я разочарую вас, отче. – Анна теперь откинула вуаль, чтобы взглянуть священнику прямо в глаза. – Я пришла не молиться. Вот уже два года я спрашиваю Бога, как могло такое произойти, как могло свершиться такое преступление, но в ответ я получаю лишь молчание.
Ксендз Тваруг неуверенно оглянулся и посмотрел в сторону министранта, складывавшего стихарь. Он явно не желал, чтобы подобные бунтарские признания коснулись ушей его помощника. Ксендз вывел Анну из ризницы. На улице майское солнце бросало тени на старые стены костела и каменных домов вокруг. Он смотрел на нее с заботливым участием, а в голосе его звучало предостережение:
– Ты обижаешься на Бога, дочь моя, за то, что человек еще не достиг человечности?
– Я обижена, что Он молчал, когда творились такие вещи.
– Конец войне – вот ответ на наши мольбы.
Анна закивала головой, как человек, которого не устраивают слишком простые ответы. Ее раздражало, что отец Тваруг всегда имел наготове простые ответы, даже на еще незаданные вопросы. Анна помнила, как в годовщину смерти профессора Филипинского она пришла заказать поминальную службу, и тогда священник сказал ей, что смерть может быть разной, важной и менее важной и что смерть профессора Филипинского относится как раз к первому типу, ибо мученический ее характер возвышает достоинство его семьи, а сама его смерть становится частью страдания всего народа. Буся считала, что ксендз Тваруг нашел для этого прекрасные слова, но Анна уже тогда твердо высказала ему свое мнение, что не бывает смертей лучше и хуже и ни для одной семьи не может стать утешением мысль о том, что страдания близкого человека помогут предъявить обвинение преступникам. Это случилось за два года до того, как она узнала о судьбе своего мужа. Поэтому она и не желала принимать простой рецепт приходского священника, который считал, что конец войны служит ответом на мольбы верующих.
– Но когда же я услышу ответ, почему вообще могла произойти эта катастрофа? – Анна смотрела сквозь сеточку вуали на здоровый румянец на щеках священника. – Почему человечество оказалось столь бесчеловечным?
– Человечество не должно задавать Ему такие вопросы, оно само должно отвечать на Его вопросы.
Анна почувствовала, что потеряла интерес к этому словесному пинг-понгу, в котором священник всегда желал оставить последнюю подачу. Она оглянулась вокруг в надежде, что увидит незнакомого священника, который должен был здесь с ней сегодня встретиться.
– Не видели ли вы тут ксендза Ясиньского? Сестра Анастасия договаривалась с ним о нашей встрече.
– Сестра Анастасия? – Вопрос явно застал священника врасплох.
– Моя дочь учится в лицее у монахинь. Она передала, что ксендз Ясиньский будет сегодня здесь после майского богослужения.
– Здесь? – Ксендз Тваруг был явно озадачен этой информацией Анны и даже встревожен.
– Кажется, он живет недалеко отсюда. Он мог бы мне что-то сказать относительно тех ящиков с документами, которые вроде бы хранились в курии…
Ксендз Тваруг огляделся вокруг, после чего наклонился к Анне и, понизив свой бас до шепота, произнес:
– Ксендз каноник Ясиньский в Величке.
– Но что он там делает?
– Вопрос скорее в том, что с ним там делают. Его увезли на допрос, – прошептал священник.
– И это сейчас?
– Вернее… только сейчас. – Священник взял Анну под руку и проводил в ризницу. – Вы, наверное, не слышали, что доктором Робелем и другими членами той комиссии еще в марте заинтересовался НКВД?
– Они арестованы?
Священник кивнул головой, он наклонился почти к самому уху Анны, так что она почувствовала тепло его дыхания.
– Остальные где-то скрываются.
Он повернулся к шкафчику и спрятал в него потир и дискос. Он явно давал понять, что больше ему нечего добавить. За спиной он услышал шепот Анны:
– Говорят, что в курии спрятаны какие-то материалы той комиссии. Что с ними сталось?
Священник повернулся к ней, широко развел руками и уже в полный голос произнес, завершая разговор:
– Я ничего не знаю, госпожа майорша. Всё в руках Бога.
12
Острый как иголка кончик кисточки завис над выцветшей фотографией: лицо молодого поручика с усиками рядом со светившимся счастьем лицом пухлой блондинки.
Анна поднесла к глазу увеличительное стекло, и глаза блондинки стали еще выразительнее, так много было в них счастья. Анна очень осторожно поправила тушью очертание усиков.
– Вы не поверите, но он сделал мне предложение в цирке во время антракта. И вот с тех пор, как я стала вдовой, я обязательно отправляюсь на цирковое представление вместе с сыном, когда цирк сюда приезжает.
Эта вдова говорит без умолку. Она все время торчит возле Анны в фотоателье господина Филлера, наверное, хочет проконтролировать, чтобы это ретуширование, которое она заказала, не исказило на старой фотографии ни единой детали. Вообще-то ей важна не столько фотография, сколько то, чтобы кто-то ее выслушал, ведь всем хорошо известно, что госпожа Анна Филипинская тоже вдова, хотя до сих пор из-за тех самых ошибок, которые были в том списке, нет окончательной уверенности. Вдова, которой поручик сделал предложение в цирке во время антракта, точно знает, что ее муж не вернется.
– Он погиб под Брестом, когда их окружили большевики. – Она следит за тем, как кисточка Анны подводит брови поручика, своей щекой прижавшегося к ее щеке. – Это единственная уцелевшая фотография. Когда пришли большевики, шурин сжег военную форму мужа и все его снимки в военной форме, настолько он боялся, что их отправят в Сибирь. – Вдова покачивается на стуле, что стоит рядом со столиком Анны, как человек, попавший в такт движению поезда. – Но все равно это нисколько не помогло. Семьи офицеров вывозили из Львова в первую очередь.
– Мы с дочкой укрылись в деревне под Пшемыслем и там дождались вступления немцев, – сказала Анна.
– Нас пять недель везли до Казахстана. – Вдова продолжает свой рассказ, и таким образом их судьбы словно взаимно дополняются. – Там мне пришлось пройти через ад, но я все время думала, что он в плену.
– Последнее письмо от него пришло в декабре тридцать девятого. – Анна провела кисточкой по бровям поручика. – Когда он уходил на войну, мне было страшно, что он погибнет. Но он не погиб. Его расстреляли.
И только теперь обе женщины совсем близко увидели друг друга, как люди, которые внезапно в чужом человеке узнают кого-то из соседей. Откладывая кисточку, Анна сказала, обращаясь больше к себе, чем к вдове:
– Разве после того, что они там сотворили, можно и дальше нормально жить?
– Жить можно, – вдова смотрела на уцелевшую фотографию мужа, – но забыть невозможно.
Анна начала работать в фотоателье Хуберта Филлера на улице Гродзкой, потому что там можно было возвращать прошлое в настоящее, нечеткий снимок сделать таким, чтобы его можно было вставить в рамку под стеклом. В витрине фотоателье Филлера висели фотографии молодоженов, на которых они соприкасались головами, как на почтовых открытках. Были здесь и невесты в фате, и мужчины в костюмах, были звезды краковских театров, портреты профессоров, но не было фотографий, подобных тем, которые Анна ретушировала. Вместе с окончанием войны появилось множество людей, которым непременно хотелось спасти изображение своих умерших или убитых родственников для семейного архива. Анна должна была выполнить свою работу так, чтобы со снимков можно было сделать репродукцию. Случалось, что она просиживала целый день в фотоателье, а господин Филлер непрерывно подсовывал ей очередные отпечатки для ретуширования. Она была ему благодарна за то, что он сам, будучи знаком с профессором Филипинским, предложил ей эту работу.
Хуберт Филлер всегда приветствовал ее в своем ателье низким поклоном и целовал ее руку. Он не скрывал, что считает себя человеком светским. Человеком, перед объективом которого не раз оказывались знаменитые персонажи этого города, человеком, который после каждой театральной премьеры запечатлевал великих звезд в их сценических костюмах и даже профессорам мог указывать, чтобы они не морщились и смотрели прямо в объектив; ему не надо было объясняться по поводу того, что во время оккупации он делал портреты офицеров вермахта, ибо ведь любой человек из так называемого общества отлично знал, что он делал также отпечатки фотографий для фальшивых кенкарт [5] и фотокопии различных немецких документов. Но он, разумеется, предпочитал делать художественные снимки. Сам себя он считал артистом, поэтому старался одеваться так, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что, входя в его ателье, человек находится на пороге к искусству. Его длинные седые волосы спадали на бархатный воротник пиджака, а бабочка на шее служила свидетельством того, что здесь привержены традициям и правилам хорошего тона. Своей преувеличенной жестикуляцией он немного напоминал фокусника на сцене, особенно когда, стоя у своего фотоаппарата, он отсчитывал секунды, велев клиенту смотреть в объектив: сто двадцать один, сто двадцать два, сто двадцать три…
В дверях ателье внезапно показался советский солдат с автоматом, который тащил за руку раскрасневшуюся девушку, сопротивлявшуюся и смеявшуюся одновременно…
Филлер на секунду замер, после чего бросил взгляд в сторону сидевшей у окна Анны, склонившейся в этот момент над фотографиями, принесенными вдовой. Его взгляд, легкая гримаса и беспомощно раскинутые руки словно говорили о том, как далек может быть артист от тех обстоятельств, в которые ставит его жизнь…
13
– Прошу не касаться этого!
Буся стояла спиной к секретеру, собственным телом преграждая путь к нему двоим мужчинам. Посмотрев друг на друга, оба сделали шаг вперед. Буся вытянула вперед руки. Сделав еще хотя бы шаг, они могли встретить с ее стороны сопротивление. Оба мужчины вновь переглянулись, один из них покрутил пальцем у виска, явно намекая на то, что перед ними какая-то сумасшедшая. Ведь господин Гинц ясно сказал, что все оплачено и что они должны забрать этот секретер и доставить в его мастерскую.
– Вы не тронете его с места, пока я кое-что не выну из этого ящика!
– А что там такое? – спросил слегка заинтригованный грузчик.
– Письмо!
Грузчики снова посмотрели друг на друга, и тот, что крутил пальцем у виска, обращаясь к даме со всем уважением, предложил ей забрать какое-то там письмо.
– Но у меня нет ключа от ящика!
Услышав это заявление, один из мужчин взял со стоявшего рядом ночного столика изящный ножик для фруктов и попытался поддеть замок. Буся схватила мужчину за руку и решительно оттолкнула его от секретера. И тут раздался голос Ники:
– Что здесь происходит?
Ника с портфелем в руке стояла в дверях гостиной, готовая к выходу. При виде ее Буся с какой-то невероятной силой оттолкнула коренастого грузчика и крикнула, заслоняя своим телом секретер:
– Беги к Филлеру! Пусть Анна придет сюда! Немедленно!
В ее голосе звучала такая решимость, что Ника, больше ни о чем не спрашивая, резко развернулась и выбежала на улицу…
14
Анна отложила кисточку на столик рядом с увеличительным стеклом. До нее донеслось произнесенное вполголоса замечание вдовы:
– Победитель становится хозяином.
Обе смотрели теперь в глубь помещения фотоателье. На фоне ширмы с изображением озера и лебедей стояла мраморная колонна. Рядом с этой колонной господин Филлер усадил советского солдата в пилотке и румяную девушку. Перед этим солдат отложил автомат на старое вольтеровское кресло, в которое господин Филлер обычно усаживал для съемки отцов краковских семейств. Прежде чем нырнуть под черную ткань, накрывавшую фотоаппарат, он долго усаживал позировавших, чтобы затем начать отсчет секунд до вспышки.
Анна хотела вернуться к ретушированию фотографий, но заметила, что на ее столик легла чья-то тень.
За окном стоял светловолосый парень в ветровке и рассматривал вывешенные в витрине фотографии. Наконец он принял решение. Войдя в ателье, он огляделся. Перед его глазами оказался советский солдат в пилотке, который одной рукой обнимал девушку со вздернутым носиком, а другой рукой опирался на колонну. На вольтеровском кресле, в котором обычно восседали преисполненные достоинства горожане, теперь покоился автомат. Юр вынул руки из карманов, поклонился Анне и вдове, ожидая, пока из-под черной ткани не вынырнет господин Филлер.
– Я хотел бы сфотографироваться, – сказал Юр, поглаживая свои чуть длинноватые бачки. – На документы.
– Прошу вас, подождите немного. – Филлер указал ему на кресло, на котором лежал автомат.
Юр бросил взгляд на солдата, который неуклюже обхватил рукой бедро одетой в голубое платье девушки. Он подошел ближе, и, когда Филлер вновь скрылся под черной тканью, Юр закатал вверх рукав ветровки, обнажая запястье с блеснувшими на нем часами. Он посмотрел на солдата.
– Хочешь, одолжу для фотографии часы ?
Это прозвучало, как любезное предложение оказать услугу, но блеснувшая в его глазах ирония красноречиво свидетельствовала о том, что он на самом деле думает. Анна и вдова обменялись многозначительными взглядами.
Солдат в пилотке с красной звездой тоже закатал рукав гимнастерки и продемонстрировал две пары часов на своем запястье:
– У меня этого много.
И тогда рядом кто-то прыснул со смеху. Юр повернулся. В дверях стояла Ника, в одной руке она держала портфель, а другой прикрывала рот, чтобы удержаться от громкого смеха. Юр стоял как загипнотизированный, впившись глазами в Нику, напоминая всем своим видом человека, увидевшего наяву персонаж своих снов. Анна поднялась из-за своего столика.
– Что ты тут делаешь?
– Катастрофа! Дома бабушка защищает секретер, как Совинский – форт на Воле. Эти торговцы могут отказаться от покупки! Нужен ключ от ящика!
Еще минута, и господин Гинц отступит, а они останутся без денег. Анна отложила кисточку, надела ток с вуалью и выбежала, оставив Нику в обществе этого молодого парня, который хотел сфотографироваться. Филлер отработанным жестом указал на место перед фотоаппаратом: сейчас он зажжет лампы, ведь для снимка на документы требуется резкость. Но Юр не обращал внимания на фотографа. Он стоял перед Никой, указывая пальцем на ее щеку с видневшейся на ней коричневой родинкой.
– Я узнал бы вас даже на Страшном суде. – Ладони его рук сложились в жесте благодарения. – Кисмет, что значит судьба!
– Вы верите в судьбу? – Ника презрительно надула губы, давая ему понять, что такие банальные аргументы на нее не действуют.
– Раз наши пути снова пересеклись…
– Но это чистая случайность. – Ника пожала плечами и уже хотела было уйти, но Юр преградил ей путь.
– Случайность – это когда петух яйцо снесет, – в его глазах сверкали искорки радости, – но когда он снесет три яйца подряд, то тут петух становится уже курицей.
Он был забавным, да и сама ситуация его явно забавляла, но Ника не хотела принимать его игру.
– Давно мне никто не рассказывал сказок на ночь.
Она вышла из ателье. В этот момент господин Филлер закончил приготовления, зажег лампы и пригласил клиента в угол за портьерой. Но Юр только махнул в ответ рукой, крикнул на ходу, что извиняется, что зайдет чуть позже или завтра, и выбежал за девушкой. Догнав ее, он хотел было взять из ее руки портфель: дескать, он поможет ей донести, он всегда так делал, когда в начальной школе провожал домой одноклассниц. Ника лишь пожала плечами, по-прежнему не собираясь принимать его ухаживания, а когда он бросился вдруг к проходившему мимо священнику и спросил, не может ли он их обвенчать, она при виде оскорбленного лица священника хотела тут же бежать куда глаза глядят. Но спустя минуту, увидев полную раскаяния мину Юра, она буквально захлебнулась от смеха. Может быть, он сумасшедший или фанфарон, но в нем было столько взрывной радости, что ею вдруг завладело желание хоть немного этой радостью заразиться.
Ника и сама не знала, почему в этот день она не пошла в школу, почему она идет рядом с этим парнем по улицам, которые никуда их не приведут. А они все шли и разговаривали, как будто знакомы были давным-давно. Юр и в жестах своих, и в словах был непредсказуемым, своей необузданностью он был подобен только что вырвавшемуся из клетки молодому тигру, который осваивается в мире без решеток, которому хочется дать всему свои, новые названия, все попробовать на зуб, на вкус. В его поведении сквозило юношеское фанфаронство, но Ника инстинктивно почувствовала, что этот парень, такой непосредственный во всем, не притворяется. Он просто такой, какой есть…
– Жизнь – настоящая лотерея, – убеждал он ее, когда они шли по улице Каноничей. – Если бы мне не понадобилась фотография на документы для поступления в вуз, то я мог бы тебя не встретить.
– Куда вы собираетесь поступать?
Юр остановился и, словно изучая ее, окинул ее взглядом от растоптанных туфель до самых кончиков ее непокорных волос, отливавших золотистым цветом.
– Сколько тебе лет?
– Я сдаю экзамены на аттестат зрелости, – после некоторого колебания ответила Ника и, искоса бросив на него взгляд, добавила: – Если точно, то на будущий год. А где вы хотите учиться?
– Лишь бы не в Университете Батория.
– А что это? Где это?
– Вы не знаете, что такое Университет Батория? Госбезопасность.
Он выдержал этот искоса брошенный взгляд, полный иронии, которая на самом деле маскировала неуверенность.
– Что это вам пришло в голову? Вам есть чего бояться?
– Ну вот, почему «вы»? – Юр протянул руку и представился: – Юрек… Ежи Космаля. Но все зовут меня Юр. Такой у меня был псевдоним. Мне двадцать один год, аттестат свой я получил в подпольной школе, а теперь хочу учиться в вузе. Теперь наконец впереди у нас вся жизнь, разве не так? – Он легонько потянул ее за рукав блузки. – Идем, я покажу тебе замок, который я собираюсь завоевать.
Вместо того чтобы сидеть на уроке истории, Ника шагала теперь рядом с этим парнем, не спрашивая, куда, собственно, они идут. И неизвестно почему она снова почувствовала, что именно теперь, именно сегодня она идет навстречу чему-то, что ей предстоит пережить впервые и о чем Буся не раз говорила: «Это придет, Ника, придет однажды, и тогда ты сама почувствуешь, что именно этого ты ждала»…
15
Анна, входя в ворота их дома, заметила двухколесную тележку с дышлом, на которую уже был водружен стул от ее секретера, привязанный веревкой. Видимо, Буся не позволила тронуть секретер, пока она не принесет ключ от ящика.
В гостиной она увидела Бусю, стоявшую опершись на секретер. Один из грузчиков сидел в кресле с резными подлокотниками в виде львиных голов. Второй побежал за господином Гинцем, который, как известно, уже заранее заплатил за этот предмет, а пожилая дама не дает его вывезти.
– Наконец-то. – При виде Анны напряжение у Буси спало, и она спросила: – Где ключик?
– Ключики я уже отдала господину Гинцу.
– А письмо? Где письмо?!
– Не беспокойтесь, мама. – Анна обняла Бусю и осторожно отодвинула ее от секретера. Я уже давно перепрятала его в другое место.
В этот момент в коридоре что-то грохнуло, и в дверях гостиной появился возмущенный Гинц, а с ним второй грузчик. Гинц обвел взглядом гостиную.
– Что тут происходит? Ведь я заплатил за этот предмет, а вы почему-то не разрешаете его забрать? – Он потряс зажатым в его руке ключиком и отпер им ящик секретера. Ящик был пуст.
Когда секретер уже был вынесен, Анна сняла с головы шляпку-ток с вуалью и с упреком взглянула на покрывшееся нервным румянцем лицо Буси.
– Вы подумали, мама, что я забыла? Когда при большевиках мы с Никой бежали из Пикулиц к Франтишке в деревню, я не взяла даже свой аттестат зрелости, но то последнее письмо Анджея я всегда носила при себе, вот тут, – она показала на грудь, – в мешочке на шее.
Анна открыла дверцы шкафа, покопалась в глубине полки с бельем и вытащила деревянную шкатулку, украшенную гуцульскими узорами. Она была куплена в Ворохте во время последних проведенных вместе каникул. Кроме конверта с единственным письмом Анджея из Козельска, там хранились все его боевые и служебные награды: орден Virtuti Militari, Крест за доблесть и Золотой крест Заслуги. Буся покивала головой, вздохнула и, глядя в пустой угол, из которого вынесли секретер, сказала:
– Жаль мне этот секретер.
– А чем бы мы заплатили за уголь, за школу Ники, за свет?
В дверь резко постучали. Анна автоматически бросила конверт в шкатулку и спрятала ее в глубине шкафа.