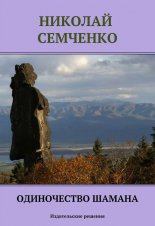Люба Украина. Долгий путь к себе Бахревский Владислав

Начинались татарские хитрости. Канцлер опустился на ковер. Сефирь Газы одобрительно улыбнулся и сел напротив гостя. Ударил в ладоши. Появились слуги, расстелили дастархан, поставили кушанья. Сефирь Газы что-то шепнул расторопному мурзе. Тот исчез, и, словно в сказке, заиграла музыка, в шатер впорхнули пери, закружились в сладострастных танцах.
— Я хотел бы всю жизнь мою не выходить из этого чудесного шатра, — Оссолинский взял подушку под бок, вытянул ноги.
Сефирь Газы закивал головой.
— Ты умный, — сказал он Оссолинскому. — Я тоже умный. Но скажи мне, много ли людей ваших знают, что ты здесь?
— Об этом знает король и два-три верных человека.
— Ох эти верные! — вздохнул Сефирь Газы. — Успех нашего дела будет зависеть от того, пронюхает Хмель о переговорах или нет. Он, как настоящий татарин, — очень хитрый человек.
— Ходят слухи, будто Хмельницкий принял ислам?
Сефирь Газы засмеялся:
— Я не знаю, какому Богу молится гетман. Он сам, как Бог, вездесущ. Только и на Хмеля есть Сефирь Газы… С чем ты приехал к нам?
Вопрос был задан столь приятельски просто, что Оссолинский сразу проник в суть его и подарил Сефирь Газы из своего собственного кармана три тысячи талеров.
Словно солнце взошло. Разговор пошел тот, который должен был начаться только утром.
Договорились: Польша обязуется уплатить дань хану за прошлые годы, по шестьдесят тысяч за год, а впредь посылать будет в Бахчисарай по тридцати тысяч золотых червонцев. Уже на следующем сейме Польша обязуется передать ханскому послу пятьсот тысяч, а теперь, ради дружбы и успокоения, необходимо дать хану сто тысяч и еще сто тысяч войску.
— Я не знаю, сыщутся ли такие деньги в таборе? — засомневался канцлер.
— Сыщутся, — успокоил его Сефирь Газы. — Иначе хан не сможет уговорить беев и мурз прекратить войну.
— Так нельзя ли разбудить хана, чтобы подписать наши договорные статьи? — спросил Оссолинский.
— Нельзя, — покачал головой Сефирь Газы. — Хан Ислам Гирей — великий хан. Даже я страшусь его гнева. Разве этот шатер разонравился гостю?.. Как по-польски звучит русская пословица: «Утро вечера мудренее»?
— Не помню, — признался Оссолинский. — Видимо, и впрямь пора ложиться спать.
5
Его разбудили пушки. Казаки и татары шли приступом на Зборов. Оссолинский оделся, умылся, но из шатра не выходил, помня вчерашний разговор о хитром Хмельницком.
«Какая невыносимая жестокость правит миром!» — думал он.
Под стенами Зборова и в Зборове умирали люди, хотя о мире уже было договорено. Смерти этих людей ничего не смогут изменить. Ничего не изменится, если даже город падет под ударами. Его разграбят, сожгут, жителей его вырежут, но войне все равно конец. Кровавая вакханалия продолжается только потому, что хан досматривает сны, тешится с наложницами или просто не торопится к делам.
Закричали муэдзины. Татары молились Аллаху, привлекая к себе его внимание, ожидая милостей. Но Аллах уже совершил свою милость, он дал всем несчастным, собравшимся среди низин реки Стрипы, самое великое богатство, которое у него было — мир. Однако земные владыки имели на этот счет свое особое мнение.
Оссолинскому принесли кушанья.
«Боже мой! — думал канцлер. — Уж не тело ли человеческое предлагают мне, не кровь ли?»
Пересиливая тошноту, он отведал с каждого блюда, выпил предложенные напитки.
Ни Сефирь Газы, ни кто-нибудь из мурз не появились.
«Что они затевают? — И догадался: — Им нужен Зборов, им нужна добыча — драгоценности, деньги и милый сердцу полон!»
Зборов пал после десятого приступа. Защитникам роздыху не давали. Одна волна наступающих сменяла другую. И снова не обошлось без предательства. Мещане открыли казакам ворота.
Хан принял Оссолинского. Канцлер видел его впервые. Не по-восточному быстрый, резкий. Выслушал статьи договора вполуха. Принял сто тысяч.
Деньги придали хану настроения, но, прежде чем подписать мирный договор, он поставил вопрос о заложниках. Под обещанные пятьсот тысяч потребовал двух самых родовитых шляхтичей. Из нескольких предложенных Оссолинским кандидатур выбрал Яна Денгофа, старосту сокальского, он был женат на дочери Оссолинского, и Кшиштофа Жолкевского.
Далее перешли к пунктам договора об отношении королевской власти к Войску Запорожскому. Хан стоял за своего союзника, словно за себя самого, так это ему казалось. Договорились, что поляки примут те условия, которые Хмельницкий предложил Адаму Киселю во время его мартовского посольства в Переяслав.
А бой кипел. Казаки всей силой обрушились на королевский табор и даже ворвались в его пределы, но Ян Казимир сам повел войско в контратаку. Казаки, не выдержав натиска, отошли, теряя людей.
Король верил в Оссолинского и приказывал своим людям держаться.
Потери с обеих сторон были страшные. Наступающим достается больше. Казаки и татары потеряли десять тысяч бойцов, поляки — три тысячи.
6
— Солнце! — показал Хмельницкий своим полковникам. — Нынче Бог послал нам солнце, чтоб осветить победу правды. Попробуем еще.
Снова ударили по королевскому табору пушки, пехота изготовилась к броску.
— Пошли! — скомандовал гетман.
Пушки смолкли, казаки лавиной покатились на заслон из разбитых возов. Прорвались!
— Гетман! Письмо!
Перед Хмельницким стоял Иван Выговский, за Выговским татарин. Татарин опустил глаза под взглядом гетмана.
У Богдана болью сдавило сердце. Взял письмо, прочитал. Морщины пересекли лоб.
— Нечай! Данила!
Полковник подъехал.
— Вот что, Данила! Пошли вернуть войско из боя. Я еду к хану.
Хан не вышел к гостю и к брату навстречу. Обедал. Увидал гетмана, поднялся, распахнул объятия.
Обнялись. Сели.
— Ты забыл шерть свою, — сказал Хмельницкий. — Мы уговорились в одиночку с Речью Посполитой не мириться.
Лицо у хана расплылось в добродушной улыбке:
— Ты не знаешь меры, гетман. Ты собираешься своего пана до конца разорить, но от его панства и так уже не кафтан, а клочья. Надобно и милость показать свою, гетман. Я хан, но тоже меру свою знаю. А потому с братом моим, польским монархом, мы обменялись посольствами и договорились о мире. Я обещал королю и тебя с ним поединить.
Лицо у Богдана почернело от бессилья, от ярости.
Ислам Гирей обидчиво пожевал губами.
— Если гетман на переговоры с королем, братом моим, не пойдет, то тогда мы, хан крымский и король польский, сложась силами, пойдем на гетмана.
— Ты во всем прав, великий хан, — Богдан улыбнулся, лицо его стало спокойным и старым. — Я пошлю к моему королю своих послов.
Гетман вышел из ханского шатра на веселое солнце, на просыхающее поле, покачал головой:
— Украли победу.
В тот же день он написал королю письмо: «Вашему величеству угодно было назначить вместо меня гетманом казацким пана Забужского. Извольте прислать его в Войско, я тотчас отдам ему булаву и знамя. Я с Войском Запорожским при избавлении Вашем желал и теперь желаю, чтобы Вы были более могущественным королем, чем был блаженный брат Ваш».
Беда в одиночку не ходит.
Пришли горестные вести из Литовского княжества.
Полковник Кричевский, словно бы не было Желтых Вод, разделил свой полк надвое и половину послал на байдаках по Днепру в тыл, а с другой половиной пошел литовскому гетману Радзивиллу навстречу. У Януша Радзивилла было восемь тысяч войска. Он разбил сначала пеший отряд казаков, а Кричевского взял в плен. Потом встретил идущих водой. Потопил семь больших лодок. Кто вырвался из окружения, те рассеялись.
Пан Кричевский был ранен. Его повезли показать Радзивиллу, да полковник не пожелал смерти на колу или жизни в неволе. Кинулся, собрав силы, с телеги, метя виском в железную чеку. Не промахнулся. Был полковник телом грузен, удар вышел смертный.
7
Седьмого августа, на следующий день по прекращении военных действий, комиссары короля встретились с Выговским и старшинами. Съезжались дважды в один день и постановили:
В Киеве и во всей Белой Руси, в городах, в местах, в местечках и в деревнях унии и униатским церквам не быть.
Киевскому митрополиту предоставить место в сенате.
В Войске Запорожском гетманом быть Богдану Хмельницкому, а на булаву ему и по нем будущим гетманам дать город Чигирин с поветом и со всеми доходами.
Число реестра простирается до сорока тысяч человек, составление списков поручается гетману.
Арендам и никаким шинковным в пределах Запорожского Войска не быть.
Еще через день состоялось подписание договора.
На поле раскинулся шатер, польские войска выстроились с одной стороны, казаки и татары в двух выстрелах — с другой.
У хана была свита в триста человек. Богдан Хмельницкий ехал с Тимошем. У них было сто человек почетной Охраны.
После подписания статей король принес присягу, хан — шерть. Настала очередь Хмельницкого. Богдан опустился перед королем на одно колено и, отирая глаза платком, сказал проникновенно:
— Великий король! У меня и в помыслах не было, чтобы поднять оружие и направить его против вашей королевской милости. Казаки верно служили королю, их принудили восстать магнаты и шляхта, которые относились к вольному казачеству хуже, чем к рабам. Молим тебя, король, о прощении грехов наших перед Богом и всяческих проступков перед твоей королевской милостью.
Ян Казимир дал гетману поцеловать руку, а подканцлер литовский Сапега объявил ему забвение всего прошлого. В честь мира был дан залп из всех пушек, из королевских, ханских и казачьих.
Ян Казимир пригласил своих высоких гостей за стол.
Яства и питье отведывали сенаторы, показывая, что ничего здесь не отравлено. Хмельницкий выпил и съел с королевского стола. У него в лагере в заложниках был королевский маршалок Любомирский.
Войска разошлись по сторонам. Король и Вишневецкий — к Люблину. Казаки — на Чигирин. Хан, как метлой, шаркнул по Сокалю, Острогу, Луцку. С большим полоном, с многочисленными стадами и табунами татары ушли в Крым.
За победы и за поражения расплачивается народ. Плата бывает всегда одна и та же — платит кровью и болью.
8
На Успение Богородицы позвали Степаниду в Черемошное на престольный праздник в хоре петь.
Летнее ненастье иссякло. На тепле все росло, все зрело. Яблоки уродились. Вести от казачьего войска приходили добрые, обрезали крылья королевскому белому орлу.
Степанида опамятовалась от прежних бед да и нашла себя пригожей девушкой девятнадцати лет от роду.
Душа встревожилась, а в сердце покой и уверенность. Сама на себя дивилась Степанида, вот взбрело ей в голову, что уже на этой неделе посватают ее.
Ни кола ни двора, при церкви в Красном жила, а тут вон какие шальные мысли — замуж девушке невтерпеж! Подшучивает над собой Степанида, однако глупостям не противится.
Уже на околице Черемошного были, когда налетели татары.
— Вот и повенчали девушку, — сказала себе Степанида и даже горечи не изведала. Жить среди беды стало ей в обычай.
Во главе татарского отряда стоял ногайский мурза. Отряд его был невелик, но мурза, зная, что казачье войско далеко, действовал нагло, без спешки.
На второй день добрались до Немирова. Татары ограбили и этот несчастный город, забрали женщин, детей и столь же беспечно, веруя в безнаказанность, двинулись на юг, но казаки сумели постоять за себя.
Между Немировом и Тульчином отряд сотника Забияки напал на мурзу и отбил полон.
— Ты чья?
Степанида вздрогнула. Облокотясь на луку седла, смотрел на нее, ожидая ответа, немолодой казак, но уж такой синеглазый, что Степанида как глянула в эти синие бездны, так и потонула.
— Чья ты, спрашиваю? Где дом твой? — повторил вопрос казак.
Степанида улыбалась и не отвечала. И он тоже улыбнулся ей, и глаза его потеплели.
Не обмануло все-таки сердце девушку. Взял бездетный вдовец Кондрат Осадчий замуж Степаниду. Нашла она наконец и любовь, и гнездо.
Кондрат Осадчий жил в Веселой Кринице. Доброе то место было.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Королева Мария, мадам Гебриан, фрейлины де Ланжерон и Женевьева де Круа слушали сказку.
Сказывал мужик, по второму разу сказывал.
В первый раз вздумалось ему позабавить той сказочкой проезжую да перехожую братию в шинке. Королевский соглядатай, решив, что сказка сия вредная, а по военному времени небезопасная, схватил мужика и отправил в тюрьму.
Оказалось, мужик этот — собственность князя Вишневецкого.
Князь потребовал немедленно выдать ему его человека. С Вишневецким почли за благо ссоры не заводить и злополучного бахаря из тюрьмы привели в покои королевы, ибо она пожелала слышать сама страшную для королевства сказку.
Мужика причесали, умыли, дали ему чистый кафтан, и теперь, стоя перед первыми паннами королевства, он с жаром рассказывал сказку, которая сначала чуть было не погубила его, а потом вознесла до королевского дворца.
Мужик смекнул: не прошибиться ему нужно! Ой не прошибиться! Вдарился он королеве в ножки, а когда его подняли, как бы и онемел, и ослеп, загородя глаза руками.
— Что с ним? — спросила королева слуг.
— Ослеп от красоты ее королевской милости! — звонко выкрикнул мужик и тотчас осип и проскрипел, показывая на горло: — Немею. Горло ссыхается!
— Дайте ему вина! — сказала королева.
Герцогиня де Круа поднесла мужику серебряный кубок. Он выпил вино до дна, почмокал толстыми губами.
— Вот оно чего королева-то наша пьет, государыня! — сказал он, обращаясь к слугам, сияя синими пуговицами глаз. — Сладкости неописуемые, ароматы ангельского чина!
Королева и ее дамы улыбались.
— Расскажи нам сказку…
— Ох, горе мое соленое! — мужик покрутил головой. — Ну, так и быть, слухайте. Жила-была королева Елена. Была она прекрасная, но премудрая. Выкормила королева Елена вошь с кабана. Держала вошь в стеклянной банке: кто отгадает, что это за зверь, за того обещала замуж пойти, ну а кто не отгадает, а на ее королевскую прелесть польстится без ума, того — казнить. Смелых много, а умных мало. Многие ходили зверя отгадывать, да и распрощались с головами.
И пришел тогда к королеве Шелудивый Буняка. Веки у него до земли росли, два мужика те веки вилами поднимали. Редко глядел Буняка на свет Божий, но зато видел на сто миль. Подняли ему веки, воззрился он на банку со зверем да и говорит: «Вот так диво! Да это ж вошь!»
Королеве делать нечего, отдала она Шелудивому Буняке королевство, но замуж за него не захотела пойти. Слишком гордая была, вот и убежала.
Подняли Буняке веки, увидал королеву и погнался за ней, как ветер. Королева, уходя, горы сыпала, чтоб остановить Буняку. Те горы от Киева до Львова стоят. На Подгорцах королева окопалась, около города Плесника. Тут как раз шел польский королевич. Полюбились они друг другу, и стал королевич защищать королеву. Да Буняка саблями не махал, из пушек не палил, он только крикнул, а земля и затряслась.
— Ты, королевич, хочешь войском боронить вероломную, отнять у меня жену? Отец твой давал тебе войско с наказом. А наказ был держаться правого пути, если ты не хочешь погубить себя, войско и все королевство.
Королевич и Елена хотели бежать, но Буняка окружил их чарами. Они с места не могли сдвинуться среди горных теснин!
Тут рассказчик вдруг всплакнул.
— Жалко! — сказал он очень хриплым голосом. — Невозможно, как мне их жалко. Немею.
Королева милостиво посмотрела на герцогиню де Круа. Прекрасная панночка наполнила серебряный бокал вином и вдругорядь поднесла мужику. Тот выпил вино, потряс в себя сладкие капли и ободрился.
— Ну, значит, что ж! Теснота, скалы кругом жуткие, как в колодце, а Елена за ненаглядного королевича держится, смерть ей с милым — мила, жизнь с постылым — невыносима. Вот и заклял их Буняка Шелудивый страшным заклятием: «Ты, королева, со своим даром, казною и людьми, провалишься. Только раз в год, в ночь перед Пасхой, и то на единую минуту, ты будешь выходить на землю со всею пышностью и богатством. И ты, королевич, провалишься со своим войском. Будешь терпеть кару до той поры, пока Польша погибнет. Тогда каждый год в пасхальную ночь станет разверзаться ход до твоего подземного жилища. Кто будет счастлив, тот войдет к тебе. И ты спросишь: «Пора ли уже?» И если ответит: «Уже пора для тебя!» — тот станет твоим избавителем. Тогда ты войдешь и отобьешь свое королевство». Тут и сказке конец.
Мужик замолчал, опустил голову.
Королева сидела задумавшись.
— Народ беспокоится о судьбе королевства, — сказала печально. — И оставляет надежду. Сказителя надо наградить.
— Ваша королевская милость! — воскликнул мужик. — Дозвольте туфельку вашу поцеловать!
— Вот и новая сказка! — улыбнулась мадам Гебриан.
Королева поднялась. Мужик опустился перед своей королевой на пол и чмокнул обе туфельки.
Герцогиня де Круа дала мужику золотой, и его отпустили с миром.
2
Сказки предвещали недоброе, по всей Польше передавали слова короля, сказанные им перед войском, после Зборова.
— При предках наших из поколения в поколение поляки были доброго храброго сердца и рыцарством своим славу добыли себе и потомству. Про то нашим хроникам не стыдно было писать. Вы, нынешние поляки, — злой народ, ибо предков своих добрую славу сгубили. Ваша добыча — злая гибель отчизне. О делах ваших в хрониках писать не годится. Меня, монарха своего, неприятелю уж совсем было выдали по трусости своей. Под возами от войны прятались и в возы. Юбок не было — полезли бы и под юбки от страха. Прислуга ваша, повара, возничий — храбрее вас оказались. Упаси меня Господи против неприятеля ходить с такими, как вы, злыми предателями. Буду требовать сейма, чтобы взял с вас деньги для найма иноземного войска, которое такого предательства, какое выказали вы своему королю и своей отчизне, себе не позволяет. Вы, шляхта, для отчизны своей — горше неприятеля. От меня вам ласки королевской не будет.
Молчало войско, слушая обидные, но ведь справедливые слова. Вся Польша смеялась над горе-воинами. Да только вдруг нашелся козел отпущения. Тут и ободрились все, загораясь общей ненавистью.
Юрий Оссолинский всему виной. Он! Он! Кто же еще короля и всю Речь Посполитую Хмелю и хану головой выдал? Убить его!
Пришлось канцлеру затвориться в своем доме. Ожидая худшее, он отправил свое имущество в Гданьск, где у него были наняты корабли.
В эти шумные дни тихо и неприметно для публики умер польный гетман Фирлей. Збараж для него даром не прошел. Пуля миновала, болезнь — не пощадила.
А вот Адаму Киселю опять милости и радость. Ян Казимир пожаловал его киевским воеводою. И поехал Адам Кисель в свое воеводство к черту на рога.
В те дни в Варшаву прибыли на сейм послы Хмельницкого. Вместе с послами приехал киевский митрополит Сильвестр Косов, приехал занять свое место в сенате, где ему надлежало говорить об уничтожении унии.
На проводах Богдан Хмельницкий сказал ему напрямик:
— Ты, отче митрополите, если в речах своих не будешь стоять за нашу правду на ляхов да если с изменою начнешь говорить против казацкой воли, то, конечно, будешь в Днепре!
Гетман знал: Косов косит в польскую сторону, но усадить православного иерарха в сенат — победа под стать Пилявцам.
Митрополит, сопровождаемый свитой, подошел к дверям сената, но его тотчас окружила стража, оттеснила, втолкнула в карету, настегала лошадей, все это под смех собравшихся ксендзов.
О позоре киевского митрополита говорили, но недолго.
2 декабря 1649 года в Варшаву на сейм прибыл князь Иеремия Вишневецкий. Короля так не встречали…
Перед князем ехало сто человек слуг на аргамаках в доспехах, сам на белом коне, одет в платье воина. За ним двести человек мушкетеров, а в толпе с полтысячи из его челяди, чтоб кричали князю «Слава!»
Вся Польша глядела на князя с надеждой. Оссолинский с королем трех дней не навоевали, а он, князь Иеремия, семь недель в осаде сидел, будь у него все войско — привел бы ныне на веревке и Хмеля, и хана. Слава Вишневецкому! Дать ему булаву!
3
Богдан Хмельницкий держал на ладони монету. Свою монету. Собственную. Его, Богданова, имени. На одной стороне имя, на другой меч. Пани Елена увидала монету и воскликнула:
— Богдан! Ты теперь совсем как царь.
— Я гетман, — сказал сурово Богдан. — Выбрось из головы эти дурости. Ты баба, вот и наряжайся. Мало, что ли, я тебе всякого навозил?
— Я возьму эту монету себе на память.
— Возьми! — и тут гетман щелкнул себя ладонью по лбу. — Я же тебе этакую забаву привез!
Вышел из комнаты, распорядился, и скоро дюжие казаки внесли и поставили у стены то ли колоду, то ли буфет. Пани Елена, обиженная Богданом, посмотрела на сей подарок искоса, но тут словно с глаз ее спала пелена, обида прошла. К ней в комнату прибыл сам древний Краков. То была копия собора Девы Марии. Собор-часы. Казаки поставили часы к стене, ушли, но один человек остался.
— Разрешите завести? — спросил он гетмана.
— Заведи, Крюйс.
Человек открыл ключом дверцу, что-то сделал с механизмом, перевел стрелки. Ключик спрятал в тайник, под крышей.
— Завода хватает на сутки. Механизм на диво тонкой и сложной работы, неумелые руки могут его искалечить.
— Хорошо, Крюйс. Будешь приходить и заводить часы сам, — сказал Богдан.
Часовых дел мастер откланялся.
И четверти часа не прошло, как на башне собора отворилась дверь. В двери появился трубач и заиграл сигнал. Он сыграл его трижды и скрылся, дверь за ним затворилась.
— Чудо как хорошо! Богдан, радость моя, благодарю тебя за подарок!
Пани Елена обняла сурового своего мужа и поцеловала.
Гетман оттаял, но им помешали.
— Кто? — спросил Богдан.
— Я, Выговский, — ответили из-за двери, — Русские послы ответа ждут.
— Ах, им ответ нужен! — вспылил Богдан, и шея у него покраснела от досады. — Иду.
4
Перед гетманом стояли два серьезных, непугливых человека. Один одет, как мещанин, другой в стрелецком кафтане. Приехали они от путивльского воеводы Прозоровского с письмом. Богдан принял письмо, тут же прочитал. Воевода требовал наказания городовому атаману Конотопа за то, что в грамоте написал титул московского царя непригоже, не сполна. И еще воевода жаловался на казаков, которые своевольно переселяются на земли Московского государства.
— Не успел я из обоза домой приехать, а с государевой стороны уже поехали с жалобами… Только я знаю и вижу. Ездите вы для лазутчества. Вот и скажите своему воеводе: не только мои люди на земли ваши садиться будут, но пусть и меня с казаками в гости под Путивль к себе ждут вскоре. Вы за дубье да за пасеки говорите, а я все ваши города и Москву сломаю! Кто на Москве сидит, и тот от меня не отсидится за то, что не помог мне ратными людьми на поляков. Я с вашим государем не мирился и креста ему ни в чем не целовал, а который польский король с государем мирился и крест целовал, тот помер. Мог бы государь, Бога не боясь, помочь нам, да не помог. А потому говорю вам не тайно, в открытую: ждите меня под Путивль и под Москву. Вон с глаз моих!
Посланцы повернулись, пошли от гетмана, и он закричал им вослед:
— Казнить бы вас, лазутчиков, да я вам эту казнь отдаю! Получше вас королевские послы были — и тех я казнил!
Обида клокотала в Богдане. Такую победу у него украли под Зборовом! И все московский царь! Он, видишь ли, клятву преступить не может. Государи для того и клянутся, чтоб жить без оглядки. Клятвы в книге судеб, а книги те на небе, никто их не видел, не читал, кроме Бога да его святых писарей.
Однако уже через неделю, принимая гонца брянского воеводы, гетман говорил иное:
— Крымский хан звал меня повоевать Московское государство. Я Московское государство воевать не хочу и крымского хана от того злого дела отговорил. Я хочу государю вашему служить, где ни прикажет. Разве так бы мы теперь стояли, пожалуй нас государь помощью военной. Ляхи теперь опять воспрянут. Опять быть войне. Ну как же мне царю московскому написать, что сказать, чтоб пожалел он нас?! — и заплакал настоящими слезами.
5
Савва Турлецкий возвращался в свой замок, отправив наперед полтысячи наемников. Торжественный вход он решил превратить в трагически-умильный праздник. Все было придумано замечательно. Сотни детей, стоя по обочинам дороги, распевая духовные гимны, будут закидывать открытый возок епископа осенними цветами, девушки в нарядных одеждах образуют коридор из вершинок осенних берез и других деревьев, у которых листья златобагряны. По тому коридору епископ, выйдя из возка, проследует в храм. На паперти он повернется к пастве, благословит ее, и все люди станут на колени, а он скажет им: «Кто старое помянет, тому глаз вон!» И, отслужа молебен, велит поставить во дворе три бочки с собою привезенного вина и велит изжарить трех быков.
Народ стоял и ждал приближения процессии. Впереди монахи-доминиканцы несли вчетвером большой латинский крест, за ними шли церковные чины со знаменами, несли на носилках деревянные статуи святых Яцека и Станислава — покровителей Малой Польши, и, наконец, двигалась повозка в виде ладьи, в которой восседал в полном облачении Савва Турлецкий.
Дети действительно стояли с цветами, а девы с ветвями, но почему-то цветы не летели под ноги шествию.
«Сигнал, что ли, забыли дать?» — нахмурился его преосвященство и поднялся в ладье, чтобы благословить народ. Едва епископ встал, как в него полетели цветы, но к цветам было прицеплено еще кое-что: дохлые кошки и дохлые крысы, тухлые яйца, кочаны провонявшей капусты, коровьи лепехи, конские котяхи…
Девы, вместо того чтобы устроить свод из веток, стали лупить монахов и священников. И такое пошло безобразие, такая пошла вонь, такой сатанинский смех, что монахи кинулись бежать, как бараны, сквозь строй детей и девиц, получая свою порцию гадости и побоев.
Укрывшись за стенами замка и еще не стерев с лица и одежды нечистот, епископ с бранью накинулся на командира наемников:
— Куда вы смотрите! Почему допустили надругательство над священством? — и приказал: — Немедленно поставить виселицы. Две дюжины виселиц. И чтоб ни одна не пустовала!
Смех перешел в рыдания, солдаты вышли из-за стен и стали хватать людей, но рыдания тотчас заглушила пальба. Явились казаки и отбили своих.
Ночью Савва Турлецкий с пани Деревинской бежал потайным ходом в разоренный дом над озером и оттуда через заходившую ходуном Украину в Варшаву.
6
Павел Мыльский, отпустив повод, ехал над рекою, и сердце у него билось, как бьется птаха в ладонях. Страшно ему было и хорошо. Оттого хорошо, что наконец-то Бог привел в родные края. Только чем оглоушит родина непутевая? Может, и грех такое о родине сказать, — сами, знать, непутевые, коли покоя нет, да ведь родина — не земля, не вода, не небо. Родина — это сразу все: и земля, и вода, и небо, и люди, и дома, птицы на деревьях, скот на пастбищах, запах дыма, запах еды, запах питья, запах волос любимой… Потому что все это на земле неодинаково, все не так, как за соседним бугром.
У старых ветел, где когда-то высекли бедную Куму, Павел сошел с коня, напоил его и сам напился.
Вот тут, за увалом, стоит его родное село Горобцы. Века стоит… Стояло, покуда Вишневецкий не спалил.
Павел вспомнил атаку на казачьи окопы, и как потом пришлось удирать, тащить на горбу своего разорителя.
«А к тебе, князь, я за своей наградой еще наведаюсь, — подумал Павел. — Мне второе сельцо сгодилось бы. Пора ведь и остепеняться».
Тоска сжала сердце. Ну вот выедет на бугор, а там, за бугром, — ковыль.
Подтянул подпругу, огладил коня ладонью: медлил, боялся последних шагов. Сел в седло. Поехал, поглядывая по сторонам.
Вот они, Горобцы!
И понял, что ошибся. Это было другое село. Ни панского дома, ни бесконечной улицы. Вместо церкви — сарайчик с маковкой.
Пан Мыльский дал коню шпоры и поскакал, угнув голову в плечи. Подумалось: так, наверное, призраки по земле скачут, покоя ищут.
И вдруг Павла осенило: «Господи! Какие я собирался Горобцы увидать? Прежних-то нет! Нет их! Спалили, перепахали».
Тихонько натянул повод. Конь перешел на шаг и стал.
Павлу захотелось, чтоб он и вправду ошибся дорогой и заехал не туда. Мать могла и не добраться до Горобцов. Шляхту ведь и били, и топили…
Рука нащупала пистолеты на поясе. Хозяйничать явился? Земли захотелось? Получай землю.
Помереть ему не страшно было, да только по-дурному помереть кому же охота?
Павел спрыгнул с коня и увидал: белый камень. Из-под земли выпирает. Потянул коня за узду, подошел к тому камню, нагнулся, потрогал. Камень был не теплый, не холодный.
«Как рыцарь на перепутье», — подумал о себе пан Мыльский с усмешкой и вдруг понял, что так оно и есть, на перепутье.
Снова потрогал пистолеты. Проверил заряды, подергал саблю в ножнах. И услышал — поют. Детишки поют.
- Гусе-гусе гусенятко!
- Визьмы мене на крылятко…
И только теперь увидел: гуси летят на юг.
Пан Мыльский поставил ногу в стремя, взлетел в седло, поскакал. У дороги, в канаве, спрятавшись от взрослых, от ветра, сидели три дивчинки.
— Это Горобцы? — спросил он.
— Горобцы.
— А пани Мыльская в которой хате живет?
— У нее хаты нема, — сказала одна девочка.
— Нема? — переспросил Павел, и сердце его полетело в пустоту.
— Она в хоромах живет.