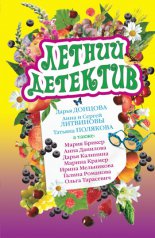Вопросительные знаки в «Царском деле» Жук Юрий

В Екатеринбург, как раньше в Тобольск, продолжают стекаться видные деятели контрреволюции, в задачи которых по-прежнему входит организация заговоров и освобождение Романова и всех его родственников.
Среди лиц, имеющих близкое касательство к семье Романовых, арестовывается указанный выше майор сербской службы Мигич, а вместе с ним фельдфебель Вожечич и некто Смирнов – управляющий делами сербской королевны, жены отправленного в Алапаевск бывшего князя Ивана Константиновича – Елены Петровны.
Эти лица явились в Областной Совет, как делегаты сербского посланника Сполайковича, первоначально для переговоров с Николаем Романовым о войне, а затем якобы для отправки Елены Петровны в Петроград, заявив что на это получено разрешение от центральной советской власти. По справкам, наведенным Областным Советом в Москве и Петрограде, оказалось, что просьбу Сполайковича о разрешении Елене Петровне переехать в Петроград В.Ц.И.К. отклонил.
Цели Мигича и Вожечича были ясны, но выполнить их им не удалось.
С приближением фронта к Екатеринбургу и местное контрреволюционное, “верное престолу”, офицерство пытается завязать связи с царской семьей, усиливает переписку с Николаем Романовым и, главным образом, с его женой, проявляющей большую активность и непримиримость.
Вот одно из писем, которыми обменивались заключенные с заговорщиками, пытающимися устроить в Екатеринбурге восстание еще в июне с целью освобождения Романовых.
“Час освобождения приближается, и дни узурпаторов сочтены. Славянские армии все более и более приближаются к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города. Момент становится критическим и теперь надо бояться кровопролития. Этот момент наступил. Надо действовать“.
“Друзья, – читаем мы в другом письме, – более не спят и надеются, что час, столь долгожданный, настал”.
Кто же они, пытавшиеся вырвать из рук народа преступников, лишенных короны, так заботящиеся о царской семье?
Перехваченные с “воли” от Романовских доброжелателей письма все подписаны большей частью словом: “Офицер”, а одно даже так – “Один из тех, которые готовы умереть за вас – офицер русской армии”»[162].
Взяв за основу приведённый здесь отрывок, следует дать некоторые пояснения, чтобы, как говорится, отделить зёрна от плевел.
Ну, во-первых, упоминание о том, что в Екатеринбург, чуть ли не с первых дней пребывания в нём Царской Семьи, «стали стекаться монархисты всех мастей», приведено не более чем для красного словца. Ибо под таковыми П. М. Быков, безусловно, имел в виду царских слуг, прибывших в город в мае 1918 года вместе с Августейшими Детьми.
Что же касается бесконечных попыток проникновения в ДОН «тех или иных лиц», то автору, на сегодняшний день, известен лишь один такой случай – обращение 2 мая 1918 года в Екатеринбургскую ЧК слушателя Военной Академии РККА А. Г. Слефогта, который попросил выдать ему для этой цели соответствующий пропуск. Будучи допрошенным[163], А. Г. Слефогт показал, что, получив на фронте ранение, он с августа 1915 по август 1916 года находился на излечении в Царскосельском Дворцовом Лазарете № 3, где за ним в качестве одной из сестёр милосердия ухаживала Государыня. Посему, в благодарность за эту заботу, он хотел бы поздравить Её лично с праздником Святой Пасхи в первый день таковой. Вот и всё. И ничего более.
Говоря же о корреспонденции, поступающей на имя Царской Семьи, здесь также следует дать некоторые пояснения. Ибо таковая перлюстрировалась самым тщательным образом, после чего к адресатам попадала лишь малая её часть, да и то, написанная, исключительно, самыми ближайшими родственниками, – то есть письма и телеграммы Августейших Детей, направляемые ими из Тобольска.
Однако не подлежит сомнению и тот факт, что, помимо корреспонденции упомянутой, была ещё и другая, направляемая в ДОН из Петрограда и Одессы близкими Царской Семье людьми: А. А. Вырубовой, З. С. Толстой, М. М. Сыробоярской, В. И. Чеботаревой, Ю. А. Ден и пр., письма и телеграммы которых так и не доходили до адресатов. То есть, попросту говоря, именно та корреспонденция, авторов которой П. М. Быков относил к «монархическому охвостью».
Но писали Государю и Царской Семье и совсем незнакомые люди – жители Екатеринбурга, в чём мы наглядно можем убедиться из открытого письма за 4 мая 1918 года:
«Здесь, Вознесенская ул., дом Инженера Ипатьева. Бывшему Императору Николаю Александровичу Романову.
Царь-Мученик!
Сотни и тысячи любящих сердец возносят молитвы Господу Богу за тебя, дорогой, и шлют тебе привет.
Не знаем, дойдет ли до тебя крик нашего сердца. Не имеем права надеяться так как теперь у нас “свобода слова”, а кроме того мы безоружны.
Монархист, твои почитатели»[164].
Строить предположения по поводу этого письма можно двояко.
С одной стороны, это, действительно, могло быть письмо человека, сердцем и душой переживающего за судьбу Государя. Но тогда не совсем понятно, с какой целью человек пишет это письмо, смысловое значение которого, на первый взгляд, мягко говоря, «ни о чём», а характер его написания явно не в правилах обращения к Царственным Особам. И, к тому же, его автор (или авторы) должны были наперёд предположить все дальнейшие последствия, которые вполне могли иметь место в случае получения Государем этого послания.
А с другой, если более внимательно вникнуть в текст письма, таковое вполне могло быть чекистской инсинуацией. И в пользу этого может говорить не только его чисто провокационный характер, но и глубинное смысловое значение. Впрочем, единственное, что заставляет автора усомниться в этом предположении, так это время его написания, датированное 4 мая, поскольку тогда (когда вся Царская Семья ещё не была в сборе) уральские чекисты вряд ли уже строили столь далеко идущие планы.
Теперь далее. Неоднократно упоминаемый «член генерального штаба сербских войск Мигич» был не кем иным, как майором Сербской Королевской армии Жарко Мичичем – Помощником Военного Атташе Сербской Дипломатической Миссии в Москве, который вместе с фельдфебелем Миланом Божичичем, рядовым Аврамовичем, а также Управляющим делами Князя Императорской Крови Иоанна Константиновича С. Н. Смирновым прибыл 4 июля 1918 года Екатеринбург, чтобы сопровождать в Петроград Княгиню Елену Петровну[165].
И, разумеется, никаких переговоров с Государем майор М. Мичич вести не собирался, так как, попросту, не был на то уполномочен, имея совершенно другую конкретную задачу. Кстати, будучи допрошенным членом Коллегии УОЧК В. М. Гориным, он также пояснил, что:
«Прибыв в Екатеринбург, мы явились в Областной Совет и выхлопотали у тов. Белобородова разрешение на проезд вместе с Романовой до Алапаевска унтер-офицеру Божичич. Сами же мы предполагали дождаться его в Екатеринбурге, а затем ехать обратно в Петроград. (Елена Романова решила остаться в Алапаевске)»[166].
Что же касается так называемых представителей Красного Креста, то здесь П. М. Быков не ошибся, поскольку в лице таковых выступала госпожа Риббул – подданная Великобритании, которая, познакомившись с Княгиней Еленой Петровной в Консульстве Великобритании, вызвалась сопровождать её до Алапаевска, посему волею случая и оказалась в компании упомянутых лиц.
Не лишним также будет добавить и то, что на все совершаемые ими действия (проезд из Петрограда в Екатеринбург и назад) имелись соответствующие разрешения центральных властей за подписью Зам. Наркома по Иностранным Делам Л. М. Карахана. Но так как участь алапаевских узников была уже, фактически, предрешена, а увеличивать число предварительно намеченных жертв ещё на двух граждан иностранных государств (Княгиня Елена Петровна оставалась подданной Королевства Сербии, а госпожа Риббул – Великобритании) большевистской головке Урала явно не хотелось, то было принято решение об их аресте без всяких на то видимых причин, что и было сделано 7 июля 1918 года.
Говорить же об «увеличении романовской семьи в Екатеринбурге», вообще бессмысленно, так как не по доброй же воле все они туда съехались…
Так вот, имея перед собой «канву» в виде приведённого здесь текста П. М. Быкова, М. К. Касвинов, если так можно сказать, «усилил» её своим собственными инсинуациями. (Речь о «письмах Офицера» пойдет немного далее.)
Так, в частности, он пытался внушить читателю, что
«ВЦИК и Уральский Совет до последней возможности стремились к организации суда с соблюдением действовавших в то время юридических норм…».
Вот только непонятно, что имел в виду М. К. Касвинов под «действовавшими в то время юридическими нормами», ибо тогда вердикт во всех политических процессах (в тех редких случаях, когда таковые, всё же, имели место) выносился лишь, исключительно, по «законам революционной совести».
Опуская на время рассказы о «записках Иванова» и «письмах Офицера», можно только удивляться буйству фантазии М. К. Касвинова в приведённом ранее отрывке, как, собственно, и во всей книге в целом. Но если, всё же, не отклоняться от темы и взять только приведённый отрывок из его «документальной повести», то и в нём можно найти много интересного.
Например, совершенно непонятно, из каких таких источников упомянутым автором был взят факт «о непрерывных совещаниях с участием Боткина»? Или, как, скажем, он мог «бродить по караульным помещениям», когда жизненное пространство узников ДОН ограничивалось семью комнатами и кухней, покидать пределы которых строго воспрещалось. (За исключением времени прогулок в садике и по естественным надобностям[167].) И уж, тем более, Великие Княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна никак не могли сидеть на сундуке в коридоре. (Кстати, не совсем понятно, какое из помещений ДОН М. К. Касвинов подразумевал под коридором.) Ибо, во-первых, это было также запрещено, а, во-вторых, никакого сундука там не было и в помине. Но если упомянутый автор называл «коридором» помещение II, а «сундуком» – диванчик, то это также было исключено, поскольку на оном всегда размещался караульный одного из внутренних постов.
Доктор же В. Н. Деревенко, действительно, имел право на вход в ДОН[168]. Но только не в любое время, как пишет М. К. Касвинов, а в строго определённые часы (как правило, после 18.00), да и то не каждый день. Так, если последовательно проследить график его посещений ДОН за май–июнь месяцы (на это время приходилось наибольшее количество его посещений), то мы получим следующую картину:
• с 24 по 31 мая доктор Деревенко наносил визиты в ДОН – 6 раз, отсутствовал – 1 раз, приходил, но не был принят – 1 раз;
• в течение июня доктор В. Н. Деревенко наносил визиты в ДОН – 13 раз, отсутствовал – 8 раз, приходил, но не был принят – 9 раз.
Но это так, как говорится, к слову…
Годы спустя В. Н. Деревенко в своем «Жизнеописании», датированном 18 ноября 1933 года, вот что напишет по этому поводу:
«… согласно ходатайству товарища Авдеева, коменданта Дома особого назначения, мне было разрешено посещать больного Алексея в Доме особого назначения, и на этот предмет мне был выдан специальный мандат, в котором было сказано, что я могу посещать Алексея с разрешения каждый раз и в присутствии коменданта товарища Авдеева. Посещал я Алексея раза два в неделю, причем каждый раз тов. Авдеев вводил меня к нему и провожал обратно, не говоря уже о том, что он присутствовал во время моих визитов, не разрешал никаких передач и никаких разговоров, кроме чисто врачебных. Помимо тов. Авдеева, в Доме ос.[обого] назн. [ачения] дежурили комиссары от заводов, в присутствии которых я приходил, уходил, вел переговоры с Авдеевым и консультировал с доктором Е. С. Боткиным, находившимся в заключении в том же доме.
Рецепты писались в комнате т. Авдеева и передавались последнему. Из вышеизложенного, ясно само собой, что не могло быть и речи о приватных разговорах с членами б.[ывшей] царской семьи или с кем-нибудь из заключенных и о передаче им или получении от них писем и записок. Нарушение строгих правил, о которых я был поставлен в известность, грозило смертью, и я, имея на руках жену, мать и ребенка, не мог и думать, да и не желал нарушать приказа, и я с большим удивлением прочитал в произведении П. Быкова, напечатанном в “Красном Урале”, о том, что я в Екатеринбурге познакомился с генералом Сидоровым и от него передавал письма б.[ывшей] царской семье. Что касается Сидорова, то ко мне действительно явился крестьянин (или человек, одетый под крестьянина), назвавший себя Ив. Ив. Сидоровым, который, узнав от меня о том, что Алексей болен и что он нуждается в усиленном питании, взялся организовать доставку молока и прочих пищевых продуктов в Дом ос.[обого] назн.[ачения], что он и выполнил, но на этом наше знакомство с ним и кончилось, и лишь много позднее от сестер милосердия того лазарета в котором я служил в Екатеринбурге, я узнал, что Сидоров не деревенский обыватель, а генерал»[169].
А теперь о главном. О «планах побега» и «письмах Офицера». Но для начала, уже в который раз, предоставим слово А. Д. Авдееву:
«Вся корреспонденция, исходящая от заключенных, должна была писаться на русском языке и в незапечатанных конвертах передаваться коменданту, который уже передавал ее в областной исполком.
И вот однажды при просмотре писем было обращено внимание на одно письмо, адресованное Николаю Николаевичу[170].
При тщательном осмотре, между подкладкой конверта и бумагой самого конверта, был обнаружен листок тонкой бумаги, на котором был нанесен точный план дома, где содержались заключенные, с масштабом и пр. Все комнаты были обозначены, с указанием кто в них помещается. Подписи были сделаны так, что нетрудно было догадаться о составителе плана, написано было так: “комендантская”, “моя и жены”, “столовая” и пр. Был вызван составитель дома в комендантскую. До этого бывш. царя ни разу не приглашали в комендантскую, а все повседневные мелкие вопросы проводились через д-ра Боткина, который сам заходил в комендантскую, или приходил к нему комендант. Поэтому вызов Николая в комендантскую произвел волнение среди населения дома. Позвать Николая направился тов. Украинцев, который приходит и говорит, что д-р Боткин просит разрешения присутствовать при разговоре коменданта с Николаем Александровичем. Когда ему было отказано в этом, Николай все же явился с одной из дочерей – Марией. От стула, предложенного ему, он отказался. Спрашиваю, не знает ли он, что в одном из писем их вчерашней корреспонденции[171] был спрятан под подкладку конверта план дома? Ответил, что не знает, может быть, кто-нибудь из детей это сделал, – он узнает. Когда же я ему показал самый план, написанный им собственноручно, то он замялся, как школьник и говорит, что не знал, что нельзя посылать плана. На вопрос, почему же тогда его запрятали под подкладку конверта, он как ребенок начал просить, чтобы его извинили на первый раз и что больше таких вещей он делать не будет. И тут же спрашивает: а вы все-таки пошлете этот листок с письмом или оставите его? Вопрос был настолько наивен, что его мог задать человек или с перепугу потерявший ум, или совершенно не имеющий его от рождения.
После переговоров с тов. Белобородовым я получил директиву предупредить Николая, если он вообще будет заниматься такими художествами, то будет переведен в местную тюрьму в одиночную камеру»[172].
А теперь автор позволит себе сделать некоторые комментарии по поводу сказанного.
4 мая (21 апреля ст. ст.) 1918 года Государыня Императрица и Великая Княжна Мария Николаевна писали письма в Тобольск. К этому письму приложил руку и Государь, который так описал это событие в Своем дневнике:
«21 апреля. Великая Суббота.
(…) Все утро читал вслух, писал по несколько строчек в письма дочерям от Аликс и Марии и рисовал план этого дома»[173].
(Фото «плана этого дома» было приведено в книге П. М. Быкова «Последние дни Романовых», Издательство «Уральский рабочий», Свердловск, 1990), из чего можно сделать вывод, что, по крайней мере, фотографический снимок этого письма в своё время хранился в бывшем партийном архиве Свердловского обкома КПСС.)
Сам по себе план представляет собой схематическое изображение верхнего этажа дома Ипатьева с указанием спальных мест его обитателей, а также некоторых предметов обстановки. Однако он был выполнен не на отдельном «листке тонкой бумаги», а на том же листе, что и само письмо. Под этим планом имеется надпись, выполненная рукой Государя: «Дом Ипатьева в Екатеринбурге», а какие-либо другие надписи – отсутствуют.
Таким образом, заявление А. Д. Авдеева о том, что этот план находился «между подкладкой конверта и бумагой самого конверта» является его очередным вымыслом, не имеющим ничего общего с реальной действительностью. Кстати, совершенно непонятно также и то, что именно он имел в виду под «подкладкой конверта и бумагой самого конверта»…
А далее все указанные события происходили так, как описал их Государь в Своём дневнике за 7 мая (24 апреля) 1918 года:
«Авдеев, комендант, вынул план дома, сделанный мною для детей третьего дня на письме (выделено мной. – Ю. Ж.), и взял его себе, сказав, что этого нельзя посылать!» [174]
К сказанному же остаётся только добавить, что сам А. Г. Белобородов (лично просматривающий всю корреспонденцию «жильцов дома Ипатьева») в своих воспоминаниях ни словом не обмолвился о «попытке тайной пересылки этого плана», равно как и об этом случае вообще.
Однако автор не исключает возможность того, что сам по себе этот случай впоследствии послужил толчком для дальнейших провокаций со стороны Президиума Исполкома Уральского Областного Совета.
А теперь попробуем разобраться, кто же такой был И. И. Сидоров, о котором упоминает А. Д. Авдеев.
До недавнего времени сведения об этом человеке были самыми отрывочными – о нём лишь вскользь упоминал Н. А. Соколов, а М. К. Дитерихс представлял его бывшим «флигель-адъютантом». Историк же С. П. Мельгунов, анализируя всё известное ему об этом человеке на страницах своей книги, и вовсе приходит к выводу, что под личностью такового вполне могли фигурировать два совершенно разных лица. Один – «флигель-адъютант», «именовавший себя в Сибири “Сидоровым”», а второй – «Иван Иванов», посланный Толстыми из Одессы в Екатеринбург.
Однако пелена загадочности улетучится, словно дым, если ознакомиться с выдержкой из протокола допроса З. С. Толстой, с которой Н. А. Соколов встречался в Париже в июле 1921 года:
«(…) Письма эти возил некто Иван Иванович Сидоров[175]. Я познакомилась с ним в 1917 году в Одессе, где он служил в обществе “Пароходства и торговли”. Это был честнейший человек, несомненный монархист. Он был послан в Екатеринбург моим мужем[176] 4 мая 1918 года. Главная цель посылки его заключалась в намерении установить связь с Царской Семьей, чтобы через эту связь помогать деньгами Ей. В то же время мы послали с ним и письма. Вместе с Сидоровым поехал тогда еще какой-то господин, который раньше служил телеграфистом во дворце, в Царском Селе. Фамилию его я забыла, а имя его Сергей.
28 июня Сидоров вернулся. Он рассказал нам, что проникнуть к Царской Семье лично он не мог: это было абсолютно невозможно. Он видел лишь снаружи дом, в котором Она жила: дом был обнесен забором. Сидоров несколько раз видел доктора Деревенко. Последний рассказал Сидорову, что режим плохо отражается на состоянии здоровья Наследника, и говорил, что Царскую Семью необходимо увезти из Екатеринбурга, о чем он просил Сидорова передать нам. Сидорову удалось установить связь с монастырем, т. е. добиться того, чтобы монахини получили возможность доставлять Царской Семье продукты. Наши письма и образок, который тогда посылал Иванов-Луцевин, он передал кому-то в монастыре. Там же он передал для доставления Царской Семьи и деньги, доставив нам расписку в принятии от него денег. Суммы я сейчас не помню, также и имени лица, подписавшего расписку.
В бытность Сидорова в Екатеринбурге он был арестован большевиками и сидел в тюрьме, но его выпустили все же. Он нам рассказывал, что большевики нашли у него при обыске образ, но не отобрали его, хотя, как он говорил, какой-то комиссар и сказал ему при этом, что он, Сидоров, этот образ привез “Николаю”»[177].
При каких обстоятельствах был арестован Сидоров, и как именно это произошло, я положительно не могу Вам рассказать: не помню этого.
Дорогой на обратном пути в поезде у Сидорова и телеграфиста Сергея был произведен обыск (тогда вообще там производили обыски), и Сергей был арестован, так как у него нашли какие-то заметки про большевиков. Судьбы его я не знаю.»[178].
Показания З. И. Толстой дополняет монахиня Августина, которая, будучи допрошена Н. А. Соколовым 9 июля 1919 года, показала:
« (…) Я заведую художественным отделом нашего монастыря. Как-то летом прошлого года к нам в монастырь явился какой-то мне незнакомый господин и пожелал сделать у нас заказ: икону мученицы Маргариты. В первый же свой приход к нам он завел речь про Царскую Семью. Он стал говорить, что необходимо спасти ее, что для этого надо сплотить офицерство, что надо все сделать для предотвращения опасности, которая может угрожать ей. Я указала этому человеку на доктора Деревенко, как на единственного человека в городе, могущего сказать ему что-нибудь определенное. Сам же он собирался идти в Академию Генерального штаба к офицерам. У доктора Деревенко этот господин был, и, возвратившись от него, он нам сказал, что Царская Семья, по словам Деревенко, нуждается в продуктах. (…)
Иван Иванович Сидоров, как себя называл незнакомый господин, заказавший нам икону мученицы Маргариты, был у нас в обители несколько раз. Он не называл себя, кто он на самом деле, но как-то в разговоре со мной он однажды проговорился и сказал: “У нас при дворе”. С ним однажды был какой-то господин, которого он называл своим “адъютантом”. Однажды они разговаривали с этим адъютантом не по-русски, но на каком именно языке, я не знаю. Этот адъютант, по-моему, однако, тоже русский, как и Иван Иванович. Уехали они тогда же, когда ничего не было известно про убийство или увоз Царской Семьи. Но недели три тому назад этот адъютант был у нас в обители. Кто он такой, я не знаю.
Иван же Иванович хотел именно того, чтобы Государь Николай Александрович был опять ЦАРЕМ, а не Михаил Александрович. Про Михаила Александровича он выражался, что у него “не такой характер”. Иван Иванович хотел, чтобы через нас Царской семье были переданы письма и икона в футляре. Но в то время, когда он был у нас в Екатеринбурге, сделать этого было никак нельзя. Поэтому эту икону и письма он оставил нам, чтобы мы передали все это, когда будет можно. Однако передать все это и потом мы не могли. Так все это у нас и осталось. Я вот теперь Вам представляю конверт с письмами, как я его получила от Ивана Ивановича, и икону в футляре. Еще у меня есть карточка с Ивана Ивановича. Ее тоже Вам представляю. Иван Иванович был в Академии Генерального Штаба у офицеров и говорил мне, что там он “не сошелся во взглядах”. Я его тогда поняла так, что он не сошелся во взглядах по вопросу о спасении Царской семьи и о том, чтобы ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР Николай Александрович снова был царем, как этого хотелось Ивану Ивановичу»[179].
Находясь в Екатеринбурге, И. И. Сидоров встречался также и с епископом Екатеринбургским и Ирбитским Григорием (Г. Ю. Яцевским), который будучи допрошен Н. А. Соколовым, показал:
«(…) Летом прошлого года (точно времени указать не могу) во время приема пришел ко мне какой-то господин, довольно невзрачного вида: лет, так, 40, роста среднего, худощавый, брюнет. Имел он, кажется, небольшие черные усы и такую же бороду. Черты лица тонкие, довольно правильные. Он мне, с первых же слов, сказал: “Я Вам, Владыко, привез поклон от митрополита Одесского Платона”. Митрополита Платона я хорошо знал. Но все-таки ко всем подобным лицам, как явившийся ко мне господин, я относился осторожно, опасаясь провокации. Я спросил его: “Как же Вы через фронт перебрались?” Он мне ответил, что фронта никакого нет: был немецкий кордон, и немцы его пропустили. А дальше он никаких “товарищей” не видел. Видел только двоих красноармейцев. Они у него спросили вид. Он его стал вынимать, чтобы показать им. Но и смотреть его не стали и уехали. Я его спросил, что же его привело ко мне? Тогда он мне сказал: “Мне необходимо установить связь с ЦАРЕМ. Не можете ли Вы мне помочь в этом?” Я осторожно ему ответил: “И сам не имею связи, и помочь не могу”. Но однако потом, поговорив с ним, я вижу: человек как будто порядочный и можно ему довериться. Тогда я ему сказал, что в Екатеринбурге содержится епископ Гермоген[180], с которым установлена связь через посылку ему провизии из женского местного монастыря, что таким же образом можно попытаться установить связь и с ЦАРЕМ.
Как потом мне доложено было, этот человек действительно был в монастыре и просил, чтобы Царской Семье посылалось молоко и яйца. Все это и носилось ей двумя монахинями, кажется, Марией и Антониной. (…)
Как мне известно, этот господин, о котором я Вам говорил, называл себя в монастыре Иваном Ивановичем. Один раз он был в монастыре не один, а вместе с каким-то другим лицом, видимо, иностранцем, похожим, как мне было доложено, на немца, и они говорили между собой не по-русски»[181].
Из всего сказанного здесь можно сделать только один вывод – И. И. Сидоров должен был только разведать обстановку, но никоим образом не выступать в роли организатора похищения Царской Семьи. А вот его «адъютант» Сергей и упоминание в разговорах имени Генерал-Адъютанта и Генерала от Кавалерии Н. Ф. Иванова-Луцевина, вероятнее всего, и породили среди некомпетентных лиц те самые слухи о мифическом «генерал-адъютанте», якобы прибывшем в Екатеринбург для организации дела спасения Царской Семьи.
А теперь несколько слов о находящейся в то время в городе Военной Академии РККА и о некоторых из её преподавателей и слушателей, которым ряд исследователей до сих пор ставят в вину инертность их действий в деле попыток освобождения Царской Семьи из дома Ипатьева.
Но, для начала, именно о самом военно-учебном заведении.
Военная Академия, носившая имя «Николаевской» (по имени её создателя Императора Николая I), была одним из лучших учебных заведений бывшей Российской Империи, подарившая Императорской Русской Армии много прекрасных специалистов – причем, как военачальников, так и учёных.
Созданная в 1832 году как Императорская Военная Академия, она была реорганизована в 1855 году, после чего получила наименование Николаевской Академии Генерального Штаба, а в 1909 году – Императорской Николаевской Военной Академии. В феврале 1918 года, когда старая армия была уже распущена, а на смену ей началось формирование частей новой Рабоче-Крестьянской Красной Армии, встал вопрос о её дальнейшем существовании, так как многие советские политические деятели считали, что подобное «гнездо контрреволюции» не может находиться в революционном Петрограде.
В силу этих обстоятельств, 9 марта 1918 года Главное Управление Высшими Учебными Заведениями РККА принимает решение о её ликвидации или реорганизации в гражданское учебное заведение. Но В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий решают сохранить Академию в соответствии с её основным профилем, и на следующий день особым распоряжением СНК Р.С.Ф.С.Р. отменяют данное решение ГУВУЗ РККА. Но, продлевая жизнь этому учебному заведению, конечно же, имелось в виду, что таковое в дальнейшем станет кузницей советских военных специалистов для нарождающейся Красной Армии. Посему 3 мая 1918 года Нарком по Военным и Морским делам Л. Д. Троцкий отдаёт соответствующий приказ, на основании которого бывшая Императорская Николаевская Военная Академия с 1 июля 1918 года начинает именоваться Военной Академией РККА.
Уже в первых числах мая встаёт вопрос об эвакуации Академии из бурлящего событиями Петрограда в более спокойный в политическом плане регион, но не на юг России (как хотелось тогда руководству академии в лице её начальника Генерал-Майора А. И. Андогского[182] и где в то время начинали формироваться части Белой Армии), а на Урал.
Процесс эвакуации из Петрограда в Екатеринбург занял около двух месяцев (с середины марта по середину мая). Эвакуация же основного имущества этого учебного заведения (библиотеки, музея, типографии и пр.) заняла ещё больше времени и завершилась лишь к 1 июля 1918 года. То есть, фактически, к тому времени, когда уже начиналась эвакуация большевистских учреждений из Екатеринбурга.
Еще в пути следования (21 марта 1918 года), А. И. Андогский получил телеграмму о том, что в Екатеринбурге под вверенное ему учебное заведение уже отведено здание бывшего Епархиального Женского Училища, расположенное почти в самом центре города.
Из книги И. Ф. Плотникова «Гибель Царской Семьи»:
«Как основной состав, так и слушатели академии, оказались в сложнейшем положении. Нет, не только и не столько в связи с эвакуацией, а вследствие того, что они оказались поставлены на службу большевистскому режиму, порвавшему с союзниками России, вступившему в открытый и тайный сговор с Германией и воюющему с собственным народом. Вопреки сложившемуся советскому стереотипу о “золотопогонниках” – офицерах и генералах, они в России не были высокооплачиваемыми (по сравнению с их коллегами в западных странах), в большинстве своем были семейными. Жили на жалованье. Гражданской специальности, других доходов не имели. Это привязывало их к военному ведомству. И поэтому, и в связи с усиленным контролем властей, большинство вынуждено было оставаться в Академии и готовиться к эвакуации. Но и в этой ситуации некоторые преподаватели и слушатели под разными предлогами уклонились от нее. Из профессоров старшего поколения в Екатеринбург с первым эшелоном выехал лишь генерал А. И. Медведев. Ряд других (А. К. Баилов, Б. М. Колюбакин, В. Ф. Новицкий, И. Ф. Филатьев, Г. Г. Христиани и др.), ссылаясь на семейные и другие обстоятельства, заявили, что приедут к месту назначения позднее, самостоятельно. Но некоторые из них вообще не выехали. В конце мая 1918 г. руководство Академии просило местный совет предоставить квартиры на 89 человек. В “Списке лиц учебно-административного состава” были названы и эти люди. Но, судя по другим данным, на месте назначения оказались не все 89 человек. В списке названо 22 ординарных и экстраординарных профессора, 11 руководителей (заведующих) службами, включая начальника Академии и его помощника. Все они были генералами и старшими офицерами. Академия была подчинена местным советским военным органам и их руководителям – областному военному комиссариату Урала и только что сформированному Уральскому военному округу, то есть Ш. И. Голощёкину. Непосредственно же Академией больше занимался его фактический помощник – второй военком С. А. Анучин (в прошлом подпоручик), а позднее, по прибытии в Екатеринбург, – и командующий Северо-Урало-Сибирским фронтом Р. Я. Берзин (Берзиньш). Поскольку Академия была направлена в Екатеринбург Троцким, находилась под общей его опекой, местные большевистские лидеры не решались на крутые меры против нее, на расправу с “контрреволюционным гнездом”. Голощёкин и Анучин лишь бомбардировали ведомство Троцкого телеграммами с требованиями убрать Академию, реорганизовать ее, принимать в число слушателей только лиц, стоящих на советской платформе, и т. д. Часть этих требований Академия приняла.
А. И. Андогскому приходилось вести себя чрезвычайно осторожно по отношению к власти, ориентировать на то же и весь состав учебного заведения. Не давая себя спровоцировать, Андогский и его коллеги “тихой сапой” все же саботировали распоряжения властей. В Москву выезжал один из преподавателей для связи с французской миссией. Ловили вести об антибольшевистском движении на юге Урала, в других районах, особенно следили за восстанием чехословацкого корпуса, интенсивно развивавшимися с этого момента военными событиями. Как могли, затягивали распаковку прибывавшего оборудования, библиотеки, утаивали хоть какое-то количество оружия (на 25–30 человек), откладывали активный процесс обучения.
Как отмечал в августе 1918 г. в “Памятной записке” генерал-лейтенант, профессор Христиани, заменивший на посту начальника Академии Андогского, “частичные занятия в Академии начались с прибытием первого эшелона, начавшись в полной мере лишь с 1-го июля и прекратились за несколько дней до занятия города чехословаками”. Сама по себе учебная программа была емкой и разносторонней: от курсов по стратегии, общей тактике, военной философии, психологии – до политической экономии и вопросов мирового хозяйства, логики и методов научного исследования и 8 иностранных языков. Но она осиливалась теперь далеко не в полном объеме, особенно с новыми, малограмотными слушателями-краткосрочниками. Данные о количестве прежних, то есть прибывших из Петрограда, слушателей в источниках расходятся. Выяснить вопрос тем более сложно, что происходила большая подвижка: часть слушателей с расширением масштаба военных действий направлялась в красную армию. Андогский называл численность слушателей на момент Октября 1917 г. и далее – “свыше 300 кадровых офицеров”. Очевидно, он включает в их число и вновь принятых слушателей в Москве, также из бывших кадровых офицеров. На старший курс к июню прибыло в соответствии с приказом наркомвоенмора 58 слушателей и столько же окончивших подготовительные курсы. Кроме того, на ускоренный курс (вместе с опоздавшими) – 115 человек, но тоже офицеров. Еще более 100 слушателей на ускоренные курсы было направлено на самом Урале. Это были люди, имевшие опыт военной службы в армии не менее 3-х месяцев, знания в объеме четырехклассного училища, стоящие на советской платформе. Всего на 1 июля оказалось 329 слушателей. Среди слушателей ускоренного курса также преобладали бывшие офицеры, только военного времени. Были и комиссары. Более 100 слушателей уже в те летние дни направилось в красную армию»[183].
Так вот, из всей этой информации некоторые исследователи, зачастую, выделяют лишь то обстоятельство, что на 1 июля 1918 года в Военной Академии РККА насчитывалось более 300 слушателей, что, в известной мере, представляло собой серьёзную силу. А если к тому же учесть, что почти каждый из этих слушателей имел за плечами довольно солидный фронтовой опыт, то их бездействие просто непонятно… Но это только на первый взгляд.
В Государственном архиве Российской Федерации сохранились воспоминания бывшего профессора этой академии Генерал-Майора М. А. Иностранцева «Конец Империи, революция и начало большевизма», в которых он довольно ясно выразил своё мнение по данному вопросу:
« (…) многие (…) после освобождения Академии от большевиков (…) выбросили по ее адресу несправедливые и незаслуженные обвинения в том, что она, состоя из многих десятков военных людей и находясь в одном городе с заключенными царскими узниками, не только не пыталась освободить их от рук злодеев, но не помешала их варварскому убиению…
Действительно, личный состав служащих и слушателей (конечно, лишь старшего класса, т. к. о красных слушателях едва ли можно говорить) составлял несколько десятков человек, приблизительно около 70–80. Но, во-первых, все мы были обезоружены, т. к. скрытого Андогским оружия могло хватить лишь на 25–30 человек. Следовательно, мы были с голыми руками. Но даже если бы состав Академии и был вооружен, то едва ли бы он мог от большевиков Царскую семью освободить, т. к. гарнизон Екатеринбурга составляло несколько тысяч красноармейцев, которых, несомненно, поддерживали бы еще несколько тысяч рабочих Верхне-Исетского завода и железнодорожных.
Саму охрану дома Ипатьева составляла едва ли не целая рота чрезвычайки и, притом вооруженная, как говорится, “до зубов” и, следовательно, Академия не имела сил справиться даже с одной этой охраной»[184].
Приблизительно такой же точки зрения придерживается и бывший Глава Королевского Консульства Великобритании в Екатеринбурге Томас Гиндебратович Престон, которого часто посещали П. Жильяр и Баронесса С. К. Буксгевден:
«Мы проводили долгие часы, обсуждая пути и средства спасения царской семьи, – говорил Престон позже. – Предпринимать что-либо для царской семьи, зная о 10 000 красных солдат в городе и о шпионах на каждом углу и в каждом доме, было безумием и чревато величайшей опасностью для самой семьи… Никогда не было предпринято в Екатеринбурге никакой организованной попытки что-либо сделать»[185].
А что же сами слушатели Военной Академии?
Ответ на этот вопрос нам дают показания Капитана Лейб-Гвардии Д. А. Малиновского, допрошенного Н. А. Соколовым 17 июня 1919 года, который, в частности, показал:
«(…) В составе Лейб-Гвардии 2-й Артиллерийской бригады я участвовал в Европейской войне, находясь преимущественно на Юго-западном фронте. Два раза я был ранен. Ввиду развала армии после установления большевицкого режима я ушел на Дон. В Новочеркасске я встретил Генерал-Адъютанта Н. И. Иванова[186], с которым я был лично знаком. Он посоветовал мне, как петроградцу, ехать в Петроград и заняться вербовкой офицеров для отправки их на Дон. Пробыв на Дону дней 10, я уехал в Петроград с письмом от Иванова к некоторым его знакомым и с письмом из штаба Добровольческой армии к Полковнику Хомутову, находившемуся в Петрограде и связанному с Добровольческой армией. Доставить, однако, письма полковнику Хомутову я не мог, так как он в это время был арестован. Помотавшись несколько дней без дела, я через некоторых своих знакомых вошел в организацию генерала Шульгина[187]. Эта организация, состоявшая из офицерских элементов, имела в виду свержение власти большевиков, установление военной диктатуры и созыв Земского собора для установления образа правления в единой, великой России. Я бы сказал, что это была чисто русская организация, ориентировавшаяся на свои силы: русские. Средства она получала от местных финансовых кругов, хотя, как мне кажется, была в этом отношении связана и с посольствами: шведским и английским.
Этой организацией я был отправлен в первых числах мая месяца в г. Екатеринбург для выяснения условий, в которых находится здесь Августейшая семья, ознакомления по этому вопросу нашей организации и принятия мер к облегчению участи Августейшей семьи, вплоть до увоза ее отсюда.
Здесь я поступил на старший курс Академии Генерального штаба, находившейся тогда в Екатеринбурге. Разобравшись несколько в окружающих меня людях, я сошелся ближе со следующими офицерами, бывшими в Академии: Капитаном Ярцовым, Капитаном Ахвердовым, Капитаном Дилингсгаузеном и Капитаном Гершелманом. Я поделился с ними своей задачей. Мы решили узнать как следует те условия, в которых содержалась здесь в Ипатьевском доме Августейшая Семья, а в дальнейшем действовать так, как позволят нам обстоятельства. Получали мы сведения эти, как могли. Мать Капитана Ахвердова, Мария Дмитриевна, познакомилась поближе с доктором Деревенко и узнавала от него, что было можно.
Деревенко, допускавшийся время от времени к Августейшей Семье, дал ей план квартиры верхнего этажа дома Ипатьева. Я не знаю, собственно, кто его начертил. Может быть, чертил его Деревенко, может быть, сама Ахвердова со слов Деревенко, может быть, и Дилингсгаузен. Я же его получил от последнего. Там значилось, что Государь с Государыней жили в угловой комнате, два окна которой выходят на Вознесенский проспект, а два – на Вознесенский переулок. Рядом с этой комнатой была комната княжон, отделявшаяся от комнаты Государя и Государыни только портьерой. Алексей Николаевич жил вместе с отцом и матерью. Демидова жила в угловой комнате по Вознесенскому переулку. Чемадуров, Боткин, повар и лакей все помещались в комнате с аркой[188]. Больше этого, то есть кроме вот плана квартиры и размещения в ней Августейшей семьи, мы ничего от Деревенко не имели.
Нас интересовало, конечно, в каком душевном состоянии находится Августейшая Семья. Но сведения эти были бедны. Я не знаю, почему это так выходило: Ахвердова ли не могла получить более выпуклых сведений об этом от Деревенко, или же Деревенко не мог сообщить ничего ценного в этом отношении и, если не мог, то не отдаю себе отчета и теперь, почему это было так: потому ли, что Деревенко не хотел этого делать, или же потому, что не мог дать никаких ценных сведений, так как за ним за самим следили и при его беседах с лицами Августейшей Семьи всегда присутствовали комиссары. Повторяю, сведения эти были какие-то бледные. Знали мы от него, вернее от Ахвердовой через него, что Августейшая Семья жива.
Припоминаю, между прочим, вот что. Я помню, по сведениям Деревенко выходило, что у княжон были в комнате четыре кровати, между тем, когда я потом попал в дом Ипатьева, я не видел там, в этой комнате, никаких кроватей, не только в комнате княжон, но и в комнате Государя и Государыни. А попал я туда один из первых. Может быть, впрочем, кровати увезли большевики? Ахвердова же, получавшая сведения от Деревенко, относилась сама к нему с доверием.
Кем-то из нашей пятерки были получены еще следующие сведения о жизни Августейшей семьи. Какой-то гимназист снял однажды своим фотографическим аппаратом дом Ипатьева[189]. Его большевики сейчас же “захлопали” и посадили в одну из комнат нижнего этажа дома Ипатьева, где жили, вероятно, красноармейцы. Сидя там, этот гимназист наблюдал такие картины. В одной из комнат нижнего этажа стояло пианино. Он был свидетелем, как красноармейцы ботали по клавишам и орали безобразные песни. Пришел сюда какой-то из начальствующих лиц. Спустя некоторое время к нему явился кто-то из охранников и с таким пренебрежением сказал, прибегая к помощи жеста, по адресу Августейшей семьи: “Просятся гулять”. Таким же тоном это “начальствующее лицо” ответило ему: “Пусти на полчаса”. Об этом этот гимназист (я совершенно не могу его назвать и указать, где он живет) рассказал или своим родителям, или тем лицам из старших, у которых он жил. Сведения эти дошли каким-то образом до нашей пятерки (но кто мне их передавал, я не помню).
Был случай разрыва гранаты где-то около дома Ипатьева. Деревенко передавал Ахвердовой, что это дурно отразилось на душевном состоянии Наследника.
Проходя мимо дома Ипатьева, я лично всегда получал тяжелые переживания: как тюрьма древнего характера: скверный частокол с неровными концами. Трудно было предполагать, что им хорошо живется.
Источником, через который получались нами сведения, был еще денщик Ахвердова, имени и фамилии его не знаю; впрочем, кажется, по фамилии – Котов. Он нашел знакомство с каким-то охранником и узнавал от него кое-что.
Я осведомлял нашу организацию в Петрограде посылкой телеграмм на имя Капитана Фехнера (офицер моей бригады) и Есаула Сводного казачьего полка Рябова. Но мне ответа ни разу прислано не было, и не было выслано ни единой копейки денег. Но что же можно было сделать без денег?
Стали мы делать, что могли. Уделяли от своих порций сахар, и я передавал его Ахвердовой. Кулич испекла моя прислуга из хорошей муки, которую мне удалось достать. Я его также передал Ахвердовой. Та должна была передать эти вещи Деревенко для доставления их Августейшей Семье. Она говорила мне, что все эти вещи дошли до назначения.
Это, конечно, так сказать, мелочи. Главное же, на что рассчитывала наша пятерка, – это был предполагаемый нами увоз Августейшей Семьи. Я бы сказал, что у нас было два плана, две цели. Мы должны были иметь группу таких людей, которые бы во всякую минуту на случай изгнания большевиков могли бы занять дом Ипатьева и охранять благополучие Семьи. Другой план был дерзкого нападения на дом Ипатьева и увоз Семьи. Обсуждая эти планы, пятерка посвятила в него /так!/ семь еще человек офицеров нашей же Академии. Это были: Капитан Дурасов, Капитан Семчевский, Капитан Мягков, Капитан Баумгартен, Капитан Дубинин, Ротмистр Бартенев, седьмого я забыл. Этот план держался нами в полном секрете, и я думаю, что большевикам он никоим образом известен не мог быть. Например, мадам Ахвердова об этом совершенно не знала. Однако, что бы мы ни предполагали сделать для спасения жизни Августейшей Семьи, требовались деньги. Их у нас не было. На помощь местных людей нельзя было рассчитывать совершенно: все было подавлено большевицким террором. Так с этим у нас ничего и не вышло, с нашими планами, за отсутствием денег, и помощь Августейшей Семье, кроме посылки кулича и сахара, ни в чем ином не выразилась.
За два дня до взятия Екатеринбурга чехами я, в числе 37 офицеров, ушел к чехам, и на другой день, после взятия города чехами, утром я пришел в город»[190].
Еще одним человеком, посланным на разведку в Екатеринбург, был Гвардии Капитан П. П. Булыгин. Биография этого человека весьма примечательна и тем, что он, будучи впоследствии помощником и телохранителем следователя Н. А. Соколова, являлся одним из активных участников расследования, благодаря которому были спасены многие вещественные доказательства.
Павел Петрович Булыгин родился 23 января (5 февраля) в городе Гороховце Владимирской губернии, в семье отставного Поручика артиллерии, Статского Советника, писателя-беллетриста Петра Павловича Булыгина и его супруги Марии Эдуардовны (урожд. фон Бернер). Помимо единственного сына Павла, в семье Булыгиных было еще четыре дочери: Софья (1889), Анна (1890), Наталья (1893) и Мария (1897).
Весной 1915 года Павел Булыгин окончил курс классической мужской гимназии, а в сентябре поступает в Школу Прапорщиков, созданную в годы Первой Мировой войны на базе Александровского Военного Училища, которую оканчивает 1 января 1916 года по 1-му разряду с зачислением по армейской пехоте со старшинством.
С 6 января 1916 года Прапорщик П. П. Булыгин зачислен в Запасной батальон Лейб-Гвардии Петроградского полка младшим офицером.
Проведя Пасху в кругу семьи, в родовом имении родителей (село Михайловское Гороховецкого уезда Владимирской губернии), он в июне этого же года проходит военные сборы в лагерях под Красным Селом, находящемся в пригороде Петрограда.
В июле 1916 года Прапорщик П. П. Булыгин направляется в свой полк в составе Действующей Армии, который ведёт бои на реке Стоход. 1 августа он прибывает к месту службы и вступает во временное командование 15-й ротой.
С 3 сентября по 4 октября Прапорщик П. П. Булыгин участвует в боях на Владимир-Волынском направлении, которые вела Особая Армия, в состав которой входил Лейб-Гвардии Петроградский полк.
Уже в самом первом своём бою у деревни Шельвов, произошедшим 3 сентября 1916 года, он сумел отличиться, за что был награждён Орденом Св. Анны 4-й степени и холодным оружием с надписью «За храбрость». (Приказ по Особой Армии от 28.10.1916 г. за № 172.) В этом же месяце в деле под Владимир-Волынским Подпоручик П. П. Булыгин получил своё первое ранение и после излечения убыл в отпуск на родину, откуда отправился на долечивание в один из санаториев Кисловодска.
Новый 1917 год П. П. Булыгин проводит в кругу семьи в Гороховце, после чего направляется в Петроград для дальнейшего продолжения службы, где зачисляется в Запасной батальон Лейб-Гвардии Петроградского полка.
Февральская революция застала П. П. Булыгина в Петрограде. С её началом он берёт краткосрочный отпуск продолжительностью с 10 марта по 18 апреля. Но, явившись в срок в свой батальон, он не находит общего языка с солдатским комитетом, результатом чего явилось его исключение из списков полка и направление в распоряжение Штаба Петроградского военного Округа. (Постановление от 5 мая 1917 года.)
В это же самое время Начальником Царскосельского гарнизона и Комендантом Александровского Дворца, где под арестом находилась Царская Семья, становится Полковник Лейб-Гвардии Петроградского полка Е. С. Кобылинский, адъютантом к которому и назначается Штабс-Капитан П. П. Булыгин. Но находиться в адъютантской должности ему долго не пришлось. Из-за своих крайне монархических взглядов, он пробыл в таковой всего 6 дней, после чего был вынужден бежать и с июня по ноябрь 1917 года скрываться в имении своих родителей в селе Михайловском.
В начале декабря Штабс-Капитан П. П. Булыгин пробирается в Харакс (Крым), где в то время находилась Вдовствующая Императрица Мария Федоровна, во дворце которой ему показывают письмо Государя из Тобольска, в котором Он называет Полковника Е. С. Кобылинского Своим последним другом.
В этом же месяце в Новочеркасске П. П. Булыгин вступает в Добровольческую Армию, вместе с которой совершает 1-й Кубанский Ледяной поход (Ростов на Дону – Екатеринодар – станица Мечетинская), длившийся с 9-го февраля по 30 апреля 1918 года.
Из-за легкого ранения в ногу первые числа мая П. П. Булыгин проводит в госпитале, откуда с фальшивым паспортом на имя «свободного художника» отправляется с рекомендательным письмом к бывшему депутату Государственной Думы В. В. Шульгину, который в то время проживал в Киеве. Встретившись с ним, П. П. Булыгин получил от него пароль и разъяснения о том, как связаться с В. И. Гурко и А. В. Кривошеиным – руководителями находящегося в Москве «Национального центра».
Из воспоминаний П. П. Булыгина «В Екатеринбургской тюрьме»:
«(…) Благополучно миновав большевистские посты на границе с Украиной, я добрался до Москвы. Первым делом я отыскал в Москве офицеров своего собственного и других Гвардейских полков, заручился их поддержкой, а затем уж обратился в “Национальный Центр”. Имея при себе доказательства благонадежности, я объяснил, что поскольку только что прибыл из Южных степей, то не представляю здешней политической ситуации. Но заявил, что я не один, что нас много и мы жаждем деятельности, и доверяя знанию Центром обстановки, нуждаемся в советах: пришло ли время пытаться спасти Государя; когда это должно быть сделано; в каком месте; может ли Центр финансировать это мероприятие.
Нас информировали о том, что наши предложения одобрены, деньги будут предоставлены, время действовать пришло. Выбор же маршрута лучше произвести после разведки местных условий, которой мне советовали заняться безотлагательно…
Но, несмотря на радужные обещания, они задержали мой отъезд еще на две недели. Время, казалось, тянулось невероятно медленно, и было страшно попасться, ничего не успев сделать.
В конце концов, неожиданное потрясение побудило всех к принятию срочных мер.
Однажды, идя по Арбату на встречу с В. И. Гурко, я внезапно остановился от крика мальчишки-газетчика:
“Расстрел Николая Кровавого!”
Я выхватил у него из рук газету. Это было первое, как впоследствии выяснилось, ложное сообщение в прессе. Большевики пустили пробный шар, чтобы узнать отношение Русского народа к убийству своего Государя.
Русский народ смолчал… Ленин, подстраховавшись таким образом, начал последние приготовления для выполнения своего плана.
Я принес эту новость Гурко:
“Le Roi est mort – vive le Roi…”
“Поезжайте и проверьте, возможно, Цесаревич еще жив”, – сказал он.
Той же ночью я отправился в Екатеринбург.
(…) Еще не доезжая Вологды, я прочел в газетах официальное опровержение ужасных слухов. Когда же я купил на станции Котельнич местную газету, то обнаружил в ней именно ту информацию, которую искал:
“Наш маленький городок, – говорилось в ней, – приобретает историческое значение как место заключения бывшего Царя. Его собираются перевести сюда из Екатеринбурга, который находится под угрозой Чехословацких и Белогвардейских банд…”
Котельнич расположен недалеко от города Вятки, их связывает железнодорожный мост через реку Вятка. Городок был достаточно значительным, и я избрал его для своего штаба.
Вскоре я собрал друзей, и мы распределили между собой роли. К этому времени была получена вся необходимая информация. Вятский гарнизон состоял из 117 красноармейцев, набранных из местных рабочих, сильно пьющих. Был один красный офицер, но мы предполагали, что он не большевик. Тринадцать пулеметов, бывших в их распоряжении, находились в сарае и охранялись плохо. Железнодорожная линия между Екатеринбургом и Вологдой была забита. Движение по ней было дезорганизовано из-за постоянного потока эшелонов с ранеными, идущих с Екатеринбургского фронта. Чехи упорно теснили, и в воздухе витала паника.
Когда пришло время, мы вызвали основную группу офицеров из Москвы безобидной телеграммой. Они ехали под видом “мешочников” – этого странного порождения голода и революции. “Мешочниками” называли людей, едущих в более богатые районы страны, чтобы купить или выменять мешок муки, крупы… Массы этих голодных имели такую непреодолимую силу, что административная машина большевиков, находясь на самой ранней стадии развития, была не в состоянии сопротивляться им. Железнодорожное начальство только беспомощно взирало на то, как тысячи и тысячи “мешочников” – разумеется, без билетов – заполняли тамбуры, буфера, крыши и любые выступы платформ и вагонов, за которые только можно было уцепиться…
Прибыв в Котельнич, офицеры должны были поселиться вблизи места заключения Государя и ожидать сигнала к действию.
Знакомая нам женщина, которой доверяли и местные Советы, должна была получить доступ в тюрьму как горничная. С ее помощью мы намеревались снабдить свиту Царя ручными гранатами и револьверами, чтобы заключенные смогли продержаться полчаса (или около того), пока мы будем штурмовать здание снаружи. Были опасения, что охране будет дана инструкция убить пленников в случае любой попытки их освобождения.
Для того, чтобы Их Величества поверили и согласились с нашими планами, не опасаясь провокации, мы должны были передать им письмо от лица, чей почерк был бы им хорошо известен. Письмо должна была передать все та же самая женщина.
Одновременно с атакой тюрьмы предполагалось взорвать железнодорожный мост через реку Вятку. На стоявших у пристани паровых катерах мы надеялись уйти вверх по реке и пробиться через какой-нибудь приток Северной Двины к Архангельску, занятому англичанами. Во избежание преследования остальные суда должны были быть уничтожены. К тому же предполагалось выставить вверх по реке вооруженные отряды, как для охраны пути, так и для его разведки.
План был более чем безрассудный, но шанс на успех был… Если бы Государь отказался бежать, мы поклялись увезти его силой.
Дни шли. Мы держали Котельнич и железную дорогу под пристальным наблюдением. Но ни в городе, ни на железнодорожной линии не было никаких признаков приготовления к приему или проезду Царственных пленников.
Теперь-то я понимаю, что слух о переводе Царя в Вятский округ был всего лишь хитрой уловкой, рассчитанной на срыв возможных попыток вырвать жертву из рук убийц. Должен признаться, что по отношению к нам хитрость большевиков удалась…
Дольше я ждать не мог, и в начале июля решил ехать в Екатеринбург, чтобы выяснить обстановку самому»[191].
Но едва П. П. Булыгин добрался до Екатеринбурга, как, волею случая, был опознан, арестован и помещён в тюрьму, откуда ему удалось выбраться, благодаря его сообразительности. Сбежав по дороге (спрыгнув с поезда), П. П. Булыгин с трудом добрался до Вятки, где, находясь в полуобморочном состоянии, пересел уже на другой поезд. Доехав до Данилова, он около двух недель скрывался у знакомого крестьянина, который оказал ему необходимую медицинскую помощь. (У П. П. Булыгина от длительного отсутствия перевязок воспалилась нога.) А после своего частичного выздоровления, он конец июля – начало августа вновь проводит у родителей в селе Михайловском.
Окончательно подлечившись к сентябрю 1918 года, П. П. Булыгин приезжает в Петроград, где, встретившись с монархистами немецкой ориентации, предлагает им свои услуги по повтору попытки спасения Царской Семьи, не веря что Государь расстрелян. Но упомянутыми лицами было сказано: «Рано»…, после чего он решает самостоятельно пробираться на Украину. С этой целью П. П. Булыгин переходит советско-украинскую границу в районе хутора Михайловский и к концу этого же месяца вновь прибывает в Харакс, где принимает командование Отрядом Особого Назначения по охране Е. И. В. Государыни Вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны.
1 января он сдаёт командование своему заместителю и по поручению Вдовствующей Императрицы вместе с Есаулом А. А. Грамотиным едет в Екатеринодар, в Штаб Главного Командования Вооружённых Сил Юга России (ВСЮР), где получает проездные документы для поездки в Сибирь, в Ставку Верховного Правителя Адмирала А. В. Колчака, имея конечной целью выяснение судьбы Царской Семьи[192].
Из всего сказанного наглядно видно, какими же были на деле эти, с позволения сказать, «белогвардейские заговоры», с годами раздутые большевиками до размеров неимоверных…
А теперь, как было обещано, наступило самое время рассказать о тех самых «письмах Офицера», о которых уже неоднократно упоминалось ранее.
Из беседы с И. И. Родзинским 15 мая 1964 года:
«М. М. МЕДВЕДЕВ:
– Расскажите нам о расписке красными чернилами. В архиве перепутали, так сказать, подлинные вещи[193].
– А-а, которую я вел с Николаем переписку. Да, вот, кстати говоря, в архиве, несомненно, я думаю, что [есть этот] документ. [Но] я не знаю, где все это показывают: в Музее Революции, видимо. Там, видимо, есть два письма мною писанные на французском языке с подписью /иностранный язык/ – Русский офицер. Красными чернилами, как сейчас помню, [эти] два письма писали. [А] писали мы [потому что] так это решено было. Это было за несколько дней еще до этого… До, конечно, всех этих событий. На всякий случай, так решили… так затеять переписку такого порядка, что группа офицеров… Вот насчет того, что приближается освобождение, так что сориентировали, чтобы они были готовы к тому, чтобы так … и так далее. И они действительно так готовились по этим письмам.
Это, видите ли, тут преследовались две цели.
С одной стороны, чтобы документы о том, что готовились [к побегу], по тому времени надо было [иметь], потому что [иначе] черт те [что могло получиться] в [противном] случае[194]…
Для истории по тому времени, на какой-то отрезок, видимо, и нужно было доказательства того, что готовилось похищение. Ну, а сейчас что же толковать: действительно документы существуют.
Надо сказать, что никакого похищения не готовилось. Видимо, соответствующие круги были бы очень рады, если бы эти (Романовы – Ю. Ж.) оказались среди них. Но, видимо, занимались [они несколько] другим: не столько теми поисками царской фамилии,[195] сколько организацией контрреволюции.
Д. П. МОРОЗОВ:
– В более широких масштабах.
И. И. РОДЗИНСКИЙ:
– В более широких масштабах. И[х], видимо, меньше всего интересовала судьба [Их] там.
[И] если бы они оказались… Конечно, их бы использовали. Но, специально, видимо, так вопросами вызволения не занимались. Так нужно понять (понимать – Ю. Ж.), потому что мы ни одной организации, которая бы так стремилась выкрасть их, не встречали[196]. (…)
М. М. МЕДВЕДЕВ:
– Можно еще просто один вопрос о записке. Скажите, а имел отношение к этой записке Белобородов и Павел (Петр – Ю. Ж.) Лазаревич?
И. И. РОДЗИНСКИЙ:
– А-а, имел. Да это имел. Я забыл об этом сказать. Письма эти писались не то, чтобы я писал письма. Не так дело было. Так собирались мы обычно так: Белобородов, Войков и я. Я – от Уральской Областной ЧК. Причем Войков был продовольственным комиссаром областным. (…)
И. И. РОДЗИНСКИЙ:
– (…) Вот делалось как.
Вот решили, что надо такое-то письмо выпустить. Текст, составлялся тут же, придумывали текст с тем, чтобы вызвать их на ответы. Вот. И дальше, значит, Войков по-французски диктовал, а я писал, записывал. Так что почерк там мой, в этих документах. Вот и второй раз, по-моему, два письма тоже передавали через одного этого самого… во внутренней охране. Там две были линии охраны. Так вот этот стоял во внутренней [и] через одного товарища…[197] Там специально ему поручили, так он передавал»[198].
Так что же представляли собой эти письма?[199][200]
Но, прежде чем рассказать об их содержании, хотелось бы обратить внимание читателя на форму их написания, ибо все они имели одну общую особенность – текст каждого письма занимал лишь половину бумажного листа. Вторая же всегда оставалась чистой, чтобы в каждом из таковых иметь как само письмо, так и ответ на него. То есть под видом конспирации (письмо и ответ, якобы, сразу подлежали уничтожению), чекисты на деле имели «неопровержимые улики» существующего заговора.
И хотя впоследствии И. И. Родзинский будет утверждать, что переписка эта была затеяна для того, чтобы выяснить готовность Царской Семьи к побегу, это, разумеется, было не совсем так. Ибо в данном случае уральские чекисты, как говорится, сразу «убивали двух зайцев».
В случае «успеха», можно было «со спокойной совестью» пострелять всех Романовых при попытке к бегству. А в случае отказа с Их стороны бежать, заранее иметь на руках уже упомянутые «неопровержимые улики» существующего «монархического заговора», которые в дальнейшем всегда можно будет представить центральной власти в качестве документов, оправдывающих радикальные действия уральских властей в деле ликвидации Романовых.
Первое «письмо Офицера» было написано не позднее 20 июня 1918 года. В нём тот сообщал Царской Семье, что восставший Чехословацкий Корпус находится всего в 80 верстах от Екатеринбурга, а также предупреждал Романовых быть осторожными, «…потому что большевики, раньше, чем будут побеждены, представляют для Вас гибель реальную и серьезную». В этом же письме он просил Романовых нарисовать для него план занимаемых ими комнат (возможно, эта идея пришла на ум А. Г. Белобородову после имевшей место «истории с планом дома», доложенной ему ранее А. Д. Авдеевым), а также, чтобы все узники дома Ипатьева находились в состоянии постоянной готовности. Одному же из них рекомендовалось не спать каждую ночь от двух до трёх часов ночи. (Этой рекомендацией, безусловно, прощупывалась готовность Царской Семьи к побегу.)
Веря в чистоту помыслов и готовность пожертвовать собой за своего Государя оставшихся верными долгу и присяге русских патриотов, Романовы, что называется, «клюнули» на эту провокацию, дав ответ на это письмо между 20 и 22 июня. Его текст был написан карандашом, но, судя по неуверенности почерка, не вызывает сомнений, что таковой принадлежит руке Наследника Цесаревича. С большой долей вероятности можно также предположить, что этот ответ писался под диктовку Государыни, так как содержит весьма скудную информацию об общей обстановке (лишь о количестве окон и о том, что таковые заклеены), но зато, более чем подробно освещает состояние «маленького», то есть Наследника Цесаревича. А выражение материнской тревоги по поводу нежелательности каких-либо активных действий со стороны их «спасителей» без полной уверенности в успехе – лишнее тому подтверждение.
Второе «письмо Офицера» было написано не ранее 25 июня 1918 года (вероятнее всего, 23–24 июня) и содержало в себе заверения в том, что планируемое ими похищение Романовых – дело верное. А далее в нём давались рекомендации по расклейке одного из окон, а также выражалась «озабоченность» эвакуацией Наследника Цесаревича, которого даже рекомендовалось усыпить во время планируемого похищения, после чего ещё раз выражалась уверенность в успехе данного мероприятия. (Разумеется, это была дьявольская чекистская игра, имевшая целью форсировать нерешительность Романовых к побегу.)
Ответ Романовых на это письмо, написанный 25 июня 1918 года, наверное, обескуражил чекистов, явившись для них несомненной удачей. По его стилю сразу чувствовалось, что написано оно было кем-то из Дочерей под диктовку Государя – человека, весьма сведущего в военном деле. (Об этом факте можно судить по фразе: «… отец носит маленького…») Указав на открытые окна своей и комендантской комнат, описав расположение двух пулемётных постов (тогда ещё третий пулемёт не был установлен на чердаке дома), сменный и общий состав наружного и внутреннего караула, его вооружение и пр., а также на специфику несения ими службы и систему сигнализации, Государь также напомнил «заговорщикам», чтобы те не забыли о двух сложенных во дворе ящиках, в которых хранилась Его и Государыни личная переписка.
Зато «маленькому» здесь были посвящены всего лишь несколько строк. А ещё Государь (если исходить из нашей версии о том, что это письмо писалось под Его диктовку) сообщает, что доктор Е. С. Боткин «умоляет не думать о нем и о других людях», чтобы не создавать «заговорщикам» лишние трудности, предлагая рассчитывать на семь человек Его Семьи и женщину (А. С. Демидову).
В третьем письме, написанном не ранее 26 июня 1918 года, «Офицер» успокаивает Государя по поводу 50 человек охраны, находившихся в доме Попова, поясняя, что они не будут опасны, когда придёт время действовать. А далее он просит сообщить об отношении коменданта к узникам, «чтобы облегчить начало» (вероятнее всего, чтобы лишний раз «проверить на вшивость» А. Д. Авдеева), после чего предлагает с началом операции забаррикадировать мебелью дверь, а затем спуститься всем по верёвке в открытое окно, где их уже будут ждать. Спуск же этот был запланирован в определённой последовательности: Государь, Государыня, Наследник Цесаревич, Великие Княжны. Последним помещения ДОН должен был покинуть доктор Е. С. Боткин. (Всех же остальных слуг, согласно плану «заговорщиков», предполагалось на время отделить от Царской Семьи.) А кроме того, «Офицер» сообщал, что более детальный план побега Романовы получат «гораздо раньше воскресенья», то есть 30 июня…
Вероятнее всего, это письмо вызвало в Царской Семье разногласия. (А, может быть, Государыня почувствовала что-то неладное.) Возмущенная такой постановкой дела, Она вновь берёт дело переписки в Свои руки и в ответном послании наотрез отказывает «Офицеру» в деле добровольного следования советам заговорщиков. А после, в ультимативной форме ставит их в известность о том, что все Они – Романовы – могут быть похищены только силой, а посему не следует рассчитывать на какую-либо активную помощь с Их стороны. (Вероятнее всего, Государь, как сторонник побега, придерживался другой точки зрения, о чём вполне недвусмысленно говорит вычеркнутая по линейке фраза: «Откажитесь же от мысли похитить нас».) Как истинно православная христианка, Государыня не хочет спровоцировать неизбежных в таком случае жертв с обеих сторон, прямо говоря: «во имя Бога избегайте кровопролития». А помимо этого, Она считает «верёвочный вариант» эвакуации не совсем подходящим, уверяя, что без лестницы спуск невозможен. К тому же, как женщина рассудительная, Она призывает «заговорщиков» повременить с похищением, так как эту акцию всегда можно будет осуществить в случае реально возникшей опасности…
Как и следовало ожидать, это письмо окончательно убедило уральских чекистов в невозможности спровоцировать узников ДОН на побег. Обсуждая сложившуюся ситуацию, они берут, своего рода, тайм-аут, и своё следующее письмо пишут после уже 4 июля 1918 года, то есть после того времени, когда коменданта А. Д. Авдеева сменил Я. М. Юровский.
В этом послании они в последний раз предпринимают попытку склонить Романовых к побегу, мотивируя свои стремления тем, что «дни узурпаторов сочтены», а армии словаков все ближе и ближе приближаются к Екатеринбургу, находясь уже всего в нескольких верстах от города. (Эта дезинформация вполне могла возыметь успех, так как Царская Семья находилась в полном информационном вакууме, с некоторых пор не имея возможности читать даже советские газеты.) Уверяя, что «Д» (Князь В. А. Долгоруков») и «Т» (Граф И. Л. Татищев), которые их знают, уже спасены, они также пытаются успокоить Государыню тем, что «сейчас не надо бояться кровопролития», поскольку большевики в самый последний момент могут учинить над ними скорую расправу.
Причём в своём стремлении добиться своей цели, И. И. Родзинский под диктовку П. Л. Войкова пишет фразу следующего содержания:
«Мы – группа офицеров Русской Армии, которая не потеряла совесть долга перед Царем и Отечеством».
Однако будучи партийцем, И. И. Родзинский делает описку и вместо французского слова «Отечество» («Patria») пишет слово «Партия» («Partia»)…
До недавних пор было принято считать, что ответа на это «4-е письмо Офицера» не последовало, так как его не передали Романовым. Но это не соответствует действительности, что сумела доказать работник РГАСПИ, ныне доктор, а тогда ещё кандидат исторических наук, Л. А. Лыкова.
«Само письмо носит следы многократного складывания, – писала она, чтобы втиснуть его в маленький конвертик, умещавшийся без труда в ладони передатчика (размер конвертика, самого маленького из двух сохранившихся: длина 146 мм, высота 74 мм). На оставленном чистом обороте письма видны затертости от не совсем чистых пальцев. Письмо, бесспорно, было передано Романовым и возвращено обратно, но с чистым оборотом листа, предназначенным для ответа.
Мы не знаем, что помешало Романовым дать развернутый ответ, но ответ – всего одной французской фразой – был дан. На нижнем крае маленького конвертика чуть заметны карандашные буквы: “La surveillance sur nous augmente toujours surtout a cause obegn fenetre” (Наблюдение за нами постоянно увеличивается, особенно из-за окна.).
Это и есть ответ Романовых на четвертое письмо “офицера”, или чекистов»[201].
Как видно из сказанного, представляемая большевиками ситуация с «белогвардейскими заговорами» на деле не имела ничего общего с реальной действительностью, а зачастую лишь искусственно раздувалась сотрудниками УОЧК, примером чему может служить, так называемое, «дело Потресова».
Из книги Э. С. Радзинского:
«… однажды позвонил телефон и тихий старческий голос церемонно представился: “Владимир Сергеевич Потресов, провел 19 лет в лагерях”.
Вот что рассказал мне 82-летний Владимир Сергеевич.
“Мой отец до революции – член кадетской партии и сотрудник знаменитой газеты «Русское слово», известный театральный критик, писавший под псевдонимом Сергей Яблоновский…” (…)