Красный рок (сборник) Евсеев Борис
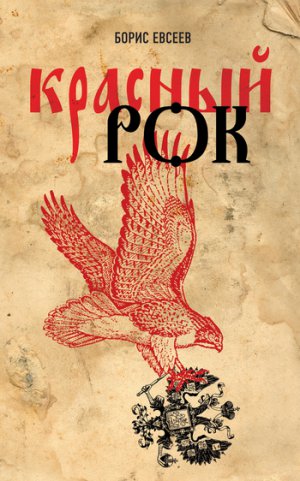
Красный рок
Юрию Викторовичу Пастернаку
1
Стоит терем-теремок, он не низок, не высок, из трубы летит дымок, из окошек льется рок…
2
В ночь со 2 на 3 января в гулких коридорах нежилого дома на Раушской набережной, как раз наискосок от Беклемишевской башни Кремля, в том месте, где когда-то был разбит Государев сад, а позже располагалась гостиница Хрулевой, раздался сухой треск, а вслед за ним влажно-нежное бульканье.
Охранник, дремавший на полуторном этаже, за стеклоперегородкой, тяжко заворочался, причмокнул во сне губами, заснул глубже.
Нежное бульканье на третьем перешло в журчание, затем еще раз треснуло и прерывистый мужской голос произнес:
– Фу, блин!.. Опять – лосины… И главное – где порвались? В самом неподходящем месте. А на балконе – холодрыга… Все на свете застудишь… Ладно уж, выползу на минутку…
Голос лопнул, разбрызнулся кашлем, раздались мерные шаги, коротко ругнулись на русском и на французском, и в доме, похожем снаружи на сказочный резной терем, а изнутри на унылую жилконтору, все окончательно стихло.
3
Подхорунжий Ходынин вставал-ложился поздно. А нынешней ночью – так и вовсе не спал.
Допекли, пиротехники чмуевы! Ворон и галок новогодняя пальба испугала не слишком: попривыкли. А вот один из кремлевских охотников, краснокрылый и красноштанный, с желтыми лапками и серебристо-белым хвостом пустынный канюк, после вечернего облета выделенного ему участка в Тайницкий сад не вернулся.
– За реку каня подался. Больше ему некуда…
Подхорунжий выбрался из служебной «конурки» на свет божий.
«Конурка» – комната 10 на 16 метров – располагалась здесь же, в подсобном помещении Московского Кремля, на полпути между Тайницкой и Беклемишевской башнями.
Ночных дежурств в этом месяце у подхорунжего не было, и он оставался в Кремле на ночь (что ему иногда с большим скрипом, но позволяли) просто так, лишь бы никуда не идти.
Кремль был его личной, неразрушимой, никем из врагов даже и на день не захваченной крепостью! Крепостью, которую он отбил и отвоевал когда-то у рекламщиков и торговцев и которую теперь осаждала одна только говорливо-беспокойная, в последние месяцы как-то особенно сильно надоедавшая глазу и уху Москва.
Но отвоевал, не отвоевал, а будущее Кремля, его чистота и сохранность – страшно подхорунжего в последние месяцы тревожили.
Вспоминая прожитый день и предвидя беспокойную ночь, Ходынин внезапно вздрогнул от чьих-то чужих, не предусмотренных ночными размышлениями слов.
– Украли Кремль, – заговорил кто-то внутри у него вкрадчивым, но вместе с тем и назидательным голосом, – умыкнули! Тазом медным Кремль твой, Ходыныч, накрылся!
– А чего это украли? – возражал вкрадчивому подхорунжий. – Ничего не украли. И тазом никаким Кремль не накрывался…
Выбравшись на чистый снежный участок, подхорунжий от радости рассмеялся: морозец забирал! Но возвращаться в «конурку», чтобы облачиться в положенную по уставу кремлевским сокольникам форму, не стал. В тапках на босу ногу, в синих, изрисованных мелкими красными сердечками гамашах – тоненькие гамаши на морозе сразу покрылись инеем – стал спускаться он к Тайницкому саду.
Тайницкий сад (расположенный, если смотреть на него с высоты, балалайкой) к западу сильно сужался. А на востоке был широк, буен!
Именно Тайницкий сад, а не дворцы и соборы подхорунжий считал сердцем Кремля.
Снежный сад звал, манил!
Но Ходынин в сад не пошел, свернул к Беклемишевской башне. По внутренней лестнице он поднялся до верхней ее трети и остановился отдышаться только близ узких, вертикально вытянутых машикулей.
«Бойницы косого боя» – машикули – были давным-давно заделаны кирпичом: воевать «отвесно» было не с кем. Однако во время одной из ночных прогулок подхорунжий несколько кирпичей из такой бойницы «косого боя» вынул. И сейчас, через неширокое пространство, стал смотреть вниз: на зубцы кремлевской стены, на лед Москвы-реки…
Ни на стене, ни на льду ничего завлекательного не обнаружилось.
Тогда подхорунжий преодолел еще один лестничный пролет и уже через не заложенные кирпичом бойницы «прямого боя» глянул на Замоскворечье.
Над Замоскворечьем плыли низкие облака. А там, где их не было, царила пустота ночи.
Вдруг из облака в ночную пустоту выпрыгнул месяц. Как тот деревенский дурень, стал он поигрывать блескучей и острой своей игрушкой: серпом!
Мир под лучами серпа стал стереоскопичней, объемней.
За рекой резко блеснуло.
Ходынин повел справа налево крупной, чуть сильней, чем нужно, вжатой в плечи головой.
Если бы кто-нибудь в те минуты проследил за поворотом головы подхорунжего, то, конечно, тотчас вспомнил бы карточного валета червей. Ну, а печалью глаз – и в ту ночь, и во все другие дни и ночи – напоминал Ходынин опального поэта Лермонтова.
Снова блеснуло. И уже не лунным, каким-то другим светом.
Подхорунжий подступил к бойницам вплотную.
– На камеру, хорьки, снимают, – определил он сразу, – знают, четвероногие, что запрещено!.. А снимают.
Подхорунжий быстро спустился по башенным ступеням вниз и припустил в свою «каморку». Возвратившись с очками ночного видения – современным прибором, со встроенным инфракрасным осветителем и малыми наушничками для прослушивания разговоров на расстоянии, – он еще раз, и пока невооруженным глазом, глянул за реку.
Блеск не повторился.
– А вот мы счас вас прибором, приборчиком!
Утвердив и закрепив специальными ремешками прибор на темечке, подхорунжий не спеша перевел ночные очки, похожие на маленький узко-плоский бинокль, из вертикального положения в горизонтальное, приладил к глазам.
Но тут же и переместил очки назад, в вертикальное положение.
Постояв несколько секунд в задумчивости, он вернул очки ночного видения на место.
Сомнений быть не могло!
Наискосок от Кремля, на угловом чугунном балконе старинного четырехэтажного дома, стоял Наполеон Бонапарт. С раздвижной подзорной трубой, в белых трениках, в лихо нахлобученной на лоб треуголке…
В этот момент Наполеон как раз совал подзорную трубу под мышку.
«Потому-то и блеск исчез!»
Внезапно Наполеон поднял трубу снова. Подхорунжему даже показалось: лучи их взглядов в пространстве встретились, друг о друга со всего размаху стукнулись, разбились, осыпались на лед стеклянным крошевом…
– Ишь, гад… Зазирает! – захлебнулся кислой слюной подхорунжий и полез в карман за мобилкой. Но сразу и обмяк.
«Чего это я? Сейчас только про призрак Наполеона наверх сообщать осталось! Мало им своей мороки?»
Ходынин сплющил веки, глубоко вздохнул, однако чуть погодя нехотя разлепил веки вновь.
Наполеон, как видно, собрался с балкона уходить.
Он повернулся к зубцам кремлевской стены спиной и почесал раздавшийся вширь, как у пятидесятилетней бабы, зад. Почесываясь, Наполеон произнес несколько с трудом уловленных прибором слов:
– И чего ты там увидал? Ни ответа, ни привета… Пусто! Кэс ке ву пувэ рекомэндэ?..
Подхорунжий рассмеялся.
– Маскарад же… Маскарад новогодний. Вот это что такое!
Призраков Ходынин старался не замечать, разговоров о них избегал. Ну, а негодяйский маскарад, затеянный на виду у соборов и башен, ну, а наглое «явление Наполеона Кремлю» и возможное повторение таких «явлений» нужно было пресечь в корне: прямо на месте происшествия отбив охоту к дальнейшим выходам на балкон с подзорной трубой.
4
Витя Пигусов на балконе замерз, затосковал и засобирался прочь.
Третий день подряд в костюме Наполеона Бонапарта развлекал он разную – и вполне пристойную, и грубовато-вульгарную – публику.
Осточертело!
Покидая резной чугунный балкон, Витя прокрался мимо лужицы десять минут назад выбулькнувшего на пол ликера, мимо ликерной бутылки, брошенной рядом с ужицей, мимо храпящего во всю сопатку охранника…
И вниз, вниз, в хорошо ему известную рок-харчевню!
В доме на Раушской Витя Пигусов – чудец, игрец, веселый молодец – когда-то отчаянно, хоть и недолго, трудился: вел театральную студию. Знал выходы, входы. Потому-то нынешней ночью сюда через черный вход и пробрался. (А по правде сказать, – просто спрятался от доставучих вопросов: «зачем сжег Москву»? и – «какой он на вкус, вороний супец»?)
Ну, а пробравшись в дом, не покрасоваться на балконе, с которого Наполеон и действительно (и этот исторический факт был Вите доподлинно известен) смотрел на выхватываемый вспышками больших и малых пожаров Кремль, конечно, не мог!
Уже на пороге харчевни чудец, игрец, веселый молодец вдруг сообразил: если ввалиться в таком виде – снова терзать, снова мучить станут! Поэтому, поворотив от рок-харчевни резко в сторону, Витя вдоль нежилых и, ясное дело, пустых в этот час домов кинулся в один из ближайших переулков: за привычным шмотьем, за нормальной одежкой…
5
Переодевшись в гражданское, подхорунжий Ходынин вышел через служебный вход в восточной части зубчатой, прекрасной и днем, и ночью кремлевской стены, двинулся к Большому Москворецкому мосту.
На мосту никто ему в этот час – все-таки полтретьего ночи – не встретился. Только какой-то пьяный, словно в состоянии невесомости, двигался в ту же, что и подхорунжий, сторону: в Замоскворечье.
Подхорунжий шел и думал о Наполеоне. Даже скорей не думал, а просто сравнивал внешность Бонапарта и свою собственную.
А внешность подхорунжий имел примечательную! Крупная, слегка вдавленная в плечи башка и всегдашняя казачья папаха на ней. Кругло-овальное, с чуть выпускаемыми наружу усиками, лицо. Высоко поднятые, как у циркового атлета, квадратные плечи. Мощный торс. Но при этом – коротковатые, выкривленные веками казачьих войн и набегов ноги. Походка – подволакивающая. Голос сиплый, армейский. Но не злобный, а скорей – сожалеющий. В общем, приятный кофейный голос.
Судьба подхорунжего была под стать внешности: в иных местах была она выдающейся, а в иных – так себе.
Главным в своей судьбе Ходынин полагал одно небезынтересное обстоятельство: несколько лет назад он был разжалован из подполковников в подхорунжие.
Разжалован самим собой: резко, безжалостно, некрасиво…
А до этого рок и судьбина были к подхорунжему милостивы!
Правда, молоточки любви и беспорочной службы поударяли всласть и его: как ту выкривленную железку, которую в кузнице над горном переворачивают то так, то эдак, а потом дают железке остыть, потом накаляют снова и снова, и повертывают во все стороны, и плющат, и выравнивают, и выкривляют, чтобы после всех – с виду очень и очень значительных – манипуляций приварить железку намертво к самому низу ржавой тюремной решетки…
Отец подхорунжего был из профессоров, дед – из красноказаков, бабка из белоказачек, мать – из консерваторской, московской, богатой, но, как выяснилось, непрочной семьи.
Кроме того, в послужном списке подполковника числились: четыре года службы в Народной Демократической Республике Йемен, четыре – в Средней Азии, под Бишкеком, два – в Ленинградской области и год – на Курилах.
Потом – внезапная отставка. Вслед за отставкой – саморазжалование в подхорунжие.
Про это саморазжалование однажды женившийся, но быстро расставшийся с супругой подполковник говорил знакомым дамам всегда одно и то же:
– Терпец мой кончился. Тошно и горько мне стало! Выбыл я из подполковников навсегда. Уж лучше подхорунжим быть. Оно и спросу меньше… Да и правящую партию покинуть никто не помешает!
Ну и напоследок, в конце разговора, он всегда туманно добавлял то ли про свою, то ли про чью-то чужую судьбу: «Рок виноватого ищет? Рок виноватую голову – найдет!»
В звании подхорунжего на службу в Московский Кремль Ходынин поступить и попытался. Но там такого самоуничижения не приняли, подтвердили подполковничье звание, назначили старшим над сокольниками, выдали схожую с полицейско-милицейской форму…
Кремль давно осаждали вороны, галки, грачи и пернатые помельче.
Птицы гадили на Царь-пушку, обливали пометом Царь-колокол. Но главное – это в основном делали вороны – долбили клювами и царапали когтями купола кремлевских соборов.
Золото соборов обновили еще в 70-х, при Брежневе. С тех пор спасу от ворон и галок в Кремле и не стало.
Крепость Кремля оказалась под угрозой!
В те же примерно годы произошел вовсе не смешной, а скорей драматический случай.
Наглая какая-то галка крупно наделала одному из приглашенных в Кремль священнослужителей (к счастью, священнослужителю не главной, хотя очень и очень уважаемой конфессии) прямо на бело-золотой головной убор. Галка наделала так черно и так густо, что у многих, за этим безобразием наблюдавших, вспыхнули неподконтрольные мысли не только о чистоте одежд, но даже и о самой чистоте помыслов священнослужителя одной из важнейших для России конфессий!
С «говнизмом» решили покончить раз и навсегда.
Завели ястребков. Позже к ястребкам добавили канюков и балобанов.
Ястребков было немного. Всего четыре. Канюков и балобанов – по одному. Но ведь пернатых хищников требовалось содержать, требовалось воспитывать!
Для правильного воспитания – а ястребки все время норовили продолбить друг другу голову – соколятников и завели.
Двенадцать лет назад, после нелепой смерти прежнего ястребиного начальника, подполковника-подхорунжего, этими ястребками, а также воспитателями-соколятниками командовать и поставили.
И Ходынин не подкачал! Сделал все как надо. Организовал – ни больше ни меньше – школу птиц. Школой этой наверху тайно гордились, и подхорунжий даже заказал для нее краткую, но выразительную вывеску:
«Школа птиц подхорунжего Ходынина»
Вывеска эта нигде не висела. Во всем своем блеске стояла она на столе, в «каморке» у подхорунжего. Крепко стояла и значимо!
Само дело обучения птиц подхорунжий тоже поставил круто, занимался им яро.
Ястребы и балобаны так кинулись на ворон – пух и перья посыпались!
Но случались, конечно, в воспитании птиц и недочеты, были промахи и потери.
Некоторые из ястребков оказались хуже ворон.
Уже с утра они начинали кричать жалобными, неуместными в Кремле голосами. Просили пищи, требовали – теперь им ненужной – свободы. А один из канюков – по-научному сокол Харриса – тот даже плакал навзрыд.
Плача и стеная, ястребы и балобаны (но не канюки!) продолжали предаваться нехарактерному для других пернатых смертному греху: каннибализму. То есть, попросту говоря, все время пытались друг друга сожрать: без остатка, с когтями и перьями!
Для устранения этих и других – прозреваемых в будущем – недочетов «Школа птиц подхорунжего Ходынина» свою деятельность и осуществляла, и совершенствовала.
6
Рок-кабачок в подвале на Раушской дымился и пел.
В глубоких, таинственных нишах кабачка (один только Витя Пигусов называл почтенное рок-заведение харчевней, а иногда – харч-роком!) дым стоял синими пирамидками. Интересно было то, что пирамидки дыма – в отличие от пирамид вещественных, настоящих – стояли и висели остриями вниз.
Трещали и помигивали елочные гирлянды. Спотыкаясь, молитвенно закатывали глаза официантки. Из «музыкального зала», проникая сквозь створки дубовых дверей, доносилась размеренная барабанная дробь.
В общем зале, облокотясь о стойку, лениво перепихивались словами два мужика:
– В голову бы себе он так стукал!
– А я барабанчики люблю. Послушаешь – и радостно: на войну тянет!
– И «кельты» эти самые… Чего в них, я спрашиваю, хорошего?
– А мне «кельты» нравятся. Арфа синяя, песенки дикие… Как заведут свое – и к Пугачихе не захочешь!
– Да ты всмотрись внимательней! Арфа-то у них – кладбищенская. На памятниках такие высекают. И песенки еще те: с погоста!
– Не скажи. Как быструю грянут – так подымай девчонки юбчонки!
– Ты вот чего мне лчше ответь: когда мы из этой норы на свет божий выползем?
– А тогда и выползем, когда Новый год до Старого добежит… К стакану зовите Русь! Усек?
– Ладно, еще по одной и – в музыкальный зал. Разомнем кости, братка…
Витя Пигусов, прикрывая полой расстегнутого пальто треснувшие в неподходящем месте лосины, – своих собственных штанов там, где переодевался, Витя так и не нашел – гадливо мужиков обошел, двинул в музыкальный зал.
По дороге его остановил жидкобородый актер из вновь организованной и, по слухам, очень богатой антрепризы.
– Салют, Наполеоненко! Как сам? Все Ваньку на корпоративах ломаешь?.. Да ты не боись, я в «Щуку» стучать не стану! Я ведь сам теперь, помимо антрепризы, дискотеки кручу!
Входя в зал, Витя со зла громыхнул дубовой дверью. А громыхнув, еще раз подивился невиданной крепости, глухой и немой толщине старомосковских стен.
«Тут не Наполеон с подзорной трубой – тут Мамай нужен! Или лучше этот, как его… папаша Ивана Грозного… Василий Третий», – нехорошо подумал про Москву Витя, и на невысоком помосте запели по-английски.
«Нет, лучше все-таки сжечь», – решил Пигусов окончательно и сел за пустой столик.
Голова – пылала. Недовольство последних дней перекинулось со старой Москвы и правительственных кругов на английский язык. Витя скинул пальто на пол и вылил полбутылки «Шишкиного леса» прямо себе на темечко.
Стало легче: голова, как тот сунутый в воду факел, задымилась и, зашипев, приятно угасла…
Витя вздрагивал за столом. Одна рок-группа сменяла другую.
Ночь уходила куда-то к хренам собачьим: по Старой Смоленской дороге в сторону далекой Франции или еще более отдаленных Ирландии и Шотландии!
Вскоре на помосте не осталось никого: только контрабас, выкрашенный в бело-больничные тона, и громадный турецкий тулумбас с надписью: «Хари».
«Верно, – с горечью думал Витя, – куда ни глянь, – одни только хари вокруг!.. Ну всё, всё… Хватит смотреть по сторонам, хватит дурака валять, пора за ум взяться…»
Выходя в туалет, Пигусов столкнулся с мужиком в казачьей папахе. Мужик как раз папаху снимал, прятал в рукав пальто. Вите тоже захотелось щегольнуть головным убором, и он полез к себе за пазуху за уложенной там, в специальный нагрудный кисет, наполеоновской треуголкой. Однако, вглядевшись в мужика внимательней, сообразил: «Свой брат, актеришко! Перед таким хоть шапку Мономаха на голову напяль – бровью не поведет».
После секундных колебаний Витя мужику подмигнул, а треуголку доставать не стал.
Мужик подмигиванья не заметил. Во все глаза он глядел на сцену, куда только что снова вышли «кельты».
Девушка в длинном с цветами платье села на стул, установила меж колен синюю ручную арфу и сразу же, застыдившись, развернулась к публике боком. Дудочник с жестяной дудкой, похожей на маленькую, красиво загнутую на конце водопроводную трубу, и перкашист, с красными барабанными палочками, по очереди вожделенно на девушку глянули и, помотав головами, начали играть…
7
Новый год миновал. Святки не начинались. Пить не хотелось. Шорох крыл пустынного канюка затерялся где-то в Замоскворечье…
Десять минут назад подхорунжего Ходынина поочередно посетили душевное томление и смертельная скука.
Жизнь проносили мимо рта! Как лучшее блюдо на банкете – дальше, дальше, к счастливчикам и любимцам… Жизнь оставалась не распробованной на вкус, до конца не познанной.
Неуследимые взмахи крыл и тончайший запах птичьего помета, сонные арабы и прыткие евреи, армия и народ, и наоборот, народ и армия, политические партии и думские трибуны, кормящиеся за счет чернимой власти, жирные, с усиками метрдотелей бычки-оппозиционеры, возомнившие себя телеведущими, придурковатые военные с заячьими губками и такими же заячьими сердцами – все надоело, обрыдло…
Десять минут назад, потоптавшись под угловым чугунным балконом и не зная, где искать Бонапарта, подхорунжий вошел под арку, ткнулся в дверь кабачка.
Музыка в кабачке неожиданно Ходынину понравилась. Внутри стало свободней: сжавшиеся было сосуды головного мозга расширились, горизонты ума раздвинулись.
Музыка не была стадионной, крикливой. Некоммерческий рок ласково грубиянил, сладко шлепал по щекам, говорил отстраненными словами, осыпал пригоршнями колких ритмов.
Когда музыка кончилась, умолкла кельтская арфа (так ее назвал распорядитель вечера) и девушка в длинном платье, эту арфу обнимавшая, ушла, уведя за собой перкашиста, нелепого дудочника и двух парней с акустическими гитарами – Ходынин сразу стал ушедшую музыку вспоминать…
Вспоминая, он прозевал момент, когда в опустевший зал – покинутый и музыкантами, и почти всеми ночными посетителями – вошли парень с девушкой.
Может, Ходынин и совсем бы их не заметил, если бы парень не крикнул:
– … а вот, увидишь, как она у меня сейчас взлетит!
Бережно скинув с плеча рюкзак, парень достал оттуда мешок, а из мешка на дубовый некрытый стол вытряхнул птицу.
– Тут, рядом подобрал! – продолжал возбужденно объяснять парень девушке. – Она в решетку на первом этаже вцепилась… висит, дрожит. А я ее – р-раз! – и в мешок. Ух, и летает, наверно! – восторженно обратился пришедший к Вите Пигусову.
Витя сейчас же упрятал пухлое наполеоновское личико в такие же пухлые ладошки.
– Ух, и летает… Ну, лети, птица!
Великолепный пустынный канюк, которого Ходынин два месяца назад приобрел за свои кровные на «Русском соколином дворе» – ездил на этот «Двор» куда-то к черту на кулички, за МКАД, расправил крылья и зашипел. Однако взлетать не стал.
«К хорошим манерам приучен», – с уважением подумал подхорунжий и от гордости прикрыл веки. Когда он их раскрыл – картинка сменилась.
Не зная, как заставить канюка взлететь, парень запечалился, сел на стул и, заглядывая птице в глаза, стал упрашивать:
– Ну, давай, кречетуха, давай! И Сима тебя просит, и Олежка!
«Не смотри птице в глаза!» – хотел предупредить Ходынин Олежку. Но не успел.
Великолепный канюк, канюк засадный, канюк краснокрылый и красноштанный, слегка отвел голову назад, сделав три шажка по столу, легко вспорхнул и долбанул клювом Олежку прямо в лоб. Чуть повисев в воздухе, канюк снова мягко встал на лапки и весело едва ли не насквозь проклюнул зацепленный гаком за стол палец обидчика.
Олежка взвыл, а канюк отлетел в угол зала и спокойно уселся на подвесную музыкальную колонку.
– Клюнул – и молоток, клюнул – и правильно! – обрадовалась девчонка.
Олежка заныл, заскулил.
– А еще кречетуха, – обиде его не было конца, – а еще друг человека…
– Птица человеку – ни друг, ни враг. Птица – сама по себе, человек – сам по себе. И не кречет это. Пустынный канюк. По-научному – сокол Харриса. Ему нельзя в глаза заглядывать. Канюк воспринимает взгляд как агрессию. Ну, он ведь и не баба, и не четвероногое…
Канюк вверху, на колонке, в знак согласия чуть опустил расправленные крылья.
– Видишь? В засаде он. Но интонацию мою распознает точно: ты мне (а значит, и ему) не понравился, – грубовато закончил Ходынин.
– Надо поймать канючка, а то он на Олежку еще раз кинется, – зазывно попросила Сима.
– Не кинется. Засадная птица – умная птица.
Ходынин издал легкий свист, и канюк окончательно сложил крылья.
Ходынин свист повторил и вытянул руку. Канюк спикировал на руку, уселся на ней поудобней и в знак любви и покорности склонил головку набок.
Ходынин вынул из кармана синий бархатный колпачок и бережно надел птице на голову. Канюк спрыгнул с руки на стол и улегся – грудка вверх, голова набок – как убитый.
– Ух, блин! – забыв про боль, высокий, молодой, но сильно уже облысевший, с остатками взбитых «химией» волос по бокам и за темечком (отчего казалось, за темечко зацепился небольшой венок из вялых коричневых водорослей), не слишком толстый, но с яйцевидным животиком. Олежка обежал, чуть прихрамывая, вокруг стола, застыл перед Ходыниным…
Познакомились. Приняли на грудь. Парень оказался интернет-провайдером Шерстневым. (Первоначальное ходынинске впечатление об Олежке быстро затуманилось, рассеялось.)
Девчонка по паспорту звалась Симметрия, а так – Сима.
Прощаясь, Олежка сказал:
– Музыка здесь – неровная. То свежак, то попсятина. Но ты приходи, они программу часто меняют. – Шерстнев осторожно потрогал здоровым пальцем птичий колпачок. – И птицу свою дрессированную приноси. Просто так, поглядеть…
8
Подхорунжий к Олежке прислушался и поздними вечерами, стараясь не пропускать ни одного рок-концерта, стал в кабачок захаживать. Поначалу – морщился, но потом к новой музыке попривык, стал подпевать и пристукивать в такт.
Особенно нравились подхорунжему музыканты питерского и московского рок-подполья (так они сами себя называли.) Музыка их действительно была новой. Она цепляла глубоко спрятанные струны, оголяла скрытые нервы, но не била по ним – бережно перебирала. А главное, музыка эта не была дьявольской или обезьяньей – была человеческой!
«Не для рёхнутых фанатов, не для площадей громадных сочиняли… Для таких вот кабачков, для гостиных даже», – заставлял себя любить новую музыку все больше и сильней подхорунжий Ходынин.
Он стал напевать прилюдно. Иногда пел во весь голос.
Увлечение подполковника музыкой – и в особенности подпольным роком – те, кому следовало, заметили. И оценили по-своему: как неуместную блажь.
К этой оценке добавилась другая: охранно-профилактические полеты в Кремле проходят в последнее время вяло, контрпродуктивно!
И верно! Вороны, собравшись в стаи, сильно трепали ястребков. Те все норовили сожрать друг друга. Ну и, наконец, «Школа птиц подхорунжего Ходынина» продолжала пугать туристов далеким, едва слышимым – чаще вечерним, но иногда и утренним – плачем необученных птенцов.
Так думали наверху. А вот сам подхорунжий думал и чувствовал по-другому…
Пустынный канюк продолжал радовать Ходынина!
В отличие от кремлевских ястребов, за галками, воронами и ласточками, с которыми, кстати, он в скорости тягаться не мог, канюк очертя голову не кидался.
Красно-пустынный, серогрудый, он прятался меж зубцов кремлевской стены, с зубцами этими почти сливался, был незаметен, тих. И внезапно, как маленький красный смерч, налетал на гадящих, клюющих, царапающих пернатых!
Словом, канюк, или сокол Харриса, вел себя по-современному: ловко, умно.
Ходынин даже стал подумывать о том, чтобы вместо двух бойких, но дураковатых ястребов завести еще одного канюка – может, даже самочку.
А вскоре к радости от наблюдения за канюком прибавилась радость другая, необъяснимая: русско-кельтская!
Возникнув совсем недавно, эта радость по своему стремительному разрастанию и ласковому захвату внутренних ходынинских территорий обещала затмить и радость, получаемую от «Школы птиц», и радость, получаемую от засадного канюка.
9
До Святок и почти на всем их протяжении подхорунжий прослушал в рок-кабачке едва ли не полтора десятка групп.
Ублажили канадцы. То есть музыканты, придерживающиеся стиля кэнэдиан-рок.
Они вкрапляли в английские тексты французские словечки, и это Ходынину о чем-то приятно напоминало. Эмигрантские жестянки и не слишком-то ритмичные младенческие погремушки, словно воспоминания о давным-давно покинутой Европе, сопровождали канадцев постоянно. Музыка их, однако, не раздражала – «колыбелила». (Так однажды признался себе Ходынин и потом уже от собственного неуклюжего словечка отказываться не стал.)
Со вниманием был им прослушан и этно-рок бретонцев: с чуть навязчивыми танцами, с бесконечными волынками, с непривычными пунктирными ритмами и старинными мелодическими оборотами.
А потом настал черед русского рока. Русский рок, конечно, смешивали с американским и афро-роком, но в умеренных дозах.
Здесь подхорунжий быстро приноровился и незнакомой музыки больше не дичился: поздними вечерами (иногда – долгими ночами), составив в ряд четыре дубовых стула, он ложился у дальней стены кабачка на спину и, мысленно повторяя причудливые извивы отечественного рока, утопал в мечтах.
Сквозь сон и мечты им впервые была услышана и оценена группа «Хранящие молчание» («The Keep Silence Band».)
Подхорунжему сразу же понравились их трепетно-тревожные рок-н-рольные пробежки. Пробежки делались «кипсиленовцами» в сторону незабвенных 60-х, с полным набором деталей, звуков и шелестов тех лет: с крутежкой виниловых пластинок, с антивьетнамскими протестами, с песнями геологов, электрическим хрипом звукоснимателей и другим приятнейшим отечественным и зараубежным хламом.






