Красный рок (сборник) Евсеев Борис
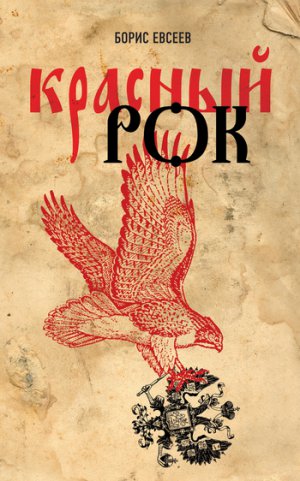
Впрочем, чувство властности и «высокости» скоро улетучивалось. И Ходынин с охотой возвращался к простым своим обязанностям: к обучению птиц, к отпугиванию галок и сов, к изготовлению необходимых для выучки ястребов птичьих чучел, к подготовке подсадных ворон, к вслушиванию в русский рок, к ожиданию встречи с «кельтской» девушкой…
Боль и тревога от падения на ступени Беклемишевской башни постепенно проходила. Боли и тревоги душевные – нет.
Кое-как доволокшись до своей «каморки», подхорунжий решил больше на Небо не взбираться.
21
Однако сразу прекратить посещения Тайницкого Небесного Сада подхорунжий Ходынин не смог.
Дело было вот в чем: все было в том Саду превосходно! Все бы, наверное, постепенно прояснилось, сделалось близким, своим. Ко всему, даже к карканью мирового ворона, можно бы притерпеться! Но…
Все было превосходно! Только Господь Бог в Небесный Тайницкий Сад никогда не заглядывал.
Подхорунжий и парады на небесах устраивал, и расширенные партийные заседания-спектакли (забыв о давнем обещании никогда к политическим партиям даже на пушечный выстрел не приближаться!) в новом формате проводил. На велотреках, на плоскостях наклонных сидели сотни и сотни бывших однопартийцев: «Всем хорошо, всех видно, но и каждый местом своим дорожит, боится на собственной заднице вниз по кривой съехать!»
В небесных спорткомплексах, у тихих фонтанов, среди невиданно мягких и сплошь розовых кустарников мысленно помещал он славных шимпанзе и туповатых павианов, начальников департаментов и директоров воскресных школ, лошадей и смиренных ишачков, взятых на Небо за тесное и безропотное сотрудничество с человеком…
Все вместе ожидали они явления Божия: «Вот, Господи, погляди на нас, смиренных, ничуть за время жизни на Земле не одичавших…»
Впустую! Господь не являлся.
Зато прорвался однажды в Сад некий наглый субьект: Сатанаил Вельзевулович Чортишвиль.
Одетый с иголочки, с выпуклостями на лысостриженной голове, присыпанной летучим тальком, Чортишвиль представился и, потрогав усы-стрелочки, словно бы между прочим, на чистом русском языке попросил:
– А позвольте прикурить, господин военный казак!
– Не курю. И не казак я, – отрезал Ходынин.
– Вы б еще спели: «Теперь я турок, не казак!» А ведь знаете прекрасно: туркам сюда дорога заказана!
– Это еще почему?
– По кочану. Сразу видно: в национальном вопросе – вы ни бум-бум. То есть ничуть не волокете. Да и в церковных вопросах тоже, видать, не слишком…
– Не вам меня учить, – рассердился подхорунжий, – вон сколько херувимов и серафимов вокруг. Их буду слушать! Вы, вообще, кто? Черт?
– Ну, какие теперь черти, любезный! Были черти – да кончились. Несовременно, знаете ли, чертом быть. Теперь любой мутант – страшнее черта. И главное – понятней. Так что никому сейчас черти не страшны и не нужны. Лучше уж я для вас грузином или египтянином буду…
– Что грузин, что египтянин – один черт. Не мути, мутило! Сгинь отсюда!
– Ну, насчет сгинь, – это погодить придется… Вы вот что мне лучше ответьте: где они, ваши ангелы и херувимы? Где, я вас спрашиваю, охранное воинство? Куда подевалось? Вы стишок образца 1906 года помните? А вот он:
- Дух свободы… К перестройке
- Вся страна стремится!
- Полицейский в грязной Мойке
- Хочет утопиться.
- Не топись, охранный воин, —
- Воля улыбнется!
- Полицейский! Будь покоен —
- Старый гнет вернется…
– Так там про Питер говорится, а тут – сад московский!
– Да вы повнимательней гляньте… Гляньте, как тут у нас с нетерпением старого гнета ждут!
Ходынин глянул на окрестности и душою умер.
Ни ангела! Ни херувимчика водоплавающего! Ни лесов, ни водопадов… Даже чертей – и тех не видно. Одна полиция и канувшая в прошлое милиция. А вокруг них – собачьи зайцы и обезьяны саблезубые. Да еще вперемежку с облаченными в новенькую форму полицаями неодетые дамы. Дамы в крокодильи головы по плечи вбиты, шевелят, чем не надо, бесстыдно!
А тут еще выскочила и поперед крокодилистых, и поперед мили-пили – алая свинья. (То ли от природы, то ли для назидания выкрашенная в цвет, для копытных нехарактерный.)
Свинья стала носиться туда-сюда и рехать.
– Рёх-рёх-рёх, – ревела алая!
– Ух-ты-бля! – отвечали ей мили-пили.
Реханья алой свинье показалось мало, и она стала рыть носом небесную твердь. Рыла, даже несмотря на то, что сквозь верхнюю губу ее было продето толстое сверкающее железное кольцо…
Мигом свиньей была вырыта яма. Не глубокая, но обширная.
Гонимые алой свиньей крокодилистые дамы трусцой к этой яме и двинулись.
А тем временем комья земли – теперь уже сами по себе – стали лететь сильней и сильней, яма делалась глубже и глубже…
Тут на алую свинью вскочил верхом некий охранный воин.
Ходынин от неожиданности резко вздрогнул.
«Рокош? Старлей? Откуда он здесь, сволочь?!»
Смешение пород Ходынина ужаснуло. Алая (а местами грязно-розовая) свинья и всадник на ее спине довели до исступления.
Тихо дрожа, полез он к себе под мышку, за травматическим пистолетом.
Пистолет был прихвачен в Небесный Тайницкий Сад случайно.
Когда-то давно удалось под шумок пронести в Московский Кремль короткорылый бесшумный пугач. С тех пор подхорунжий травматику эту с собой и таскал. Не для пальбы, конечно, а так, на всяк про всяк…
– … И пукалку свою можете в ж/ж себе засунуть. Иначе доложу кому следует, и вас сюда на воздушном лифте ни по какому членскому билету больше не пустят!.. Кстати, полудамочки и полузверушки, что вас испугали… Так это как раз те, кто не осознал национального вопроса!
– И свинья алая? Она тоже не осознала?
– Свинья-то как раз осознала. Но с ней – другой грех… Да не желаете ли с ней поближе познакомиться? Умная такая свинья, интеллигентная… Может даже, спариться пожелаете? Будут бегать маленькие Ходынчики, ласково хрюкать: рех-рех-рех, рех-рех! Ну а сама свинья будет, конечно, рёхать медленно, важно. А там, глядь, и частушку на завалинке под одобрение слушателей запоет: Полюби меня свиньей/ Полюби навечно!/Очень крепко полюби/ И очень человечно…
Подхорунжий отчаянно помотал головой и вторично полез за травматикой.
Тут Чортишвиль, понимая, что перегнул палку, сказал примирительно:
– Про спариванье – это я так, в шутку. А вот не желаете ли со мной в подпольное казино смотаться? Тут совсем рядом…
– Нечего мне в казине твоем делать, – коверкая нежное иностранное слово, отрезал подхорунжий.
– Ну как знаете. Игра там жестокая, но решительная. То есть все трудности в один миг решить можно. Не пожалели бы после. Только бабло побеждает зло! Только оно, только оно!
– Сгинь, враг! Порешу!
Чортишвиль намотал на руку длинный полосатый галстук, завился винтом, скрыл себя в дебрях дикого леса. Но вскоре вернулся и, усевшись прямо против Ходынина, пожаловался:
– Устал что-то с вами. И голова разболелась.
Он выдернул из воздуха и водрузил на пудреную свою головку китайский прибор для улучшения мозговой деятельности, называемый «мурашка».
«Мурашка» торчала из темечка, как стальной рог, и сильно смешила Ходынина. Вдруг «мурашка» на голове у Чортишвиля сама собой задвигалась. Вельзевулычу враз полегчало, мозговая деятельность улучшилась, и он поманил Ходынина еще раз:
– Может… того? А? Без всякой нудятины, без раздумий? Разок – на черное? То есть я хотел сказать: на судьбу свою не желаете ли однократно поставить? Или судьба ваша – красная? Так вы не затрудняйтесь признаться. Здесь – можно. На красное – так на красное. Угадаете цвет – сказочная судьба ждет вас! Какие там Путин с Абрамовичем – неслыханные удовольствия иметь будете. И очень, очень длительное время. Русским Мафусаилом станете. Ну, идет?
– Я те Горбачев какой-нибудь? – окончательно рассвирепел Ходынин.
И в самом-то деле! Не для того подхорунжий устраивал Небесный Кремль, чтобы какой-нибудь Чортишвиль по нему свободно шлялся! И не для того, чтобы выслушивать белиберду про Путина с Абрамовичем.
Изловчась, Ходынин из травматического пистолета, предназначенного для надоедливых кремлевских галок, дважды пальнул вверх и один раз в грудь Чортишвилю…
Чортишвиль провалился, исчез.
(То есть надо понимать так: был Чортишвиль подхорунжим из Небесного Сада на какой-то определенный срок низвергнут. За что подхорунжему – отдельное спасибо!)
Ходынин же, назвав себя за беспечность олухом царя небесного, продолжил ожидание явления Божия.
И один раз нечто схожее с таким явлением произошло!
22
Случилось так.
Как-то ненароком подхорунжий попал на Всемирный казачий круг, организованный в Тайницком Небесном Саду по поводу какой-то даты. Круг включал в себя и донцов, и амурских, и семиреченских, и астраханских казаков. И терских, и ставропольских, не так давно на Кавказе порезанных. Ну и, конечно, включал Круг черноморское казачество, как, впрочем, и несправедливо отторгнутых от русской истории запорожцев с некрасовцами.
Здесь уж никакой «чортишвилизации» действительности не наблюдалось!
На кругу, впереди казачьего войска, на дочиста отмытых соловых кобылах восседали атаман Платов и командарм Миронов. Платов был при параде, Миронов – по-простому и налегке: в расстегнутой гимнастерке, а под ней – косоворотка застиранная.
Оба бодрились и горланили всяческую кавалерийскую ересь, пока кто-то ласково на них со стороны не прикрикнул.
Тут атаман и командарм заговорили о высоком.
– Лейба Троцкий? – мечтательно спросил атаман, указывая на громадную неровную дыру в груди командарма. – За пожизненное дворянство вам отомстил?
– Ни-ни-ни, и не мечтайте, атаман! Не потрафлю. Свои постарались.
– Я, впрочем, так и думал! – ужасно развеселился Платов. – Ежели свои на небо не спровадят, так ведь больше и некому. Но грустить отнюдь не советую. Раньше взошли – больше возможностей, Филипп Козмич.
– В смысле: раньше сядешь – раньше выйдешь?
– Нет-с. Здесь как раз наоборот! Раньше взошли – дольше пребывать станете.
– Грустно здесь, – признался командарм-2. – А отчего – сам не пойму.
Чернобородый и толстоусый Миронов по-детски улыбнулся, прикрыл ладошкой зияющую в груди дыру.
– Ну это как раз понять легко! Нет доблестных сражений. Соберут раз в сто лет, похвалят амуницию – и томись без хорошей драки.
– Нет. Грустно мне от подлостей человеческих и от доносов, Матвей Иванович! Вот вас, при Павле Первом оклеветали, в Кострому запроторили. А на меня Троцкий с Лениным взъелись. Да и сейчас, как стало мне известно, – ряд исторических доносов у нас в России готовится!
– Не вижу причин грустить. А с доносителями мы еще посчитаемся…
– Вам вполне можно в веселии пребывать. Англичане корабль вашим именем назвали. Оксфордским дипломом отметили. С речами выступать звали… А у меня – ни диплома, ни ораторского дара. Хочется иногда нечто прекрасное в харю толпе крикнуть. К примеру: «Донцы! Сколько эти безобразия терпеть позволять будете!..» Нет, не то… Чья-то чужая речь из меня наружу – так и прет, так и прет…
– Нашли о чем печалиться, об ораторском даре! Вот хотя бы этот ваш Троцкий, этот фармацевт, в военный мундир обутый… Ему здесь, у нас, и ораторский дар не помог… Что ораторствовать, ежели свежей мысли нет? Тут у нас краснобаям не больно верят. А что до англичан… Бивать мне их, и правда, не приходилось! Вот они меня Оксфордом и наградили. Но как старожил здешних мест скажу вам… Да вы, командарм, сюда извольте глянуть!
Платов повел рукой. Шитый изумрудами и продернутый золотой нитью рукав его мундира чудесно шевельнулся.
И сразу в той стороне, куда махнул славный атаман, произошло нечто.
Разошлись строевым шагом в сторону елки, сосны и дикие яблони. А на их месте, на месте сада и леса, блеснула отвесная вода: озеро – не озеро, море – не море…
Словом, выкатилось, остро вспыхнуло и на миг замерло – громадное Ясное Око.
Око, впрочем, только угадывалось. Было оно столь велико, что радужки глаз в нем изгибались и вздрагивали семицветной дугой, какая по временам еще выскакивает после дождя в дальнем Подмосковье…
Ясное Око глянуло на Казачий всемирный круг и затуманилось.
То есть вмиг на холмы, на леса, на Небесный Тайницкий Сад лег великий туман! Туман этот скрыл все выпуклости и неровности тверди небесной: от малого сучка – до ветки, до иголочки…
И тут переполнила Озеро-Око до краев, выкатилась и побежала весенней водой по холмам кристально-чистая, – но видно, что и пекучая – с легким кровавым отблеском слеза.
Слеза добежала до краев Тайницкого Сада. Из нее выросло новое, сразу давшее и лист, и цвет дерево. Туман исчез. Расступившиеся в стороны деревья сомкнули ряды.
Ясное Око тоже исчезло. Но осталось громадное озеро. Из озера начала вытекать река… По реке поплыли казачьи струги, и удалой казак Степан Тимофеевич с передовой лодочки что есть мочи заорал:
– Ослеп ты, ваше сиятельство, что ль? Не казаки вокруг тебя – бабы переодетые! Кроме Филиппа Козмича, все чисто – бабы!
– Какие бабы, Степан Тимофеич? О чем ты шепчешь? – отбивался нехотя Платов.
– А вот какие! Раз не могут казаки в царстве-государстве устроить порядок – стало быть, не казаки они, а бабы! А ну, братва, запевай!
Но братва в стругах отчего-то медлила, петь не хотела.
И тогда выступил вперед и проговорил песню навзрыд пеший ординарец Миронова:
- Квасный мавшав Вовошилов, погляди
- На казачьи богатывские повки…
– Ворошилов не казак! – крикнул страшным голосом Матвей Иванович Платов.
Круг казачий исчез…
Подхорунжий долгое время Божьей слезой, словами Степан Тимофеича и абсолютно неуместной на Небесах песней был смущен.
Еще больше смутили его строевые движения деревьев.
Не фантазия ли? И в мыслях у него такого – чтобы деревья ходили строем – не бывало!
Да и разговор атамана Платова с командармом Мироновым не слишком понравился. Не про то они должны были говорить! Не дырки в груди проверять, не валить все грехи на троцкизм-ленинизм да на Оксфорд! И конечно, не отворачиваться высокомерно от Степан Тимофеича…
Кроме того, не хотелось подхорунжему больше видеть алую свинью.
И еще пугал его дикий лес – буреломный, нечищеный, – начинавшийся сразу за Небесным Тайницким Садом.
Лес был страшен. В отличие от озера и других достопримечательностей – грозил он немедленной и вечной погибелью…
Испугавшись дикого леса, подхорунжий неосторожно дернулся и опять рухнул вниз.
Сперва ему показалось: он падает, паря как человек-птица. Но закончилось все полным обломом: болью, стоном, кровью…
Да и обнаружил себя Ходынин не на ступенях Беклемишевской башни!
Обнаружил – на заднем сиденье огромной, черной, стремительно и мягко бегущей по улицам Москвы машины.
Подхорунжий с кем-то разговаривал, отвечал на какие-то протокольные вопросы. При этом пребывал в диком смущении: машина-то бронированная…
Но главное – чувствовал он себя, летя по Москве, не в своей шкуре. Не его это была шкура, не его!..
Выскочив из Троицких ворот, головная машина и машины сопровождения летели по Воздвиженке. Где-то с боков опадали сигналы остановленных дэпээсовцами частных авто. Но эти звуки были словно из другой жизни.
Жизнь иная, еще более сладкая, чем в Небесном Тайницком Саду, вдруг целиком захватила подхорунжего! Жизнь человека, облеченного громадной, никому не подконтрольной властью…
Но и эта иная жизнь была вдруг нагло оборвана!
Машина, домчав подхорунжего до Крылатского, на одной из тихих улочек остановилась.
– Вылезай, хмырь! – грубо рявкнул какой-то высокий чин (без формы, но очень властный). – Не накатался иш-шо?..
Глубокая тоска охватила вылезающего из машины Ходынина.
Тоску и уныние подхорунжий презирал и ненавидел.
Потому что чувствовал: именно во время приступов тоски и уныния; именно в то время, когда нутро его пустеет, а душа улетает в лучшие края, именно в это время внутрь к нему, словно бы на постой, словно в охотничью пустую избушку поселяют для забав и отдыха чужую душу – душу страшно высокого, недоступного пониманию человека!
А потом душа эта высокая, душа нелюбимо-любимая, отдохнув внутри подхорунжего и порезвившись вместе с ходынинским телом в рок-кабачке, в «Школе птиц подхорунжего Ходынина» и в других приятных местах, уходила, куда ей надо.
Тело подхорунжего – как избушка на курьих ножках – на какое-то время пустело.
А вскоре возвращалась в эту человечью избушку из незримых стран и отдаленных мест – душа соколятника Ходынина!
И уплывала грусть-тоска, и жизнь начиналась заново!
Из-за всех этих происшествий (конечно, в первую голову из-за бронированной машины, мчавшей со скоростью 220 километров в час, но также из-за рок-избушки) проект
«Тайницкий Сад Небесного Кремля:
план духовный и план физический»
был на время подхорунжим Ходыниным остановлен.
Следовало немедленно заняться «Школой птиц»!
Правда, после Сада Небесного не очень-то и хотелось.
А чего хотелось? Хотелось спуститься в рок-кабачок, тихо взять за рога синюю кельтскую, напоминавшую небесные гусли арфу. Ну а после арфы нежно потрогать за соски, не какую-нибудь Симметрию – потрогать играющую на старинном кельтском инструменте девушку в сером платье с цветами…
22
Сима тоже любовалась на кельтов.
Только что они с Олежкой закончили печатно поносить Ходынина и вложили полное едко-смачных характеристик письмо в конверт.
Теперь Синкопа думал, как правильней надписать конверт и где его опустить.
Олежка думал, а Сима вспоминала примечательные слова из совместного их письма: «Гнилой рок и в особенности петербургские подпольные группы Ходынин пропагандирует как лучшее из лучших. Похваляясь, что предложит слова одного из черных русскоязычных блюзов партии «Любой ценой!» (как будущий гимн партии), он эту политическую организацию, без сомнения, дискредитирует».
Вдруг Синкопа дернулся из-за стола к выходу. Раннелысое Олежкино темечко засияло от будущей славы, словно его натерли полиролью. Водоросли, лежащие венком на затылке, приятно шевельнулись.
– Куда так поздно? – схватила за руку любопытная Сима.
– Знаем куда. Туда, где круглосуточно! Пус-сти, пус-с-с… – засипел нетерпеливый Олежка.
Олежка ускакал. Но и Сима не скучала.
Как раз заиграла новая рок-группа.
Мягко и вкрадчиво вступил перкашист, за ним посыпалась мелкая, но приятная гитарная дребедень, вслед за акустическими гитарами вступил грубоватый мужской бас, и Симу в себя втянул водоворот ее собственной памяти!
Сима громко вздохнула. Краем сознания она тоже любила кельтов и всяких шотландских ирландцев. Но твердо знала: открыто любить их в спортобществах и некоторых других хорошо структурированных организациях Москвы – нельзя. Заклюют!
Симметрия вздохнула повторно:
«Клёво поют… У меня так не получится… А тогда на фиг мне спортивная осанка?» – неожиданно подумала Сима и, прислушиваясь к своему нутру, тихо смолкла.
Однако через некоторое время внутри самой себя разговорилась:
«Так ведь не все клёво поют. Сейчас лажуки из Конотопа или из Перми выйдут – такая рок-попса посыпется!..»
Сима обрадовалась. Плохого было много!
А значит, и сама она над этим плохим еще долгое время сможет возвышаться.
Сима прикрыла глаза и минут на сорок задремала…
Проскакал рысцой в задние комнаты что-то быстро вернувшийся Олежка.
Через минуту он прискакал обратно. На Олежке не было лица.
Он нервно взмахнул половинкой розового, разодранного пополам конверта, придвинул свой стул вплотную к Симиному, гневно булькая, заговорил:
– Я, блин, вот чего думаю… Мы ведь с тобой можем и без них… Без них, говорю, можем… Запустим все это в «Нэтик»…
Бульканье стихло, а шепота было не разобрать.
23
Полчаса назад Олежка Синкопа на собственной немытой «Шкоде» добрался до хорошо ему известной Приемной. Там, как он знал, принимали всегда: ночью и днем, в воскресенье и в праздники.
Предслыша славу рукоплесканий, он помахал перед дежурным розовым конвертом и вполголоса сообщил: «Очень надо».
Его проводили в просторный кабинет со столом и диваном, но без стульев.
Шевельнулась навстречу, но так и осталась сидеть на диване скрюченная фигура.
«Юзер-юзерок», – подумал про сидевшего Олежка, потоптался на месте и вдруг, захлебываясь и безостановочно, стал повествовать о бесчинствах Ходынина.
– Ну и? – был задан ему вопрос.
– Что – «ну и»? Вот – письмо. Сигнал же! Разоблачение! Написал – и сразу к вам. Мог бы по «емеле» послать… Но самое важное мне хотелось сказать устно…
Тут – непредвиденное.
Маленький, с уморительно мокрым лицом человечек – впрочем, поворотливый, шустрый – вдруг подскочил к вальяжному Олежке, вырвал у него из рук конверт, из конверта вытряхнул письмо, ловко на лету письмо поймал, смял, сжевал и, наслаждаясь хорошей австрийской бумагой, жеванное проглотил. Потом так же внезапно выблевал пережеванное назад, аккуратно носовым платочком подхватил, засунул Олежке в задний карман…
Лицо человечка стало еще мокрей. Оно просто сочилось внутренней и внешней влагой: пот, слезы, жировые выделения, – все сразу выступило на уморительном этом лице!
Человечек еще чуть подумал, разодрал пополам конверт, одну половинку взял себе, а другую с полупоклоном возвратил Олежке.
Минуту-другую отдохнув, прожорливая фээсбэшная тварь свой шизоидный вопрос повторила:
– Ну и?
Мысли Олежкины спутались.
– Да ведь я… Да как вы сме!.. Ходынин, он же в нерабочее время… И в рабочее – тоже… Он…
– Доносить, перец, дурно. Клепать на хороших людей, перец, последнее дело.
– Как это – последнее? А безопасность Москвы? А художественные ценности Кремля?.. Да вы зайдите на любой сервак! Что юзерня творит!
– Кончай свой сисад-стеб. Без тебя все, что надо, раскумекаем. И хватит «вирусняк» к нам запускать, – прожорливая тварь чуть успокоилась, опять уселась на диван. – Как, говоришь, твоя фамилия?
– Шерстнев Алекс Олегович. А ваша, ваша как?! – крикнул, задыхаясь, Олежка.
– Моя фамилия Мутный, – равнодушно сообщил человечек. – Егор Георгиевич. А твоя, стало быть, Шерстнев? Шерстнев, Шерстнев… – мокролицый задумался.
– Шерстнев Алекс Олегович, и я уже когда-то здесь… – обрадовался хоть какому-то пониманию Олежка, но запнулся, не зная, продолжать ли.
– Минуточку, Алекс, – слабо улыбнулся Мутный и вышел в общую приемную.
Через пять минут, вернувшись, он сел и закручинился. Но потом и кручину, и ставшую уже привычной сырость лица словно тряпочкой пообтер, еще равнодушней спросил:
– А Олежкой почему прозываетесь? Олежка Синкопа – так ведь вас называют?
– Рок-псевдоним, – схитрил Шерстнев, решивший не выдавать их с Симметрией игры в имена. (Когда-то давно они договорились звать друг друга не как на самом деле, а выдуманно.) – Я ведь еще и рокмен. Но так для дела даже лучше!
– «Синкопа – парень хоть куда: под утро – кол, в обед – звезда…» – процитировал Мутный задумчиво. Значит, говорите, и – туда, и – сюда? Необходимо проверить…
– Это Сима! Симметрия Кочкина! – не выдержал словесной пытки Олежка, – это все она, дура, придумала. И про Синкопу тоже… А мне что прикажете делать? Я ей за болтовню кренделей навешал, но хромать-то не перестал! Скажите им, чтобы не звали меня Синкопой…
На глазах у Олежки выступили слезы.
– Нога – полбеды. Ногу, пожалуй, и вылечить можно. А вот стишок – стишок останется…
– Дался вам этот стишок! Я интересную информацию доставил, а вы… Вы – ламер, слабак!
– Пошел на… – неожиданно сказал Мутный.
– Куда, куда? – Олежка не хотел задавать этого вопроса – язык сам собой лепетнул.
– Можете со своей сраной информацией возвращаться к себе в кабак. У нас и своей информации выше крыши, – уже строже добавил Егор Георгиевич.
И весело помахал на прощанье доставшейся ему половинкой конверта.
24
…стоит терем-теремок, он не низок – не высок, из трубы идет дымок, из окошек льется рок!
25
– И че тебе там сказали?
– Один дурак… Представляешь… Один мутный ослидзе…
– Мутный осел? Дикий крутняк… Ну и чего тебе мутный ослидзе сказал?
– Да нет… – совсем расстроился Олежка. – Мутный – это фамилия. И не грузин он вовсе. Это я так, для выразительности…
– Ну и че этот Мутный?
– Послал на три буквы…
– И ты, бедняжка, пошел?
– Ты у меня, дура, сама сейчас туда сходишь! – размахнулся для удара Олежка.






