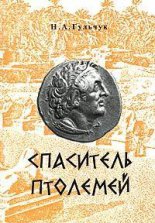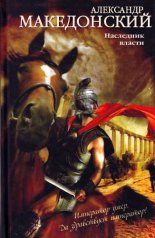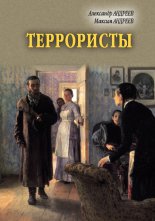Другие барабаны Элтанг Лена

— Перед тем, как выставить меня из дому навсегда, он повез меня в Ронду, это недалеко от побережья, испанский городок, где до сих пор проводят корриду. Раз в год туда съезжаются тореро, чтобы помахать колючими накидками.
— Колючими?
— Ну да, расшитыми колючим стеклярусом, я примеряла одну такую — ночью, когда в тамошнем музее никого не было, только сторож, мы двое и бутылка анисовой водки. Сторож был приятелем Зеппо и пустил нас ночевать, предупредив, что трогать ничего нельзя, даже кончиком пальца нельзя прикоснуться, мол, все ужасно ветхое и держится на честном слове. Правда, сторож он был так себе, прикончил анисовку и заснул, а мы пошли осматривать музей — довольно тесный, кстати, втроем не разойдешься.
— А что там было-то? Залитая кровью одежда тореро и орудия дразнения?
— Сам ты орудие дразнения! Одежда, между прочим, поразительная, ее как будто на кукол делали: куцые курточки, штанишки в облипку. Как странно, что они были такими маленькими, ведь быки-то были такими же большими, как теперь. Когда Зеппо открыл витрину и дал мне примерить костюм знаменитого Гузмана с розовым галстуком, я его даже застегнуть не смогла, рукава трещали, словно я в платье младшей сестры пытаюсь втиснуться. Зато мне подошло платье кавалерственной дамы, а веер был огромный и хрустел, будто вязанка тростника.
— А вы не боялись, что парень проснется?
— Господи, да мне все время было не по себе, особенно когда Зеппо вытащил из музейной ниши расшитое золотыми зигзагами седло и стал меня усаживать. Седло было похоже на кресло с двумя спинками, ужасно неудобно.
— Ты занималась любовью в седле четырнадцатого века?
— Глупый Косточка, с ним я готова была заниматься этим где угодно, даже в земляной канаве, которую там вырыли вокруг арены. В темноте арена казалась необъятной, я там танцевала, переодевшись герцогиней, а Зеппо бегал за мной, надев голову быка, потом ему пришлось вымыть голову под краном, потому что волосы пропахли какой-то эфирной дрянью.
— А что потом?
— Потом Зеппо посадил меня на ночной автобус до Альгарвы, сказал, что у него утром важное дело и что он приедет дня через два, а потом сунул мне в карман одну вещицу, попросив хранить как зеницу ока. Вернулся он и правда через два дня, только не один, так что мне пришлось собрать вещи и переехать в столицу. Ладно, пошли домой, у меня ноги промокли, — сказала она внезапно. Голос у нее поплыл, но глаза остались сухими, я нарочно посмотрел.
И мы пошли домой.
Что до меня, я плакал не меньше двух раз за последние несколько лет. Первый раз — когда загнал зазубренный осколок в ступню, подбирая остатки декантера, лопнувшего прямо у меня в руках. Я полчаса просидел под лампой, тыкал штопальной иглой в ногу и шипел, но все зря — только рану расковырял преогромную, а когда бросил иглу, заметил, что лицо залито слезами. Второй раз — когда увидел реку из окна полицейского фургона и понял, что моей бескручинной лиссабонской жизни пришел конец. Правда, я плакал от злости и всего минуту, но слезы-то выступили, значит, и этот плач засчитан.
Я все еще думал об этом, когда мы остановились перед стальными дверями морга, двери даже на вид были холодными, как ворота Нифльхейма, на правой створке какой-то здешний шутник написал черной краской: Revertitur in terram suam, unde erat.
Пруэнса вошел первым и пробыл там некоторое время, а мне разрешили сесть на стул, над которым была вытертая отметина — я сразу представил себе, сколько затылков прислонялось к этой стене год за годом, делая пятно все более безнадежным. Минут десять я сидел, свесив руки между колен, и вдыхал смесь ацетона, бунзеновских горелок, жидкого мыла и реактивов, струившуюся из дверей лаборатории. На двери лаборатории была надпись «Не входить. Только для персонала», а на двери морга «Manter a calma».
Кого они собираются мне показать? Ласло? Додо? Ферро? Охренеть, сколько у меня появилось знакомых. До сих пор я видел только одного покойника — свою бабушку Йоле, потому что на тетку я не стал смотреть, когда она лежала в своей спальне, хотя мать и косилась на меня со значением, стискивая ладони у груди. Я не хотел видеть тетку мертвой, потому что она была теткой, а не подсыхающим бен-джонсоновским trunk of humors. Я так и не смог подойти к ней и отирался поодаль, за спинами плакальщиц, надеясь, что дым моей самокрутки останется незамеченным. А потом тетка сама превратилась в дым. И немного пепла.
— Прошу вас, — сказал следователь, делая мне знак из дверей, и я вошел. Это был еще не морг, а что-то вроде прихожей, перегороженной рифленым стеклом, за стеклом была комната, от пола до потолка выложенная грязно-белым кафелем. Я ожидал увидеть холодильные камеры, стол для аутопсии и прочее, но увидел только длинную скамью и смотрителя в халате, возившегося с каталкой. На смотрителе были резиновые сапоги, как будто он собрался поработать в саду после дождя. Потом я надел очки и разглядел еще один проход, ведущий, наверное, в прозекторскую. Смотритель скрылся там вместе с каталкой и вскоре вернулся с железным ящиком.
Пруэнса вздохнул, толкнул стеклянную дверь, вошел в комнату и сразу зажал нос пальцами. Я представил себе сладковатый запах гниения и формалина, ударивший ему в ноздри, и поежился. Смотритель щелкнул пружиной, откинул одну из стенок ящика, будто борт у грузовика, и выволок тело на скамью, осторожно придерживая за плечи. Я прижал нос к стеклу и увидел голову трупа, запрокинутую, со светлыми, свисающими, будто мокрая пряжа, волосами. Клеенка, которой накрыли тело, была довольно куцей, того стыдного розового цвета, который могут выносить только грудные младенцы и мертвецы.
Такую же клеенку я видел у нас дома, мать принесла два лоскута из своей больницы и сшила из них занавеску для душа. Ничего уродливее этой вещи я не видел, даже в тартуском общежитии, где армейские одеяла, впитавшие тонны телесной жидкости, были в три слоя простеганы толстой ниткой, чтобы не разлезлись, а чугунные чайники выдавались комендантом под расписку.
Пруэнса уже стоял в изголовье скамьи, с любопытством разглядывая запрокинутое бледное лицо с морозными кругами у глаз. Из-под клеенки виднелась нога с биркой на щиколотке и рука, откинутая вниз, на руке чернело знакомое кольцо из оникса, на мизинце не хватало верхней фаланги. Имя и фамилия на бирке были напечатаны на машинке, внизу кто-то подписал от руки: «год рождения 1974 — год смерти 2011».
— Посмотрите внимательно, — сказал человек в синем халате, выходя в коридор. — Вам хорошо видно? Хотите подойти поближе? Вы узнаете этого человека? Назовите его полное имя.
— Да, узнаю, — сказал я, пятясь от стекла и натыкаясь на стоявшего за мной конвоира. — Это мой друг. Его зовут Лютас. Лютаурас Йокубас Рауба.
Бубенцы Бадага
Outside of a dog, a book is man’s best friend.
Inside of a dog, it’s too dark to read.
Groucho Marx
— Это чистильщик! — закричал я, увидев его ботинки. «Доктор Мартенс» цвета болотной зелени, второй такой пары просто быть не может в Лиссабоне, городе шлепанцев и плетеных сандалий. Наглая ребристая подошва посмотрела мне прямо в глаза, когда чистильщик закинул ногу за ногу.
— Начинается, — вздохнул Пруэнса, — вы, похоже, захотели в больничный изолятор. Это живой человек, а не герой ваших комиксов. Он только что начал давать показания, с которыми следствие вас ознакомит. Его зовут Ласло Тот.
Человек в зеленых ботинках взглянул на меня с интересом и поменял ногу. Теперь на меня смотрел простроченный круглый носок и черная завязь шнурков. Вопросы обжигали мне горло, как тот перловый суп, что по ночам раздают на Праса до Комерсиу, однажды я возвращался за полночь и сдуру попробовал его, чтобы согреться. Мужик в стеганом жилете протянул мне плошку, зачерпнув из бидона, от которого подымался густой пар, пресный и пряный одновременно. На дне плошки оказался сморщенный перчик, а густой пар поселился у меня во всем теле, я принес его домой и долго пытался от него избавиться.
— Итак, приступим, — следователь открыл папку. — Здесь говорится, что, планируя мошенничество, вы собирались имитировать преступление, воспользоваться этим для шантажа и приобрести принадлежащий подследственному дом за символическую плату.
— Так все и было, — кивнул человек в ботинках, на его лысой голове сидело солнечное пятно.
— Для этого вы познакомили хозяина дома с гражданкой Испании, вашей соучастницей.
— Не соучастницей, а партнершей! Мне пока не предъявлено обвинение, майор.
— Я капитан, — буркнул Пруэнса. — Когда и как вы начали планировать это дело?
— Сначала мы хотели использовать трюк с автокатастрофой, это самый легкий, проверенный способ. Но оказалось, что хозяин дома даже машину не водит. Потом напарница обнаружила в комнатах камеры, и мы решили включить их в сюжет, раз само в руки идет. Тем более, что особенно тратиться нам не пришлось.
— Во сколько обходится такой сценарий? — Пруэнса немного оживился.
— Денег вложено было немного, сотен девять, — мадьяр начал загибать пальцы. — Три сотни travesti из клуба запросил — по ночному тарифу, с Ферро у нас был особый договор, он только за проценты с прибыли работает и берет не меньше десяти. Ну там, одежда, бензин. Малярам пришлось отстегнуть, чтобы не появлялись в коттедже до понедельника.
— Как вы добились того, что Кайрис согласился участвовать в съемке? Он мог усомниться, отказаться или даже сообщить о вас в полицию.
— Ну и что? Когда парень нажал свою кнопку в первый раз, он уже влип, потому что сам факт подобной записи — это преступление. Если бы он позвонил копам, они застали бы чистую пустую квартиру и решили бы, что парень обкурился и гоняет чертей.
— Откуда вы знали, что он запаникует, увидев сцену убийства?
— Это просто, — мадьяр посмотрел на меня, будто Гор, ставящий сандалию на голову врага. — Наше искусство, господин капитан, состоит в том, чтобы застать человека врасплох, достать его до самой печенки, понимаете? Когда он растерялся, Додо предложила ему помощь, и он ее принял. Чуть позже, ему, как и всякому простаку, пришла в голову мысль о полиции, но для этого надо было вернуться домой. Не станешь же ты звонить в комиссариат и говорить, что тайно подглядывал за девушкой, записывал ее свидание, видел убийство, но не знаешь, кто стрелял.
— Того, что у вас было на Кайриса, недостаточно для суда. Нажал кнопку — ну и что?
— А мы и не собирались его судить. Моя задача была простой: напугать хозяина до смерти и заставить продать дом за гроши. Это же классический Schwindel, прямо из хрестоматии.
— Послушай, ты, швиндель, — я не выдержал, хотя говорить мог с трудом, язык распух, будто от пчелиного укуса. — Не заговаривай капитану зубы. Я все жду, когда ты вспомнишь про пистолет, который был у тебя в день убийства, тот самый «Savage», что ты одолжил у покойного хозяина.
— Ждете? — мадьяр медленно облизнул губы. — Я у сеньора ничего не брал, а у покойного сеньора тем более. Я человек мирный и оружием не интересуюсь.
— Вы ведь не ожидали, что Кайрис окажется способен на убийство? — вмешался следователь.
— Отчего же? Сейчас модно нанимать непрофессионалов! Люди потеряли ощущение реальности, они видят на своих экранах ловкость и жестокость и сами становятся жестокими, хотя думают, что становятся ловкими, — произнеся эту тираду, мадьяр спохватился и снова сделал скучное лицо.
— Складно вы заговорили, Тот, — заметил следователь. — Хотя, если верить бумагам, у вас незаконченный полиграфический техникум, только и всего.
Услышав это, я понял, что меня так раздражало в мадьяре с самой первой минуты — его португальский был свободнее, лучше, чем мой, даже лучше, чем теткин. В нем было то самое смешение книжной лексики и рыночного жаргона, которое почти никогда не дается эмигрантам. Так разговаривал администратор яхт-клуба, где я подрабатывал прошлой зимой, помню, как он смешил меня выражениями вроде: os dias vo correndo, дни бегут и бегут, и тут же тыкал пальцем в плохо вымытый пол: sujo cabro! грязно, блядь!
— Заговоришь тут, когда тебя хотят припутать к чужому делу, — Ласло достал платок и вытер лоб, на котором выступила влага, будто на ломте желтого сыра. — Меня арестовали за мошенничество, а этот господин, насколько мне известно, сидит тут по подозрению в убийстве. Вам ведь известно, что Кайрис знаком с убитым, а я беднягу и в глаза не видел.
— Знаком? — следователь пожал плечами. — Все литовцы друг с другом знакомы. Это очень маленькая страна, я смотрел на карте. К тому же мы сейчас разбираем ваше дело, Тот, а убийством займемся отдельно. Посидите здесь минут пять, только без фокусов, за дверью охрана.
Сказав это, Пруэнса взял свой чайник и вышел из кабинета. Наверное, не хотел при нас заваривать, а может, у него тоже отказала розетка. Мадьяр сидел на стуле прямо, внимательно смотрел в окно и качал ногой.
— Как тебе удалось так быстро все устроить? — я спросил это по-русски, полагая, что Пруэнса стоит за зеркалом в комнате для свидетелей. — Чисто и убедительно. Все делают свое дело: актеры раздеваются, камеры снимают, пистолеты стреляют. Я в восхищении.
Ласло перестал качать ногой и повернул ко мне озадаченное лицо.
— И чего ты тут плел про своего подельника Ферро, когда это ты и есть? Или у вас с ним одна пара ботинок на двоих? Тогда вы, наверное, и вечно голодную Додо вместе трахаете?
Чертов мадьяр даже глазом не моргнул. Он смотрел мне в лицо с таким видом, как будто не понимал ни слова. Правда, лоб у него снова вспотел и руки стали беспокойными. Я хотел обсудить с ним boquete, который торопливая стюардесса делала так себе, на троечку, но тут дверь открылась, и Пруэнса вошел с дымящимся чайником. Вопрос он задал еще в дверях, как будто готовился в коридоре:
— Как вы узнали про камеры в доме подследственного?
— Я же говорю, он сам нам подсказал, — мадьяр оживился, видно, со мной наедине ему было не слишком уютно. — Этот лох соврал моей напарнице, что пошел по делам, а сам включил камеры, зашел в ночное интернет-кафе и наблюдал за ней не меньше часа. Как она там шляется по его квартире и жрет вчерашние гамбургеры. Даже позвонил ей: что, говорит, сейчас делаешь? Натурально, она ему напела, что лежит в ванной и думает о нем. Тогда Кайрис стал над ней потешаться, девочка рассказала мне, а уж я сообразил.
— Вранье, — я привстал со стула и тут же почувствовал руку охранника на своем затылке. — Я и минуты не стал бы подглядывать за твоей девкой, она того не стоила.
— Знаешь, она тоже не слишком тобой восхищалась. Сказала, что ты трахаешься с натугой, будто кряжистые топляки в печь кидаешь. Я могу продолжать?
Следователь барабанил пальцами по столу, стараясь на меня не смотреть.
— От меня требовалось только зайти, выстрелить и уйти. От актера — красиво упасть и лежать. Самая неприятная миссия была у Ферро: беседовать с хозяином дома, таскать тело туда-сюда, отмывать варенье со стен, одним словом, рутина. Варенье, кстати, было мерзкое, я попробовал, — мадьяр скорчил рожу и сунул два пальца в рот.
— Варенье? — переспросил Пруэнса, нехорошо улыбаясь.
— Ну да, мы-то свекольный сок с собой принесли, с мякотью, но варенье лучше выглядит. Хотя сахару в нем был перебор, у прежней хозяйки руки росли из жопы, как пить дать. Я слышал, что русские бабы плохо готовят и мало дают мужьям, все больше племянникам.
Тут я не выдержал, вскочил, оттолкнул охранника, схватил стакан Пруэнсы со стла и треснул по сырной голове, прямо по темени. Чайный лист поплыл по лицу мадьяра, смешиваясь с кровью, в этот момент я понял, что бить нужно было стулом, тогда крови было бы больше, но тут мне заломили руки, защелкнули наручники и поставили лицом к стене.
Какое-то время в комнате молчали, даже побитый Ласло не произнес ни слова. Было так тихо, что я слышал, как звякает что-то в электрическом обогревателе, стоявшем у стены. Я обернулся и увидел, что охранник поднял погнувшийся подстаканник и поставил его на стол перед следователем. Граненый стакан остался целым, его он взял двумя пальцами и бросил в мусорное ведро, стараясь не испачкаться. Потом он сделал мне знак отвернуться, и я подчинился. Я стоял так целую вечность, как приговоренный к расстрелу драматург у Борхеса. Стоя лицом к бетонной стене, я вспомнил один случай, когда надо было врезать, а я не врезал, и засмеялся.
В январе девяносто первого мы с Лютасом и Рамошкой ходили к парламенту с термосами, хлебом и тушеной свининой в судках. Жаркое готовила пани Рауба, тогда многие носили на баррикады еду и кофе, чтобы чувствовать себя причастными: люди жгли костры, сидели на бревнах и разглядывали друг друга. Провести там всю ночь нам не разрешили, так что мы раздали еду, покрутились часов до двенадцати и пошли домой. По дороге Рамошка хмуро сказал, что мне вообще не стоило туда ходить, это литовское дело, а я литовец только наполовину. А то и меньше.
— Такие, как ты, сами толком не знают, что у них за кровь, — добавил он с такой неожиданной яростью, что я оторопел. — Из-за вас мы столько лет просидели под русскими и евреями, да еще поляков развели, будто комаров на болоте. Здесь земля Марии, заруби себе на носу, отличник. И деду своему, полковнику, передай.
— Совсем свихнулся, — сказал я, когда Рамошка свернул на свою улицу, провожаемый нашим молчанием. — Дед был не полковник, а майор, и вообще он приемный.
Мы стояли у дверей почтамта, переминаясь на свежевыпавшем снегу. Саюдисты в тот вечер ждали, что придут танки, и поставили в начале проспекта цементную тумбу и две створки чугунных ворот. Ворота укрепили чем-то, похожим на гребенку, с торчащими, будто рачьи глаза, красными прутьями. Часовые сидели на тумбе, курили и тихо переговаривались.
— А кто у тебя настоящий? — спросил Лютас, растирая нос варежкой.
Его побелевшее от холода лицо с двумя ровными пятнами румянца показалось мне плоским, будто у соснового швянтукаса, стоявшего возле дороги на дедовский хутор. Этого божка я в детстве боялся, а вот соседского — страстотерпца с руками, мягко сложенными под подбородком, любил и ходил на него смотреть. Когда сосед продал хутор, новый хозяин отодрал фигурку от пня, бросил в кучу веток и мусора на краю усадьбы и поджег. Так все крестьяне делают, сказал мне дед, чтобы обиженный божок не вздумал с покупателем поквитаться.
— Настоящий? В каком смысле?
— В прямом. У тебя и отец не пойми кто, и дед на каторге пропал. А у Рамошки отец в «Саюдисе», вот он и наслушался всякого. А может, он прав? Будь твой дед живым, небось стрелял бы теперь в наших или в танке сидел бы! А ты бы ему патроны подавал!
Я мог бы врезать ему тогда, прямо по стриженой белобрысой голове, в руке у меня был китайский термос, довольно тяжелый, но я не врезал, сдержался. Откуда мне было знать, в каком танке сидел бы теперь мой приемный дед? Я и теперь этого не знаю, Ханна, тем более, что перед смертью он свихнулся и ушел из дома — в какие-то поляны, никому не ведомые. Зато я знаю, что чертовски рад тому, что на этот раз не сдержался, и повторю это при первом же случае. Только теперь уж стулом, они здесь не привинченные.
В тот вечер я хотел сказать Лютасу, что русский мне нужен как хлеб, но я стыжусь его, когда мне нужно говорить вслух, он хорош на бумаге, но бумагу эту лучше прятать, не ровен час обнаружат. Я пишу на русском свой дневник, с тех пор, как нашел в сарае пахнущий сыромятной кожей гроссбух. Я читаю русские книги, потому что от литовских книг у меня гусиная кожа по ногам и сладкое причмокиванье в голове. Если это делает меня русским, то и черт с ним, главное, чтобы мы с ним были по одну и ту же сторону баррикад. Я хотел сказать это, но посмотрел в деревянное настороженное лицо Лютаса, повернулся и пошел домой.
— Напрасно вы так, — послышался голос следователя, на мгновение мне показалось, что в нем шелестит хохоток. — Царапина быстро заживет, а ваша репутация в этом деле сильно пострадала.
— Да пошел ты со своей репутацией.
— Вы казались мне сильным противником, Костас, — назвав меня по имени, он поперхнулся, — а теперь я вынужден отправить вас в карцер за нападение на свидетеля.
— Тот не свидетель, а подозреваемый. Мы можем продолжить, капитан, я еще не наговорился.
— Уведите, — сказал он конвоиру. — Наручники снимите. В карцер сажать не станем. Просто отберите у него компьютер.
Что стало с этим чистым лбом?
Где медь волос, где брови-стрелы?
— Все это штучки, пако, — сказал Ли в тот день, когда научил меня заговору спокойствия. — Все теперь пишут со штучками, я сам придумал сотню новых штучек, но дело в том, что долго они не живут. Их захватывают, как дверные ручки в новом ресторане — только что сияли тяжелым золотым блеском, и вот уже потускнели от пальцев и городской сажи.
Мы сидели на балконе в сумерках, я вернулся из Албуфейры и явился к нему с бутылкой молта, чтобы прочесть вслух написанную в поезде страницу. Речь там шла о звуках, которых мне не хватает: о свисте закипающего чайника, скрежете телефонного диска, похожем на пение коростеля, пиликанье модема при выходе в Сеть, скрипе воздушного шарика, когда по нему проводят пальцем, постукивании мелом по доске. И еще о шелесте программок и сдерживаемом кашле в зрительном зале — я уже лет семь не был на классическом концерте, про театр и говорить нечего. Еще я давно не писал с таким остервенением, исчеркал всю обложку у журнала «Ferrovia», а приехав в город, сразу отправился в Шиаду.
— Читатели любят перечисления, — сказал Ли, — но кто-то должен любить и читателя. Ты рассуждаешь о том, как на стволе проступает смола, как похрустывает взломчивый лед на реке, и читатель водит глазами и думает — весна! Но ведь ему достаточно поглядеть в окно, и он подумает то же самое. Зачем тогда нужен ты? Владение словом перестало быть свойством литературы. Так же, как владение информацией перестало быть качеством ума.
Тогда я обиделся, признаюсь тебе, я ожидал от него любых замечаний, но не ровного сухого пренебрежения, я взял свою страницу и ушел, обещая себе не показывать этому человеку ни строчки — и не показал, потому что нечего было. Теперь-то я понимаю, о чем он говорил, теперь, когда я пробираюсь вдоль стены своего четвертого десятка, хватаясь за штучки, за ручки разнообразных дверей, мне кажется, что я продвигаюсь вперед, что стена вот-вот кончится и откроется красное вересковое поле или вид на город с черепичными крышами, а что на деле? На деле я пытаюсь открыть двери других возможностей, но разболтанные круглые ручки скользят, проворачиваются вхолостую, а некоторые даже остаются в руках.
Писательство — одна из таких возможностей, Хани. Я всегда вертел эту ручку с опаской, стараясь убедить себя в том, что нет ни нужды, ни времени, а теперь выясняется, что не было самой возможности. За пару недель в одиночке я написал больше слов, чем за последние десять лет — прямо, как тот беззубый Мелькиадес у Маркеса, который вставил себе челюсть и заново научился смеяться. Компьютер мне вернули, я выпросил его до вечера воскресенья, встав на колени и поцеловав следователю ботинок. При этом я не испытал унижения или стыда. Мне все равно, раз это даст мне еще двадцать восемь часов разговора с тобой. Я с такой же готовностью мог бы поцеловать электрическую розетку в душевой, дающую мне возможность подзарядить батарею, или охранника, который водит меня на помывку и ждет по двадцать минут, пока батарея не насытится. За каждый раз я плачу ему двадцатку из денег, полученных преступным путем.
В какой-то момент я стал думать, что тюрьма мне на пользу, как бы дико это ни звучало. Я перестал напиваться до умопомрачения, курить траву, часами сидеть на балконе, разглядывая прохожих, читать комиксы на последней странице «Лисбон экспресс», я даже перестал заниматься тем, что один персонаж в «Психоаналитике» называет душить цыпленка. Как ни странно, в тюрьме мне это ни разу не пришло в голову, а раньше случалось, как ни глупо признаваться.
Мне показалось, что люди, о которых я пишу тебе, заслуживают того, чтобы разглядеть их со вниманием, повертеть в руках, как Габия вертела своих кукол, и — если они мертвы — дать им, наконец, сказать то, что они не успели мне сказать. Если же они живы, то я могу еще кое-что поправить. Я всех их подвел: умирающую тетку, придумавшую мне новое имя, ее дочь, научившую меня быстро находить крючки и застежки, свою мать, искавшую во мне черты убежавшего мужа, я подвел своего школьного друга и его кукольницу, я подвел своего шефа Душана, мудрую пчелу Лилиенталя, даже глупую, подтекающую детской ревностью Солю — и то подвел. Я и тебя подвел.
Мне показалось, что если я хоть немного побуду один, почитаю и подумаю, то непременно вернусь к этой самой точке бифуркации, о которой мне все уши прожужжал Лилиенталь, осторожно нащупаю ее, как нащупывают нужную точку в ускользающей женской мякоти, и пойму, наконец, на какой развилке меня занесло не туда. Мне показалось, что я не без пользы пролезу через долгий тюремный тоннель, выжимая из себя недомыслие, безучастность и ленивую лимфу, накопившиеся за последние несколько лет — в точности как ловкий утконос выжимает воду из меха, ввинчиваясь в свою тесную подземную нору. Но прошло три недели, и я вижу, что эта нора меня задушит.
Ханна, батарея продержится еще минуты две, а дежурит сегодня неподкупный толстяк, так что подзарядки в душевой комнате мне не видать. Да и душевой, наверное, не видать. Такие простые вещи, как вода и электричество, вернее, их отсутствие, могут заставить тебя страдать почище, чем удары подкованным ботинком по почкам. С тех пор как в камере испортилась розетка, я стараюсь пореже включать компьютер. Это письмо получилось коротким, ровно на тридцать семь минут.
Не that crowed out eternity
Thought to have crowed it in again
По дороге из Грасы на замковый холм есть переулок Беко дос Паус, даже не переулок, а так, пересечение многих лестниц. Я там часто садился на ступеньки, чтобы свернуть цигарку и посмотреть на верхнее окно углового дома. Между внутренними ставнями и стеклом там стоит фигурка святого, с виду просто деревяшка, но я точно такую же видел в каталоге аукциона в Порту, одним словом, ей лет триста, не меньше. Владелец квартиры посадил на своей крыше куст магнолии, и я ему завидовал. На моей крыше растет только трава, да и солнце там бывает только с полудня часов до трех — из-за стены соседнего дома с лесами, затянутыми зеленой комариной сеткой. Никому эти леса не нужны, дом давно отдали на слом, но так уж все устроено в этой стране — реставрировать здание некому, а ломать тем более никому неохота.
К чему это я? К тому, что в этой камере я не чувствую себя арестантом, скорее — такой же фигуркой, застрявшей между ставнями и стеклом. И дело, разумеется, не в том, что я вообразил себя святым Висенте, а в том, что я чувствую дом у себя за спиной, хотя вижу только небесный лоскут и неуклонную смену света темнотой. За те недели, что я провел, разглядывая бетонную стену, я все хорошенько обдумал и сложил головоломку под названием: «Собери себе дом на берегу реки Тежу и попрощайся с ним, или — foder, vai se (то есть иди и трахни себя в задницу)».
Люблю лиссабонский сленг, то, что в русском обозначено темно и шершаво, в нем опереточно и невинно, скажем дерьмо, bosta, означает также разочарование, а кокосовый орех — публичную женщину. А место, где я теперь сижу, называется xadrez, то есть шахматы. И верно — где же еще продумывать прежние и будущие ходы, как не в тюрьме, в гнездилище тревожной бессонницы. Из двух моих партнеров в живых остался только один, и он поставил мне мат в четыре хода.
В четыре кокоса.
Кокос первый — откуда взялась Додо? Есть такие сумчатые зверьки, которые едят что попало, у них два влагалища (babaca!) и две жизни, надо полагать. Кажется, их называют энеевы крысы и используют в саперном деле. Хозяин Додо пристроил энееву крысу в мою спальню, чтобы та занесла в зубах железную подушку, набитую нитроглицерином и хлором.
Какую подушку, почему подушку? Ну да, разумеется — Додо и подушка, неразделимые как пафос и катарсис. Я эту женщину видел по большей части в постели, зато помню ее устройство до мельчайших косточек, настоящая амфисбена — двигается проворно, и глаза у нее горят, как свечки. Вот сэр Томас Браун говорил, что нет такой змеи, у которой оба конца передние, но если бы он переспал с Додо, то задумался бы наверняка. Да что я, в самом деле, завелся. Обычная девчонка, попавшая в руки к pappone, и нечего тут валить с больной головы на здоровую.
Ладно, второй кокос: Лилиенталь ни разу не пришел меня навестить. Третий кокос: кто из моих знакомых знает, что я неплохо разбираюсь в охранных камерах? Он, Лютас и Душан, последние двое отпадают. Моему бывшему боссу такое и в голову не придет, я сам про него однажды calembour сочинил: прямо душно от этих прямодушных людей.
Четвертый кокос: затея с галереей. Чтобы продать ворованные артефакты, нужно знать людей, которым это интересно, а таких, может быть, двое или трое на всю Европу. Я мог бы давно понять, что испанская лиса и венгерский кот пришли ко мне оттуда, из компании антикваров, скупщиков краденого и мелких мошенников, они пришли от Лилиенталя. Узнаю минускульное письмо моего друга, его заостренное стило: композиция драмы должна быть безупречна, место, время и действие едины, в середине же — непременно перипетия.
— Живи я в Лондоне двадцатых годов, зарабатывал бы себе на жизнь расторжением браков, — сказал он мне однажды, — но не нотариусом, не думай! Я стал бы тем самым парнем, которого застают в гостинице с дамой, нуждающейся в разводе: завтракал бы в отелях с женщинами, с которыми прислуга видела нас в постели, а потом являлся бы в суд в качестве ответчика, держал бы шляпу на отлете и ловил бы завистливые взгляды из публики.
В тот день Ли выпил слишком много, и мне пришлось нести его на себе к табачным докам и запихивать в такси, в которое к тому же не влезла его раздолбанная cadeira de rodas.
— А что бы я делал? — спросил я, когда мы добрались до его студии. — Сочинял бы любовные послания за пару монет, сидя на Чаринг-Кросс, как на гравюре Хогарта?
— Ну нет, — сказал Ли, навалившись на мое плечо, — для этого талант нужен, люди в те времена не платили два пенса за что ни попадя. Даже девятитомная «Кларисса» стоила шесть шиллингов!
— Ты так и не прочла мою первую главу, — сказал я тетке, когда мы сидели в кафе на втором этаже, разглядывая самолеты на мокром летном поле. В девяносто девятом году у Литвы еще не было «боингов», в одном углу поля прижались к земле два аэрофлотовских Ту-104, а в другом — сверкала костистая щучья голова подаренного Люфтганзой вертолета.
— Я не спешу, успеется. А вдруг у тебя не окажется таланта. Как мы будем с этим жить?
— На самом деле ты и не собиралась ее читать.
— Был бы здесь Зеппо, он сказал бы, что нет никакого самого дела.
Тетка нервничала, боялась опоздать и заставила меня приехать за час до начала регистрации. В тот день на ней было желтое платье — длинное, жестко стянутое под самой грудью, отчего грудь выдавалась вперед, будто любопытный нос у скандинавской ладьи. Красиво, если не знать, что Зоя вкладывала в лифчик какую-то прозрачную штуку, похожую на маленький мех для вина.
— Какой он был, этот Зеппо? — спросил я. — Не представляю человека, который сумел тебя бросить.
Это я зря сказал, у меня сразу заныло в пальцах, так бывает, когда знаешь, что напортачил. Например, неловко взял за крылья пойманного махаона и стер пыльцу, так что тот шлепнулся в траву и валяется там с убитым видом.
— Какой он был? Рыжий и стремительный, со светящимся, как китайская чашка, лицом в неизменной золотистой щетине. Когда он смеялся, лицо менялось так же быстро, как серый пляжный камушек, когда его бросаешь в воду — на нем вспыхивают атласные полоски и вкрапления кварца, ну да ты сам знаешь. Немного похож на тебя, но только немного.
— Выпьешь вина? — я перебил ее, удивляясь своей досаде. Мне уже хотелось, чтобы поскорее объявили регистрацию на Франкфурт. Выходит, я просто оболочка, хитиновый панцирь для ее воспоминаний, она смотрит сквозь меня, радуясь моим очкам без оправы и трехдневной небритости, как обрадовалась бы любому homem, способному напомнить ей португальскую осень восьмидесятого года. Подавальщица поглядывала на нас из-за прилавка, перетирая тарелки, ее кофейный аппарат издавал звуки, похожие на отдаленный гром, и это странным образом сочеталось с миганием и гудением неоновой лампы, висящей над нашим столом.
— Давай закажем тебе омлет, ты же не завтракала, — я подвинул меню на ее край стола.
— Завтракать с ним было замечательно, — сказала она, покорно открывая меню, — в первый же день он пошел на блошиный рынок в Виламуре и купил электрическую решетку для хлеба.
— Надо же. А спать с ним тоже было замечательно? — спросил я, отхлебнув густого темного вина, от такого вина зимой горят уши.
— Я так и не узнала, откуда он родом, — сказала тетка, пропустив мой вопрос мимо ушей. — В ноябре он попросил меня уехать и быстро соскользнул в другую жизнь, будто в ложку, а я вернулась в город, записалась в школу португальского и тут же вышла замуж.
— Это скверно, — сказал я чуть позже, когда мы очутились в зале вылета, — что я напоминаю тебе какого-то небритого иберийца, только и умевшего, что морочить девок и менять дешевые адреса.
— Сказать по правде, ты напоминаешь мне дельфина, — тетка положила билет на конторку франкфуртских авиалиний и обернулась ко мне, сдвинув брови. — Иногда мне кажется, что ты обновляешь кожу каждые два часа, для большей обтекаемости. И нет ничего вокруг, кроме синей холодной воды, ничего.
Простолюдины произошли от тех,
кто занимался воровством и другими неблагими делами.
Лютас мертв. Теперь я знаю, в чем меня обвиняют.
Я мог бы узнать это в первый же день, если бы не перетрусил и не начал нести ахинею про Хенриетту, кровавые стены и пропавшую овчину, на которой семь лет назад спала собака. При этом я дрожал, как дитя в лесу, и смеялся, как идиот, потому что со страху выкурил в машине последнюю щепоть табака из коробки с надписью «American Spirit». Не верь написанному, охранник. Впрочем, он и так это понял, когда увидел, как я сворачиваю мундштучок из пробитого трамвайного билета.
— Охранник ничего не видел, — сказал он строго, подождал, пока я сделаю несколько затяжек, вынул сигарету из моего рта, потушил о ладонь и положил себе в карман. Добрый малый приехал из провинции, он говорил на португальском кокни, употребляя третье лицо вместо первого. Если бы он собирался на футбольный матч, то сказал бы: парень завтра пойдет на футбол.
Когда я приехал в город, то пытался учить язык по газетам, подбирая в основном те, что раздают в метро или оставляют в магазинных тележках. Я запоминал то, что говорят в лавках, на рыбном рынке, в пабах и прачечных, и пытался повторять, записывая на бумажках. Через пару месяцев мой португальский стал практически неизлечим, правда, я узнал об этом, только встретив Лилиенталя — тот просто засмеялся мне в лицо, когда я открыл рот.
Не могу спать, хожу кругами и кашляю от злости, зарядить компьютер сегодня не удалось, и у меня началась ломка, самая натуральная — пишу огрызком грифеля на книжном форзаце, зная, что могу лишиться библиотеки. Одна надежда, что никто там не откроет скучнейшего «Священника из Бейры», в котором, на счастье, есть еще фронтиспис и три шмуцтитула.
Я мог бы узнать о Лютасе раньше, будь у меня приличный адвокат вместо этой сонной коалы. Я мог бы узнать раньше, если бы прямо спросил следователя, в чем меня обвиняют, как только меня втолкнули в его кабинет шесть недель назад. Я мог бы узнать раньше, если бы прочел бумаги, которые подписывал не глядя, рисуя над подписью свое не виновен — ведь там наверняка стояло его имя, не бывает же обвинительных бумаг, где имя жертвы не упомянуто.
— Я признавался в другом! Я видел другой труп! — сказал я Пруэнсе вчера вечером, когда меня привели к нему после целого дня, проведенного под дверью камеры, я все костяшки сбил, пока стучал по жестяному листу.
— Вы так хорошо держались, Кайрис, — следователь был холоден и, казалось, разочарован. — Зачем же вы теперь поднимаете шум? Стучите в дверь, будто уголовник, бузите и кричите на охрану.
— Я не убивал Раубу, он был моим другом. Зачем мне его смерть?
— Может быть, вы не поделили деньги? Вы могли бы рассказать, чем покойный сеньор занимался при жизни, это поможет следствию.
— Какие деньги? Он только собирался их заработать, когда снимет свое кино, а пока перебивался случайными заказами и рекламой.
— Порнографией он тоже не брезговал, как следует из показаний свидетелей.
— Ну и что, Барри Зонненфельд тоже с этого начинал.
— Жена убитого сообщает, что знала вас довольно близко и что вы ревновали ее к Раубе и писали угрожающие письма.
— Жена убитого — подлая и бессмысленная дура.
— Вот вы спрашиваете: какой у вас мог быть мотив? — Пруэнса развел руками. — Мол, нет никакого мотива. Твердите, что Рауба был вашим другом. И даже не знали, что он женился на вашей бывшей любовнице.
— Да не в этом дело, поймите вы. Он волен жениться на ком угодно, даже на моей матери. И если вам угодно говорить о Габии, то здесь кроется его мотив, а не мой! Он уехал на заработки, а я остался в Литве. Я отбил у него девушку, которую он любил еще в школе, поселился в ее доме, спал с ней, ел и пил на ее деньги, вернее — на деньги, присылаемые Лютасом, а потом совратил ее сестру и ушел, приколов записку к кухонной занавеске.
— И что же? — в голосе следователя звякнули мелкие льдинки. — Вы вот это и собирались мне рассказать, когда требовали встречи? Ладно, у него был мотив для убийства, possivelmente, но его мотив меня не интересует. Ведь это не он вас убил, а вы его.
Разговаривать с ним было все равно, что играть в бильбоке, как делает скучающий Редька: вверх, вниз, длинно ли, коротко ли, все безнадежно возвращается на прежнее место.
— Сеньора Рауба дополнила свои показания еще одним фактом, — Пруэнса вздохнул и снова придвинул бумаги, — она утверждает, что ингалятор, который мы предъявили для опознания, принадлежал не убитому, как мы предполагали, а вам. Она видела точно такой же, когда вы жили у нее в вильнюсском доме.
— То есть в две тысячи втором, когда я и слыхом не слыхивал про астму и даже не знал, что у моих бронхов есть рецепторы, — кивнул я. — Передайте привет вашей брехливой сеньоре.
— Это, конечно, не прямая улика, — смутился Пруэнса. — Но все ваше дело построено на косвенных уликах, и, смею вас заверить, их достаточно, чтобы заменить чистосердечное признание.
— А мой адвокат говорит, что это вообще не улика. И что я буду последний мудак, если подпишу хотя бы один листок из этой папки. Послушайте, Пруэнса, давайте поторгуемся. Вы дадите мне чаю, сигарет и десять минут на один телефонный звонок, а я расскажу вам все, как было. Идет?
Следователь молча кивнул конвоиру, и тот вышел за дверь с недовольным видом.
— Сначала звонок, — я встал, подошел к столу и набрал номер Лилиенталя. Это единственный лиссабонский номер, который я могу набрать по памяти, три последние цифры совпадают с годом моего рождения. Я даже вспотел, пока слушал длинные гудки, вот не думал, что буду так нервничать. Мы и раньше подолгу не виделись, но теперь я звонил ему из другой реальности, как будто с планеты Тральфамадор, где год длится дольше земного в 3.6162 раз.
— Ну? — голос у Ли был сонный, и я невольно посмотрел на часы над столом следователя.
— Это я. Костас. У меня мало времени. Просто коротко отвечай на вопросы.
— Вопросы?
— Это правда, что ты покупаешь мой дом?
— Вполне вероятно. Зависит от многих причин. Ты звонишь из Литвы?
— Я звоню из тюрьмы. Ты знаком с человеком по имени Ласло Тот?
— Впервые слышу, а кто это? — я услышал, как щелкнула зажигалка, и представил, как он сладко потянулся на своей узкой лежанке, которую я называл надгробием Хуаны Безумной.
— Хозяин блудливой блондинки, которую ты мне подослал. Ты сам в этом признался, когда я видел тебя в последний раз.
— Ну, признался, — Лилиенталь хихикнул.
— То есть ты не отрицаешь, что это была твоя затея?
— Моя. Бывшая стюардесса — это то, что тебе нужно. Крепкий, рабочий рот. Она плохо себя вела?
— Я же говорил тебе, что она исчезла!
— Это натурально. Я ей сказал, что ты тороватый литовский купец и прольешь на нее дождь из дирхемов. Это была шутка, пако, но ведь ты успел воспользоваться ее плодами?
— Плодами? По твоей милости я в тюрьме.
— Мы все в тюрьме, так или иначе, — меланхолично заметил Лилиенталь. — Только не все способны это понять. Надо иметь воображение.
— В этой твоей воображаемой тюрьме я сижу в бетонной одиночке!
— Хорошо, что ты это осознал, пако. В твои годы не всем удается так продвинуться.
— Вытащи меня отсюда, Ли. Твой адвокат приходит ко мне со светскими разговорами о погоде, а в камере можно задницу отморозить, если просто прислониться к стене. Заплати ему как следует, раз уж тебя мучает совесть.
Я не знал последнего слова на португальском и употребил испанское: remordimientos de conciencia.
— Remordimientos? Ты учишь испанский, значит, сидишь в приличной тюрьме, — Лилиенталь закашлялся, пытаясь засмеяться. — Соблазни тенора Хозе и беги через крепостную стену.
— Ты старый омерзительный чахоточный педераст, — сказал я, чувствуя, как позвоночник леденеет, а ноги становятся слабыми, вот-вот переломятся, будто стрекозиное крыло. На какое-то мгновение я показался себе ужасно старым и больным, но это мгновение было тут же сметено неведомым прежде бешенством, меня как будто залило лютым чугунным жаром с ног до головы, телефонная трубка раскалилась в руке, будто реторта с аммиаком, в которую добавили оксид хрома. Этот опыт попался мне в билете по химии, я до сих пор помню пепельный дым, стелившийся под потолком кабинета — попадись мне что-нибудь другое, я бы завалил экзамен, получил бы паршивый аттестат, не поехал бы в Тарту, не встретился бы там с теткой и не стоял бы сейчас в кабинете следователя, разговаривая с предателем. Последнее слово я произнес вслух, и Ли озадаченно переспросил:
— Предателем?
— Со старым, уродливым и срамным фанфароном. Четки с кукишем тебе понадобились, жопа. Nao brigues comigo... — в трубке послышались длинные гудки, и я в ярости оглянулся на Пруэнсу, который нажал на клавишу.
— У вас было десять минут, — сказал он, — мне жаль, что вы не успели договорить.
— Это он, — сказал я, садясь напротив следователя. — Дайте мне карандаш и бумагу, я напишу все, что знаю. Этот человек меня подставил, и он должен понести наказание.
— Не уверен, что хочу об этом знать, — Пруэнса покачал головой. — Готовьте свою речь, Кайрис, через неделю я передам дело в суд, и у вас появится возможность высказаться публично.
— Я требую вызвать этого свидетеля по моему делу! — я взял со стола свое досье, вынул карандаш из стакана и быстро написал на обложке телефон и адрес Лилиенталя.
Пруэнса выдернул папку из моих рук и стукнул меня твердокаменным кулаком по запястью.
— Что это вы себе позволяете? Давно на полу не валялись?
— Да поймите же вы, здесь все устроено как в старом хичкоковском фильме, — сказал я, потирая руку. — Был такой фильм про женщину, которая не умела рисовать движущиеся предметы. Рисовать она очень любила, поэтому просто срубала дерево, если оно шевелилось под ветром, и убивала кошку, если та собиралась убежать. Потом она хотела убить слишком ловкого племянника, но, кажется, не успела.
— При чем здесь племянник?
— Племянник — это я. Лилиенталь давно намекал, что хотел бы купить мой дом, но я отделывался шуточками, и тогда он решил пришпилить меня булавкой к моим безнадежным обстоятельствам.
— Какое отношение это имеет к убийству, в котором вас подозревают?
— Понятия не имею, но уверен, что все происходящее связано с домом на Терейро до Паго. Дом не желал, чтобы я продавал семейную мебель, и в тот день, когда покупатель явился за зеркалом, мне позволили найти сейф сумасшедшего Фабиу, про который даже его жена не знала. Правда, там были не только браслеты, но и газета с фотографией убитой девочки. Зачем нужна была газета? Чтобы я знал, что живу на деньги убийцы, и не забывал об этом.
— Деньги убийцы? — Пруэнса немного оживился.
— Об этом я расскажу вам позже. Дом подстроил нашу ссору с Лютасом, тот ушел, хлопнув дверью, и видеокамеры остались в своих гнездах — значит, дому так захотелось.
— Дому захотелось?
— Дом устроил так, что я обнаружил записки своей умершей тетки и стал тосковать по ней, изводиться виной и воспоминаниями, это щекотало ему нервы. Потом он устроил так, что я на весь день остался без электричества, отправился в город и познакомился с Лилиенталем, который сразу влюбился в дом и стал с ним заигрывать. Со мной ему этого не хватало.
— Дому или Лилиенталю? — следователь вглядывался в мое лицо, меж бровей у него собралась толстая беспомощная морщина. Он выглядел так, будто я пытаюсь вытащить его мозг через нос, особыми крючочками, как древнеегипетские мастера-мумификаторы.
— Дому, разумеется, дому!
— Понимаю, — он захлопнул свою папку и устало откинулся в кресле. — Вы симулируете помешательство, хотите в больницу. Это я могу для вас устроить.
И он устроил, Хани. Сегодня я проснулся в палате, под мертвой балериной.
Ее худые увядшие ноги свисали из-под марлевой юбки, я открыл глаза и вскрикнул. Голова балерины склонилась на плечо, а там, где ноги соединялись, слабо светилась электрическая лампочка. Не думай, что я сошел с ума, просто в тюремном изоляторе ремонт, рабочие ходят по коридору с ведерками и распространяют запах свободы. Лампы замотали марлей, на кроватях лежат растрепанные газеты, на моей — «А Во1а» с портретом Серхио Родригеса на первой полосе. Меня привезли сюда, пока я спал, вероятно, подсыпали что-то в чай, которым меня угостил Пруэнса — помню, что я вырубился сразу, как только вернулся в камеру после допроса.
Эта новая манера усыплять заключенных для перевозки кажется мне немного дикой, хотя и практичной. Стоит только подумать, что тебя загрузили в машину, как какой-нибудь куб замороженной трески, из которого торчат хвосты и головы, сразу становится скверно на душе, с другой стороны — я избежал мешка на голове, пинков и жокейских ухваток.
В полдень я сидел у окна, слушая, как на дне двора-колодца перекрикиваются вороны, и жалел себя, будто оставленный после уроков малолетка. Больничная палата размочила меня в два счета, прямо как тюремный мякиш, из которого я сегодня делаю себе шахматы. Из того ватного хлеба, что подают у Пруэнсы, много не вылепишь, а тут мне принесли полбуханки ржаного, и я взялся его разминать. К вечеру я вылепил пешек и ферзей, завтра займусь ладьями, осталось придумать, как всю эту братию вынести отсюда. И с кем я буду играть, если вынесу.
Для чего не воровать, коли некому унять.
Хлебный мякиш превратился в шеренгу шахматных бойцов, вот только сохнет плохо, потому что дождь льет уже два дня без передышки. Моя палата похожа на заброшенный известковый карьер, доктор пока не появлялся, а сестра зашла один раз и сразу бросилась открывать окно, как будто в палате расцвел аморфофаллус из семейства ароидных. Я вежливо заметил, что в рейсовых автобусах предпочтение отдается тому, кто желает закрыть окно, но она даже глазом не повела, дала мне какую-то таблетку и заставила проглотить, уставившись мне в лицо. Наверняка бромид натрия всего-навсего, меня ведь здесь держат за симулянта.
Толку от окна никакого, оно смотрит в кирпичную стену, не слышно ни уличного шума, ни голосов, соседей тоже не слышно, а я надеялся, что хоть в больничном изоляторе увижу людей. Как бы там ни было, сюда стоило перебраться из-за двух вещей: хлеба и параши. У меня здесь настоящая параша, Хани! С крышкой и двумя ручками, на крышке лежит рулон туалетной бумаги, просто хоть навсегда оставайся.
В душевую здесь не водят, зато приносят двухлитровую посудину с водой, а вчера я обнаглел и попросил свежезаваренного чаю, сказал, что у меня воспалился глаз, и я намерен его промыть старым русским способом. Сестра поджала губы, но чайник принесла, не сказав ни слова, а жаль — хочется поговорить с живым человеком, пусть даже с пожилой теткой с боксерскими веками.
Ладно, давай вернемся к истории с галереей, а то она растянулась и висит, как резинка у рогатки. Мне нужно собраться с мыслями, чтобы рассказать ее адвокату, иначе я застряну тут до морковкина заговенья (не знаю, что няня имела в виду, но звучит убедительно).
Не прошло и трех дней после первой встречи, как я снова увидел метиса-посланника, явившегося вместо мадьяра в кафе «Ас Фарпас». Он пришел в горнолыжной куртке с тысячью молний, и в этом наряде был еще больше похож на свинку, стоящую на задних лапках — прекрасный крап, кофейный и золотой. Я сразу подумал, что все будет хорошо, и заказал рюмку кашасы.
— Человек, который тебя выручил, уже не хочет твоих денег, — сказал посланник, — теперь мы знаем, что их у тебя нет. Твой дом он тоже не хочет, слишком много возни с бумагами. Ясное дело, можно купить нотариуса и потерять старухины условия, но это будет стоить половину дома, да прибавь еще налоги на дарение, останется медная мелочь. Одним словом, Ферро передумал.
— Старухины? Следи за своим языком.