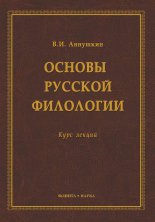Лондон по Джонсону. О людях, которые сделали город, который сделал мир Джонсон Борис

Для средневекового человека, который буквально воспринимал лижущие языки адского пламени, паломничество было шансом заработать очки у Всевышнего. В Кентербери потянулось еще больше паломников. Священник по имени Питер де Коулчерч, капеллан церкви, где крестили Беккета, предложил решение проблемы.
«Нужен каменный мост, — сказал он Генриху, — вот и все. Они этого заслуживают — и паломники, и святой великомученик». Генрих, которому надоело без конца оплачивать ремонт деревянного сооружения, согласился. Проект оказался очень дорогостоящим, поэтому он ввел налог на шерсть, создал монашескую гильдию под названием «Братство Лондонского моста» и позволил им собирать деньги от продажи индульгенций.
Из разных источников потихоньку потекли денежные ручейки, но все равно проект оказался неподъемным для Англии XII века. Река была без малого 275 метров шириной, с сильным течением и приливами. По проекту требовалось возвести двадцать каменных опор на кораблеобразных остроносых волнорезах, установленных на дне реки.
Сначала надо было соорудить плотину и откачать воду, чтобы можно было работать на дне реки. Это было за пределами тогдашних технических возможностей. У Генриха закончились деньги, и он умер; Питер де Коулчерч был похоронен в недостроенном фундаменте. Ричард Львиное Сердце был слишком занят Крестовыми походами. Строительство, забравшее жизни ста пятидесяти человек, завершилось через тридцать лет при короле Иоанне.
Он заключил хитроумную сделку с лондонскими купцами. В обмен на займы для завершения строительства моста они получали доходы от сборов и все будущие права на переправы через Темзу. Сегодня мы назвали бы это частной финансовой инициативой. Строительство Лондонского моста было завершено в 1209 году, и он пользовался огромной популярностью. Вдоль него выстроились дома и магазины с навесами, накрывающими толпу с обеих сторон. Людей было столько, что иногда паломникам требовался целый час, чтобы перебраться на другой берег.
Так они и проталкивались по мосту в течение следующих ста пятидесяти лет, через все средневековые беды и невзгоды — малые ледниковые периоды, Черную смерть, начало Столетней войны с Францией.
Они шли посмотреть на гробницу мученика, потому что верили, что это облегчит гнет боли и страданий, но иногда этот гнет превышал все мыслимые пределы, и тогда религиозного утешения было уже недостаточно.
Джеффри Чосер
Отец английского — ныне неофициального языка межнационального общения всего человечества
Была среда 12 июня 1381 года, самая прекрасная пора года в Англии. Уже почти отцвели каштаны, приближалась середина лета, и вечера становились все длиннее.
Полный и немного подавленный поэт, лет сорока, сидел возле окна своего дома с чувством все возрастающей тревоги. Жены не было дома — она, как обычно, была при дворе Джона Гонта, и у нас есть основания полагать, что ее отношения с великим принцем были далеко не безупречны. Что касается нашего героя, то не далее чем год назад он сам был замечен в порочащей его связи, а именно в «похищении» молодой женщины по имени Сесиль Шампейн.
И, что бы ни подразумевалось под этим обвинением, он заплатил штраф и избежал ответственности, но его репутации и моральному облику эта история ничего не добавила. У него была хорошая работа таможенного надсмотрщика и контролера, и его знали как поэта. И в самом деле, он превзошел таможенного инспектора Руссо — как лучший из поэтов, когда-либо служивших на таможне. Вдобавок к ежегодной ренте 10 фунтов от дядюшки короля, Джона Гонта, его поэтический дар каким-то образом завоевал ему право в течение последних семи лет получать кувшин вина в день (примерно один галлон — 4,5 литра). И даже если он не выпивал его сам, то уж он-то, сын виноторговца, знал, как превратить вино в деньги.
Джеффри Чосер был в эпицентре событий в Англии XIV века: торговец, приближенный ко двору с четырнадцати лет, доверенный посланник, который знал и политиков, и богачей, человек такой огромной энергии, что сам по себе был мостом между двумя городами, Лондоном и Вестминстером. Когда в тот летний вечер Чосер выглянул из окна своего жилища, он увидел, что разворачиваются события, которые грозят перевернуть его жизнь вверх дном.
Он жил в Олдгейте, в занятном, похожем на замок строении над старыми римскими воротами в северной части старого города. Одна сторона его гнезда смотрела на Лондон, который разросся при франкоговорящих монархах, правивших вслед за Вильгельмом Завоевателем, хотя вообще-то удручает отсутствие технического прогресса во многих сферах жизни после прихода нормандцев.
В домах появились оконные створки, но люди все еще передвигались на лошадях и повозках и пользовались луками и стрелами, и, хотя у них уже были ножи и ложки, они еще не освоили вилку. У них не было водопровода, у них не было горячей воды. Это был мир зубной боли и запоров. Унизительная нищета, ужасная детская смертность и постоянная угроза чумы, посылаемой небесами в наказание нашему греховному роду. И тем не менее население выросло почти до пятидесяти тысяч, хотя и не достигло уровня римского периода. И в Лондоне водились деньги — такие деньги, о которых раньше и представления не имели. Веками Англия торговала с Францией и Голландией, и на деньги, вырученные от продажи шерсти, купцы выстроили большие дома в фешенебельной деревне Чаринг, между Стрэндом и Вестминстером.
Деньги блестели золотом на гобеленах купцов, деньги одели их жен в шелка, богатство торгового сословия заявляло о себе всевозможными изысками своего времени: резьбой на спинках кроватей, любовной поэзией, витражами с анемичными персонажами и мягкими тапочками. И правда, некоторые торговцы так разбогатели, что знать стали возмущать в них проявления роскоши. В 1337 году в Англии обнародовали первый закон, регулирующий расходы, — запрет носить меха определенным слоям общества.
Деньги порождали воровство, проституцию и странные развлечения, такие как выступления метеористов — профессиональных пукальщиков, чьи способности Чосер находил очень забавными, — а также турниры, на которых Чосер и люди его сословия надевали красивые кованые доспехи и пытались поразить копьем мишень, прикрепленную к вращающейся по кругу балке, стараясь при этом избежать страшного удара по башке этой самой крутящейся балкой.
В то время правящему классу Британии грозило именно это — страшный удар по башке, — потому что он, этот класс, не заметил растущей пропасти между богатыми и бедными. Через другое окно, смотрящее в противоположную от города сторону, Чосер мог видеть Эссекс — сельскую местность, где все еще жила основная масса населения. Жизнь здесь чаще всего была не сладкая.
Поэт XIV века, прибегая к аллитерации, описывает мужчину, налегающего на плуг, одетого в плащ из грубой ткани с рваным капюшоном, в развалившейся обуви и в лохмотьях на руках вместо рукавиц. Его четыре тощие телки едва тащат плуг, его босоногая жена с израненными льдом ногами идет рядом, а в конце борозды — ребенок, кричащий ей вслед. К 1381 году десять лет подряд был неурожай, и чума раз за разом опустошала деревни.
При жизни Чосера людей то и дело охватывал религиозный ужас, когда они обнаруживали бубоны в паху и под мышками. Дети хоронили родителей чуть не каждый день, как при эпидемии СПИДа в Черной Африке. За период с 1300 по 1400 год, что примерно совпадает с годами жизни Чосера, Черная смерть урезала население Англии наполовину. И вдобавок ко всему этим Богом проклятым крестьянам постоянно сообщали, что им выпала высокая честь платить еще один дополнительный налог государству — скорее всего, для финансирования очередной попытки короля снискать славу на поле битвы с Францией. Например, подушный налог, свалившийся на каждую голову в стране.
Эта было ужасно несправедливо. Допустим, наш несчастный пахарь должен платить за себя и за свою жену, и предположим, он зарабатывает двенадцать шиллингов в год — при этом он должен отдавать ту же сумму, что и Чосер, который зарабатывает в сто раз больше. В мае того года искра вспыхнула в деревне Фоббинг (по-русски — деревня Надуваево) в Эссексе, где крестьяне отказались платить налог сборщику податей (его надули), и оттуда разгорелось пламя народного возмущения.
Этот крестьянский бунт был первым и в какой-то степени самым важным восстанием в истории Англии. Это было и первое народное движение с ярко выраженным левым уклоном и требованием равенства, и первая радикальная программа, которые потом часто встречались в истории Лондона. Сидя в своем доме у окна и глядя на поля Майл-Энд, Чосер услышал шум, в котором потонуло летнее жужжание пчел и воркование диких голубей. Он услышал голоса тысяч крестьян, ставших лагерем на подходе к городу.
Опустилась ночь. Мятежники стали пробираться к городу. Мэр Лондона, Уильям Уолворт, приказал закрыть все городские ворота, в первую очередь Олдгейтские. Глубокой ночью член городского совета по имени Уильям Тонг, скорее всего, ослушался приказа и впустил их. Если бы Чосер остался дома, он бы услышал, как сотни ног протопали через древние ворота. Он бы услышал приглушенные ругательства людей, которые хотели разрушить мир, вскормивший его талант. Эта революция ничего не могла дать Чосеру, а отнять могла все. И все же в каком-то смысле в нем жив был если не революционер, то радикал. В самом главном он стоял плечом к плечу с восставшими. После трех столетий французского владычества он поднимал и славил язык, на котором говорил народ Англии.
По словам Уильяма Кэкетона, одного из первых лондонских книгопечатников, который начал свою карьеру «Кентерберийскими рассказами», он был «почитаемым крестным отцом, первым основателем и выдумщиком нашего английского». Именно тогда, в конце XIV века, бутон раскрылся и превратился в большой и сложный цветок английского языка.
Джеффри Чосер родился на Теймс-стрит, на том участке, что неподалеку от нынешней станции метро «Кэннон-стрит». Читатель может заметить, что эта улица становится очень популярным местом важных для Лондона событий: император Адриан во время своего приезда в 122 году, наверное, останавливался здесь, в доме губернатора, и очень даже может быть, что в месте рождения Чосера имеются какие-то следы римской кладки, даже если этот район десятки раз перестраивался.
Он получил образование под сенью собора Св. Павла, основанного Меллитом в 604 году (а к тому времени этот средневековый собор стал грандиозным сооружением — его шпиль был выше, чем здание, которое мы видим сегодня). В возрасте четырнадцати лет он стал служить при дворе герцогини Ольстера, о чем свидетельствует инвентарная книга, в которой описана его форма: короткий жакет, красные с черным чулки. Ему было всего девятнадцать или двадцать лет, когда он участвовал во французской кампании, был взят в плен при Реймсе и выкуплен Эдуардом III за шестнадцать фунтов, а значит, уже тогда был человеком заметным.
Затем была долгая карьера дипломата, члена парламента, шпиона, клерка в Службе королевских строек, но самое главное — он был придворным. А при дворе, как правило, не говорили по-английски. Там говорили по-французски. Его имя, Чосер, скорее всего, происходит от французского chausseur — сапожник. Как вы думаете, что восклицал Эдуард III, поднимая подвязку, оброненную какой-нибудь придворной дамой, и галантно подвязывая ее на своей ноге? Он не говорил: «Ничего страшного, дорогая» или «Ну, вот так, милая моя». Он говорил: «Honi soit qui mal у pense» («Позор тому, кто подумает об этом плохо»). Когда Джон Гонт хотел объяснить, почему он выдавал какой-то семье годовое содержание, записи свидетельствуют, что он говорил так: «Pour mielx leur estat maintenir» — для улучшения содержания поместья. Но французский вовсе не был языком шумной толпы, проходившей под его окнами.
Некоторые слегка образованные могли попытаться «попарлекать» по-французски, но при этом рисковали быть осмеянными за их акцент — как претенциозная аббатиса, мадам Эглантин. «По-французски она говорила совершенно правильно и бегло, поскольку окончила школу в Стратфорде у Боу», — говорит Чосер вежливо. На самом деле она говорила по-французски с милым акцентом жителя Ист-Энда.
История XIV века является в определенной степени сказанием о бунте против главенства этих пахнущих классовым неравенством языков — французского и латыни. Изданный в 1362 году указ парламента гласил, что все судебные разбирательства отныне будут слушаться по-английски. К этому времени все сельское население уже поддерживало движение лоллардов, вдохновляемое Джоном Виклифом и его английской Библией. Лолларды не любили молебнов и проповедей, которых они не могли понять. Они вообще неважно относились к любому религиозному посредничеству между Богом и человеком.
Когда убежденный лоллард проповедник Джон Болл собирал крестьян в Блекхите, он говорил по-английски стихами. «Когда пахал Адам и пряла Ева, где родословное тогда стояло древо?» — спрашивал он. Кое-кто, оценивая общественное положение Чосера— торговца со связями на самом верху, женатого на дочери фламандского дворянина, — задавался вопросом: а не было ли это своего рода политическим демаршем с его стороны — решение втиснуть язык пролетариата в стихотворные пентаметры?
Может быть, спрашивают некоторые историки, он таким образом намекает на свои антиклерикальные убеждения? Может быть, он принадлежит к лоллардам, как и некоторые его знакомые рыцари? «Нет», — говорят другие, они не могут найти никаких доказательств, что он был кем-нибудь иным, а не добрым (хоть и язвительным) католиком. В одном мы совершенно уверены: если и были такие люди, как олдермен Тонг, готовые сотрудничать с крестьянами, то Чосер к ним не принадлежал. То, что произошло в следующие три дня, было ужасно.
В четверг, 14 июня, лондонцы проснулись в Праздник Пресвятого Тела и Крови Господней. Но в тот день не было обычных театрализованных представлений или мистерий. Улицы были объяты страхом. На окраинах уже полыхали дома. Огромные толпы под предводительством Уота Тайлера захватили весь Саутворк и штурмовали тюрьму Маршалси. В Ламбете они сожгли все реестры — ненавистные символы судебных решений их господ, написанные на латыни.
Затем Тайлер повел своих людей к Лондонскому мосту, там они разгромили бордель, где работали фламандские женщины и который «крышевал» мэр, — и не потому, что они возражали против борделя как такового, а потому, что просто не любили фламандцев. Потом были еще предательства (и опять подозревали олдермена Тонга и его приятелей), когда охрана отказалась повиноваться приказам мэра Уолворта, опустила цепи и открыла проход по подвесной части Лондонского моста.
Теперь толпа взялась за дело по-настоящему. Они ворвались в тюрьму Флит и всех выпустили, напали на Темпл и там тоже уничтожили все документы, а потом направились вдоль Стрэнд к самой богатой и роскошной резиденции в Англии — Савойскому дворцу Джона Гонта. С необыкновенной методичностью они жгли тончайшее белье, гобелены и резные украшения, а потом, случайно или нет, завершили свою работу, взорвав три бочки пороха. На следующий же день начались убийства иностранцев.
В Винтри, где воспитывался Чосер, толпа под предводительством некоего Джека Стро вытащила из церкви и обезглавила тридцать пять несчастных фламандцев. Другая толпа ворвалась прямо в Тауэр — опять-таки нашлись предатели среди охраны — и убила архиепископа Симона Садбери, сборщиков податей и других уважаемых людей. Им отрезали головы и насадили на шесты, установленные на Лондонском мосту. Потом они объявили, что всех фламандцев ждет та же участь, а затем, чтоб никому не было обидно, пошли бить итальянских банкиров на Ломбард-стрит. На следующий день, в субботу, поджоги и отсечение голов продолжались до полудня, когда вдруг мальчишка-король Ричард II объявил, что все должны идти на переговоры в Смитфилд.
Это был один из тех случаев, когда результат событий предсказать невозможно и все могло пойти совсем иначе. Представьте себе юного короля в элегантных доспехах, противостоящего Уоту Тайлеру и обозленным кентским крестьянам с носами картошкой. Нам рассказывают, что Тайлер отнесся к королю с оскорбительной фамильярностью. Он потребовал отмены вилланства (вид крепостничества, при котором человека принуждали обрабатывать землю господина, — барщина?). Он требовал отменить судебную процедуру, по которой человека могли осудить ни за что, он требовал положить конец налоговому произволу и ограничению заработков. Потом он повторил требования Джона Болла, протокоммунистического проповедника: не должно быть господина кроме короля, у Церкви нужно забрать все ее имущество, а епископ должен быть только один.
Говорят, король проявил удивительное самообладание и даже соглашался с этими возмутительными требованиями. Но тут между Тайлером и Уолвортом вспыхнула какая-то ссора, и Уолворт, мэр Лондона, стащил мятежника с лошади и проткнул его мечом.
Часть королевской свиты набросилась на него толпой и доколола раненого человека. В толпе раздались гневные возгласы, и короля могли бы застрелить из луков, если бы четырнадцатилетний мальчик не пришпорил коня и, повернувшись к ним, не прокричал: «Господа, вы будете стрелять в своего короля? Я — ваш господин! За мной!»
Не в силах устоять перед харизмой короля, толпа как заколдованная отправилась в Клеркенвелл. Раненого Тайлера срочно отправили в госпиталь Св. Варфоломея, но Уолворт был уже сыт этим всем по горло. Он вытащил его оттуда и приказал отрубить голову. Потом голову Тайлера насадили на шест и поставили на Лондонском мосту вместо головы архиепископа Садбери, а крестьянам Ричард приказал разойтись по домам, что они, как это ни удивительно, и сделали.
Крестьянский мятеж в Лондоне закончился. Король немедленно возвел Уолворта в рыцари.
Чосер конечно же не поддерживал ни одну из сторон и никак не участвовал в происходящем. Конечно, его возмущали ухаживания Гонта за его женой, якобы имевшие место, но следует помнить, что в свое время он написал для этого великого человека поэму, посвященную памяти его покойной жены Бланш. Должно быть, он испытал глубокое потрясение, когда узнал или даже увидел, что дом Гонта горит. Чосер много путешествовал и был цивилизованным человеком. Наверняка он не испытывал ничего, кроме ужаса, при виде резни невинных фламандцев и избиения итальянцев.
И как он мог симпатизировать бунтовщикам против короля и двора, от которых зависел? А он и не симпатизировал. Тем не менее единственное его замечание по поводу мятежа — этой национальной катастрофы — носило эксцентрично шутливый характер.
В «Рассказе аббатисы» он описывает группу людей, преследующих лису:
- So hydous was the noise, a benedicitee
- Certes he Jakke Straw and his meynee
- Ne made nevere shoutes half so shrill
- Whan that they wolden any Fleming kille
- As thilke day was maad upon the fox,
что значит приблизительно следующее: шум был такой ужасный, Господи, сохрани нас, что даже Джек Стро со своей бандой не так пронзительно орали, гоняясь за каким-нибудь несчастным фламандцем, чтобы убить его, как в тот день они кричали, преследуя лису.
Это сравнение кровавых погромов Джека Стро с охотой на лису может показаться слишком легкомысленным. Но таков стиль Чосера: бесстрастная отстраненность сатирика. Когда старик Януарий видит, как за деревом его жену крепко обнимает какой-то сквайр, Чосер говорит: «Он так взревел и зарыдал, как мать кричит, чей сын навек уснул».
Эта бессердечность заставляет нас прыскать от смеха. И безусловно, главная цель Чосера — развлекать. Взять, например, Абсолона, комичного приходского священника из «Рассказа мельника», который пылает страстью к Алисон, замужней женщине.
Думаю, не будет ошибкой считать образ этого глупого рыжеволосого, шустрого и похотливого святоши выпадом против нереформированной церкви. В кульминации «Рассказа мельника» Абсолон глубокой ночью приходит к окну Алисон и просит ее поцеловать.
- Руками он зашарил в темноте.
- Тут Алисон окно как распахнет
- И высунулась задом наперед.
- И, ничего простак не разбирая,
- Припал он страстно к ней, гузно лобзая,
- Но тотчас же отпрянул он назад,
- Почувствовав, что рот сей волосат.
- Невзвидел света от такой беды:
- У женщины ведь нету бороды…[3]
И так далее. Не собираюсь переводить это на современный язык. Надеюсь, все знают, что такое гузно.
Можете назвать это ребячеством, но даже спустя 620 лет я смеюсь над этой глупой школьной шуткой… А сейчас мы переходим к существу дела. Чосер писал по-английски, но не потому, что этот язык был языком протеста или религиозного инакомыслия. Он использовал язык народа не по политическим мотивам, а потому, что, как и все авторы, хотел получить как можно большую аудиторию и хотел заставить ее смеяться.
Английский был языком непристойностей, потому что это по определению был язык плебса, толпы, черни. Это был язык тех, кого Чосер хотел потешать, и это был самый потешный язык для этой цели. Вдоль всего берега реки, от Тауэрского моста до реки Флит, протянулись пристани, где лондонцы разгружали и загружали товары, приносившие им доход. На Галерный причал прибывали итальянские галеры; затем была таможня, где служил Чосер; рыбный рынок Биллингсгейт; далее — «Стальной двор» — обнесенный стеной участок купцов Ганзейской лиги, контролировавших торговлю со Скандинавией и Восточной Европой.
Немцы говорили с грузчиками-кокни по-английски, и значение английского возрастало с ростом торгового сословия. К концу XIV века олдермены Лондона были политическими тяжеловесами, и король не мог обойтись без их финансовой поддержки в военных вопросах, тем более что затея с подушным налогом оказалась такой провальной.
Может, знать и хотела войны, но купцам нужен был мир, которого испокон веков хотели трусы капиталисты, а они-то и заказывали музыку. Такие люди, как сэр Николас Брембр, бакалейщик и будущий мэр Лондона, могли, если хотели, ссудить тебе тысячу марок за раз, но, когда сэр Николас и его приятели решили не выкладывать денежки, как это случилось в 1382 году, у короля не было другого выхода, как прекратить кампанию. Так политическая власть перешла в руки набирающего силу класса. Крестьянский мятеж потерпел неудачу, как и многие пролетарские восстания, но продолжалась успешная языковая революция, и возглавила ее, как и все успешные революции, буржуазия.
Выбор Чосера в пользу английского объясняется смещением власти от короля и двора к денежным мешкам Лондона. Дворянин не мог стать олдерменом, но олдермены и шерифы Лондона все больше нуждались в признании, и, как всегда, сыновья и дочери знати желали вступить в брак с деньгами. По мере того как купеческие гильдии, «мистерии», обретали все больше власти, борьба за нее становилась все ожесточеннее внутри самого сообщества. Оно не было однородной массой создателей богатства и делилось на бакалейщиков, торговцев мануфактурными товарами, торговцев шелком и бархатом, торговцев рыбой и так далее, которые соперничали между собой, как Сиена с Флоренцией. Торговцы хлебом были вовлечены в постоянные и кровавые разборки с торговцами мануфактурой, и в битвах за власть группировки купцов часто опирались на дворян и даже разные королевские дома.
В 1387 году Ричард II, верховный патрон Чосера, был практически смещен группой дворян (опиравшихся на торговцев мануфактурой), и некоторых союзников Чосера, таких как поэт Томас Аск, казнили вместе с главным бакалейщиком и лидером богачей, сэром Николасом Брембром. Кажется, в тот момент Чосера выслали в Гринвич, где он служил членом парламента от Кента, а как-то раз его назначили на скромную должность заместителя лесника в Сомерсете, где, как полагают, он и сосредоточился на поэзии. С возвращением Ричарда и Гонта он был восстановлен в своем положении и занял звучную должность смотрителя королевских строек, контролировавшего ремонт королевских дворцов. Но в 1399 году все закончилось.
Ричард II был смещен своим кузеном, Генрихом Болингброком (который становится Генрихом IV — Шекспир, часть 1), и снова за этим стояли лондонские купцы. Как и многие короли и правительства во все времена, Ричард решил «наехать» на богачей. Он решил наказать Сити за его роль в недавнем мятеже и посягнул на извечные права Сити. Он назначил смотрителя для управления городом и тем самым нарушил хартию свободы, дарованную Лондону самим Завоевателем, и попытался ограничить срок пребывания на должности мэра одним годом.
Сити с этим не согласился. Когда Ричард спросил Генриха, кто эти люди, которые пришли его арестовывать, узурпатор ответил (так рассказывает нам Фруассар): «Большей частью лондонцы». Лондонские купцы переметнулись на другую сторону, чтобы защитить свои привилегии.
Гонт ушел из жизни. Бедный слабый король Ричард II умер в заточении от голода в возрасте тридцати трех лет, а некоторые считают, что и самого Чосера казнили. Впавшего в немилость у нового режима, преследуемого Арунделем, новым архиепископом, за «антирелигиозный» тон «Кентерберийских рассказов», его могли потихоньку «зарезать», как выразился его друг и современник Хокклив.
Это занимательная версия, но кроме слова Хокклива нет больше никаких доказательств в ее пользу. Новый король как раз подтвердил его прежнее денежное содержание, а за время службы то тут, то там Чосер развил невероятную кошачью способность к сожительству то с одним, то с другим из враждующих миров двора и гильдий — и одинаково брал деньги и с принцев, и с купцов, не ссорясь ни с кем. В Вестминстерском аббатстве его похоронили за служение обществу (не за поэзию), но он оставил бессмертное литературное наследие.
Он взял два больших языковых потока — германский и романский — и смешал их. Происшествие, соглашаться, волынка, ошибка, коробка, пение, стол, пищеварение, нечестный, экзамены, женственность, в конце концов, похороны, горизонт, увеличивать, заражать, тусклый, наблюдать, принцесса, ножницы, суеверный, вселенная, деревня — вот некоторые из повседневных слов, которые Чосер ввел в язык через поэзию. Позвольте мне выдвинуть последний довод в пользу английского как естественного средства выражения для поэта, пишущего стихи пентаметром: при двух параллельных словарных потоках язык становится уникально богатым на рифму, и потому волшебство и наслаждение зачастую состоит в том, чтобы взять нормано-франко-латинское слово и найти к нему английскую рифму или, еще лучше, взять благопристойное латинское слово и сочинить похабный английский каламбур.
Возьмите слово queynte, которое произошло, кажется, от латинского cognitus, что означает «умный, ученый», и которое также оказалось вариантом написания англосаксонского слова из четырех букв, которое звучало как «кант» и напоминало про датского короля по имени Кнут (соответствующее ему русское слово из пяти букв является грубым ответом на вопрос «Где?»).
Однажды Николас, умный студент из «Рассказа мельника», воспользовавшись отсутствием мужа, посетил его молодую жену: «Whil that her housbonde was at Oseneye, as clerkes ben ful subtile and ful queynte; and prively he caught her by the queynte…»
- Пока супруг ея отбыл в Осеней,
- студент ученый («кант») прибыл к ней
- И, по приезду,
- схватил ея украдкой за… («кант»)[4]
Что применимо в поэзии, то применимо и в повседневной жизни. Дуалистическая, или гибридная, природа английского языка дала его пользователям такие возможности, каких не дают никакие другие языки. Если обратиться к теннисной терминологии, английский дает возможность использовать разные удары: «топ спин» латыни и англосаксонский «смэш». Говорящий может быть напыщенным, а может — приземленным. Можно говорить о «компенсации» или «плате», «экономии» или «урезании», «увольнении» персонала или «вытуривании», и после Чосера английский существует в виде гигантского неоседающего омлета, в который можно бесконечно добавлять новые ингредиенты. Оксфордский словарь английского языка содержит 600 000 слов, a Global Language Monitor насчитывает 1 000 000 английских слов.
Для сравнения: китайские диалекты в совокупности используют около полумиллиона слов, испанский — 225 000 слов, русский — 195 000, немецкий — 185 000, французский — 100 000, арабский — 45 000 слов. Английский является международным языком управления воздушным движением, бизнеса, ООН, и ни один другой язык не способен передать смысл футбольного понятия «офсайдная ловушка» с таким же лаконизмом.
Конечно же мы очень гордимся тем, что наш язык, обтесанный и упрощенный презренным средневековым английским крестьянством, стал грамматикой современного мира. Нам приятно думать, что мы изобрели его, мы имеем на него авторское право, и, в некотором смысле, мы даем лучшие образцы литературы. Мы смеемся, когда берем меню во Вьетнаме и обнаруживаем там «свинину со свежими отбросами». Слезы снисходительного веселья текут по нашим щекам, когда японское меню предлагает нам «клубничное дерьмо». Но все-таки подобные чувства следует немедленно охладить замечанием, что каждый четвертый ребенок одиннадцати лет в Лондоне все еще функционально неграмотный, а из 1,4 миллиарда людей во всем мире, говорящих по-английски, многие уже давно превосходят в этом умении среднестатистического британца.
English выскользнул за угрюмые границы Англии и стал «Globish» — глобальным синкретическим объединителем нашей человеческой культуры. Для краткости можно сказать, что это движение началось в XIV веке, что признание английского в качестве уважаемого литературного языка достигло наивысшей точки в творчестве Чосера и что такое могло произойти только в Лондоне.
Есть еще одна, последняя, причина, почему мы должны быть благодарны Чосеру, и это связано не только с языком, которым он владел, а с тем, что он писал. С его непристойностями, его иронией и самоиронией, издевками над лицемерием и грубыми каламбурами — он является почтенным отцом и основателем не только нашего английского, но и еще чего-то такого, что нам нравится в нашем характере.
Мы любим и чтим Чосера по той простой причине, что он, безусловно, любит нас. Он с любовью отражает в своем зеркале калейдоскопическую мешанину лондонских сословий и персонажей (то, что они паломники, не имеет значения: «Кентерберийские рассказы» — это чисто лондонская поэма). Он их так приблизил к нам, что мы можем потрогать их одежду, послушать их голос и даже услышать урчание в их животе.
Ведь рыцарь и мельник — они всегда рядом, они толкаются, пинаются и перебивают друг друга — как в жизни, так и в поэзии Чосера. Рыцарь и мельник и сегодня рядом, они все еще толкаются и пинают друг друга в своих ежедневных поездках, то есть в автобусе 25-го маршрута.
Причины возвышения английского языка во времена Чосера следует искать в экономике и политике. Триумф этого — когда-то вторичного — языка отразил доверие и влияние говорящих на нем лондонских купцов. А олицетворением этого класса стал один человек, которого Чосер наверняка очень хорошо знал.
История восхождения этого человека уже давно передается из поколения в поколение и постоянно приукрашивается и теперь стала уже программной историей Лондона как города равных возможностей.
Ричард Уиттингтон
Не только первый в мире великий банкир, но и человек, который установил высокие стандарты в филантропии
Послушайте, когда я был мальчишкой, мы изучали нашу военную историю не по компьютерной игре «Средневековая Total War». Мы не сидели неподвижно перед экраном, как ящерицы с немигающими глазами, за игрой про войну вроде «Call of Duty: Black Ops» («Зов долга: секретные операции»).
У нас был совершенно великолепный и полностью иллюстрированный журнал для немного поведенных «ботаников», не достигших возраста половозрелое™, который назывался Look and Learn («Смотри и учись»), и я был его преданным подписчиком. Где-то в конце 1960-х Look and Learn впервые опубликовал картинку решающего момента в жизни сэра Ричарда Уиттингтона.
Это был банкет, который он как мэр Лондона закатил в честь короля Англии, — и, черт побери, наверняка это была классная вечеринка. Надо честно признаться — в последние годы не каждый банкет в Гилдхолле — магистрате Сити — превращался в шумную пирушку общенационального масштаба.
Как-то раз я брал напрокат фрак, чтобы пойти туда послушать речь Гордона Брауна. По какому-то другому невеселому поводу пришлось идти туда и внимать президенту Путину — в надежде, что он позволит British Petroleum участвовать в каких-то нефтяных контрактах. Из последних праздников в этом историческом месте национальных тусовок можно отметить конференции Ofsted — Службы контроля образования, вручение наград Королевского общества спасения жизни и выставку «Лучшие отели мира». Но в 1415 году Гилдхолл еще только строился.
С впечатляющим фасадом и высокими сводами из известняка, он имел вид фламандского городского особняка — maison de ville, что и неудивительно, ведь его построили на доходы от торговли тканями с Фландрией. Здание отражало процветание и растущие амбиции лондонцев, а в тот вечер они имели основания для эйфории.
Причина радоваться называлась «Азенкур» — возможно, самая яркая победа над французами во всей английской истории. Уступая в количестве войск по крайней мере четыре к одному, молодой король Генрих V стал во главе английских лучников и учинил настоящую бойню элиты противника. Цвет французского рыцарства лежал в пикардийской грязи, как подушечки для булавок. Они потеряли трех герцогов, восемь графов, виконта и архиепископа. Для Англии открывалась возможность возобновить свои претензии на французский трон, а для мэра Уиттингтона это был момент, когда он возглавил торжества от имени лондонского Сити.
Кроме того, этот хитрый и умный купец получил шикарную возможность продемонстрировать самому монарху ту центральную роль, которую он — Уиттингтон — сыграл в этом триумфе. Мэр устроил фантастическую попойку. Шлюхи были смазливые и благовонные — лучшие шлюхи Лондона позднего Средневековья. На галерее гнусавили менестрели. Конечно же были жонглеры, силачи и кувыркающиеся карлики, мастерски изображавшие поражение французов (и бессознательно возрождавшие древние традиции: под топающими ногами пирующих, где-то глубоко под фундаментом здания, покоились руины римского амфитеатра).
Блюда были дорогие и изысканные. Вино лилось рекой. Камины топили сандаловым деревом и другими ароматическими дровами. Двадцативосьмилетний король был поражен.
«Даже огонь напоен ароматом духов!» — воскликнул он.
«Если позволит ваше величество, — будто бы ответил сэр Ричард Уиттингтон, — я сделаю огонь еще более ароматным».
Король промолчал в знак согласия, мэр вытащил пачку ценных бумаг — долговых расписок короля — и бросил их в огонь. «Этим я избавляю ваше величество от долга в 60 000 фунтов».
Трудно перевести 60 000 фунтов в сегодняшние деньги, но это должна быть сумма в десятки миллионов фунтов стерлингов. Освобождать короля от долгов в таком масштабе было делом не просто потрясающей щедрости, это было делом государственной важности. Представьте себе, что цюрихские гномы пришли к Гарольду Вильсону и сказали ему, что долги его страны прощены. Вообразите, что биржа устроила бы роскошный ужин для Джорджа Осборна и один из банкиров, пьяненький, поднялся бы в конце и объявил, что дефицит больше не должен ложиться на плечи налогоплательщиков Великобритании, а банки погасят его сами.
Вы решили бы, что мир сошел с ума — и, кстати, не так много имеется свидетельств, что эта сцена вообще имела место, не говоря уже о том, что все происходило именно так, как изображено на страницах «Смотри и учись». Похоже, в ночь, о которой идет речь, король был во Франции, а не в Гилдхолле. Но бесспорно главное: то, что Дик Уиттингтон помог финансировать военную машину Англии в критический момент Столетней войны, и то, что он одалживал крупные критически необходимые суммы денег трем следующим монархам, и то, что он простил долги Генриху V, как и многим другим.
Думаете, теперь вы знаете историю Дика Уиттингтона? Не надо торопиться.
Та сказка, что вы видите на Рождество в зале Армии спасения района Хоршам, где в роли Дика телезвезда Джейсон Донован, а в роли его пушистого друга-кошечки — Анна Виддекомб, эта пантомима — это, с одной стороны, вопиющий пример искажения информации таблоидами. Но это также мощный урок того, как топ-финансист может очистить свою репутацию и завоевать вечную любовь общественности.
Реальный Дик Уиттингтон родился не в бедности. Нет никаких свидетельств того, что он увязывал все свое имущество в носовой платок и носил в узелке на палке. Он не «поворачивал» на Хайгейтском холме, услышав удар колокола церкви Боу. Он был мэром Лондона не три, а четыре раза. У него не было кошки.
Между 1400 и 1423 годами было всего лишь два года, когда он не давал кредитов короне. В этом смысле он сыграл серьезную роль в экономической истории. Только полных шестьдесят лет спустя Монте ди Пьета в Перудже впервые выдал кредиты для бедных в обмен на ножи или шапки или другие предметы залога. До Фуггеров из Аугсбурга, до Медичи из Флоренции был Дик Уиттингтон, купец и банкир по своей сути. Как Чосер, которого он наверняка знал, Дик Уиттингтон был настолько политически гибким, что смог существовать в двух мирах Лондона — в Сити и при дворе в Вестминстере, — и он сделал так много денег на близости одного к другому, что сегодня, как и прежде, нуждающимся выплачиваются его личные сбережения.
Уиттингтон родился между 1354 и 1358 годами в графстве Глостершир, и его родители были не крестьяне, но лорд и леди, их имение называлось Паунтли и имело собственный герб. Это правда, что сэр Уильям Уиттингтон был «объявлен вне закона» за то, что женился на дочери сэра Томаса Беркли без королевского согласия (требовалось согласие короля, чтобы жениться на дочери придворного, из тех соображений, что король имел преимущественное право). Но Уиттингтонов не лишили поместья, они продолжали владеть Паунтли еще двести лет, а их потомков и по сей день можно найти в деревне Хемсвилл.
У Ричарда Уиттингтона была только одна проблема — он был младшим из трех братьев и у него не было никаких шансов на наследство. У него были такие варианты: а) околачиваться в Глостершире, надеясь встретить хорошую богатую девушку; б) изучать право в школе барристеров; в) стать священником; г) поступить на военную службу к барону или д) стать учеником-подмастерьем и заняться каким-нибудь ремеслом. Мы не знаем точно, почему он решил выбрать последнее, но в юношеские годы он действительно совершил четырех— или пятидневный пеший поход в Лондон и вошел в город через Ньюгейт где-то в 1371-м. Как мы только что видели, Лондон кишел деньгами и грехами.
Последняя большая паника из-за чумы возникла за пару лет до того, в 1369 году, — тогда людскую массу охватила лихорадочная жажда земных удовольствий. У нас есть письмо от архиепископа Кентерберийского (дядьки со скорбным лицом, который пытался преследовать Чосера), где он жалуется, что лондонцы больше не соблюдают воскресенье как день отдыха. Когда Уиттингтон бродил в поисках жилья, он, возможно, видел травлю медведей, видел воров или карточных шулеров у позорных столбов, нищих, демонстрировавших свои редкостные кожные заболевания и размахивавших своими изувеченными обрубками с энтузиазмом клоунов из «Монти Пайтон».
Он мог оказаться участником одного из бесчисленных парадов и шествий в праздник Святого дня со всем сопутствующим пьянством, блевотой и грехом. Юный Дик, хоть и был наивен, избежал этих искушений. У его матери был знакомый, галантерейщик по имени сэр Хью, или, возможно, сэр Джон, или даже сэр Иво Фитцуоррен, семья которого пришла с Завоевателем, и Дик устремился прямо к его дому и к перспективе получить работу.
Быть учеником-подмастерьем — дело серьезное. Надо было присутствовать на мессах и внимать проповедям, являться на занятия по стрельбе из лука в Смитфилде. Ученик мог происходить из хорошей семьи, но жить приходилось по-спартански. Младший подмастерье мог спать и на чердаке, а старшие ученики — хоть и в доме, но на тюке сена. У него была очень короткая стрижка, и он носил плоскую круглую шапку и грубое длинное пальто и шел впереди хозяина или хозяйки ночью с фонарем или с длинной палкой на плече. Во времена Тюдоров ученики стали крупной политической силой, прославившейся беспорядками и бандитизмом. Но, будучи учеником галантерейщика, молодой Дик был уже выше этого и относился к своим обязанностям очень добросовестно.
Галантерейщик — это торговец тканями и всевозможной одеждой. А ведь это было время, когда люди не только становились богаче, но и хотели отличаться роскошью своих одежд, поэтому торговля тряпками была денежным делом. Дик учился расчесывать ворс, паковать рулоны, различать знаки гильдий, складывать и сворачивать деликатные ткани, растирать их между большим и указательным пальцами и рассказывать, что ничего лучше он в жизни не видел, а потому и цена соответствующая.
Король и двор теперь проводили все больше и больше времени в Вестминстере, и торговцы делали кучу денег на вечном тщеславии знати. Скорняки поставляли кроличий мех на воротники, драпировщики поставляли тяжелые ткани, галантерейщики, как Уиттингтон, поставляли почти все: белье, бархат, тафту, штоф, шелка, ленты.
Одежда из золота? Вам очень идет, сэр! Королевское агентство закупок называлось «Великий гардероб», и если «Великий гардероб» заходил в ваш магазин, значит, вам ниспослано благоволение Господне и вашим покупателем будет весь королевский двор.
Уиттингтон работал в квартале галантерейщиков, что за церковью Боу в Чипсайде, и работал тяжело, с раннего утра до 8 вечера, когда церковные колокола отбивали конец рабочего дня. Его имя впервые попадается в записях в 1379 году, когда он, наверное, только завершил семь лет ученичества и выдал свой первый кредит государству — пять марок городским властям.
Мы мельком увидим его снова девять лет спустя, когда он вскарабкался по скользкому карьерному столбу и стал одним из восьми муниципальных советников палаты улицы Коулмен. В 1390 году он дает 10 фунтов — большие деньги, столько мог давать мэр — на оборону города. В 1393-м, когда ему, наверное, было хорошо за тридцать, Уиттингтон получает ранг олдермена — старшего советника. А шерифом становится в 1394-м.
Его продвижение по службе ничем не примечательно — не особенно быстрое и не медленное, — но теперь у него достаточно деньжат, чтобы стоять в одном ряду с большими богачами того времени — такими как Брембр или Уильям Уолворт. Решающий момент наступает в 1397 году, когда правление Ричарда II судорожно приближается к концу.
Вы помните, что король недолюбливал Сити за участие в попытке переворота против него лордов-апеллянтов, и вы помните, что Ричард преследовал демократические институты Сити, назначив своего собственного управляющего. После смерти мэра, Адама Бамме, он единолично решил сделать мэром Лондона Ричарда Уиттингтона. «Это человек, — сказал король, — чья преданность и осмотрительность не вызывает у нас никаких сомнений». Но Дик Уиттингтон знал, что нехорошо выглядеть королевской марионеткой. Ему нужна была поддержка его коллег. Должны состояться выборы. И так уж получилось, что за 10 000 фунтов, выплаченных его величеству, он умудрился выкупить и вернуть городу древние привилегии и свободы самоуправления, дарованные еще Завоевателем, и 13 октября 1397 года он был, как полагается, по всем правилам, избран мэром, с одобрения не только короля, но также и купцов Сити.
Два года спустя случился переворот. Генрих Болингброк взял власть, Ричард умер от голода в неволе, и родилась новая династия. И все же Уиттингтон продолжал идти вперед на всех парусах независимо ни от чего; новый король Генрих IV даже согласился, чтобы ему выплатили долг в размере 1000 фунтов, которые задолжал ему Ричард II. Отличный комплимент хамелеоновским качествам Уиттингтона: королю пришлось платить ему долги, сделанные другим королем. Дику Уиттингтону хватало хитрости и такта, чтобы ладить с кем угодно.
Он продал товаров на 2000 фунтов Роберту де Веру, пресловутому фавориту, а может, и любовнику Ричарда II. Помните, как трещала в огне дорогая драпировка в лондонском доме Джона Гонта во время восстания крестьян? Уиттингтон поставил замену той обивки. Когда Бланш и Филиппа, дочери Генриха IV, искали к свадьбе шелка, не кто-нибудь, а именно люди Уиттингтона явились к ним с портновской рулеткой. Очень соблазнительно было бы считать, что его уверенность и опыт обеспечили ему влияние на женщин королевского дома, без которых наверняка не обошлось, когда решались вопросы цвета, стиля и хорошего вкуса. Надо, однако, сказать, что лучший галантерейщик Лондона имел кое-что и помощнее, чтобы привязать к себе своих королевских клиентов. Между 1392 и 1394 годами он продал товаров на сумму 3500 фунтов родственникам Ричарда II и был слишком умен, чтобы просто положить в карман доходы от этих сделок. Он одолжил их обратно жадным до денег монархам Англии.
Начиная с 1388 года он выдал короне не менее шестидесяти займов, самые большие — Генриху IV и Генриху V, и это притом что ростовщичество было запрещено.
Англия того времени была правильной католической страной, послушной учению Библии. «Ростовщичество любой одолженной вещи является нечистым», — гласит Второзаконие, а Амвросий Медиоланский в V веке яростно выступал против самой концепции кредитования деньгами под проценты. «Ты собираешь богатства от страданий всех и называешь это трудолюбием и осмотрительностью, когда это не что иное, но хитроумие и ловкий трюк торговли!» — сказал Амвросий, и он, несомненно, говорил и от имени многих, кто годами вынужден был платить сборы, налагаемые британскими банками. В 1139 году Второй Латеранский собор пришел к выводу, что ростовщичество есть воровство, и оно было запрещено для всех, кроме евреев. А евреи могли продолжать давать деньги в рост — при внимательном прочтении Второзакония обнаружили, что взимать проценты запрещается «с брата твоего», а под «братом» решили понимать других евреев. А кредитовать гоев — это пожалуйста.
Надо сказать, что евреи ужасно страдали из-за этой функции, которую в настоящее время повсеместно (за исключением, возможно, Тегерана) признают жизненно важной для развития капиталистической экономики. История средневекового преследования евреев в Англии настолько отвратительна, что мы порой готовы впасть в грех и «отретушировать» историю в учебных программах: массовые убийства в Лондоне и Йорке в 1189–1190 годах; поведение Симона де Монфора при изгнании евреев из Лестера. Были и сотни других позорных эпизодов. В 1290 году Эдуард I изгнал евреев из королевства вообще, и главные ростовщики английской экономики вернулись только при Оливере Кромвеле.
На этом рынке возникла ниша, и Уиттингтон занял ее с еврейской хуцпой — наглой изворотливостью. Он не брал процентов со своих займов — о нет, упаси бог, никаких гнусных процентов. Он просто сделал так, что его освободили от различных сборов и налогов, которые полагались королевскому дому. А поскольку в экономике доминировала торговля шерстью, неудивительно, что наиболее прибыльным постоянным источником королевских доходов была «субсидия на шерсть» — налог, уплачиваемый королю на экспорт шерсти и тканей на континент. В обмен на свои кредиты Уиттингтон получил патентную грамоту короля, она освобождала его от субсидии на шерсть, а если он не платил субсидий на шерсть, он мог экспортировать этот товар дешевле, чем кто-либо еще, и тогда он зарабатывал еще больше денег, и занимал королю еще больше, и выгадывал для себя все больше освобождений от налогов и все большую долю рынка.
К 1404 году он экспортировал шерсть из Лондона и Чичестера, а в 1407-м получил монопольное право на экспорт шерсти из Чичестера, отправляя в Кале шесть кораблей общим количеством 250 мешков. Умело манипулируя своим положением крупного кредитора короны, он умудрялся успешно блюсти свой коммерческий интерес. На каком-то этапе он последовал по стопам Чосера, став «коллектором таможенных сборов и субсидий на шерсть в Лондоне». Это очевидный конфликт интересов. Это все равно что попросить исполнительного директора банка Goldman Sachs выступать одновременно в качестве руководителя Службы финансовых услуг. Теперь он мог сам себе предоставлять лицензию на экспорт шерсти без уплаты таможенных пошлин.
Уиттингтон разбогател за счет ухода от уплаты налогов в грандиозных масштабах. Он скрывал или маскировал проценты, которые получал по своим кредитам. И все же он был так почитаем обоими столпами лондонской власти — двором и Сити, — что его не только произвели в рыцари при Генрихе V, но и позвали заседать в суде по делам ростовщичества в 1421 году — как будто сам он не занимался ростовщичеством под другим названием.
Мир королевских финансов был усеян сверхчувствительными минами. Только гений мог избежать их все и выжить, и надо признать, что Дик Уиттингтон был гениальным финансистом, потому что на протяжении всей своей жизни пользовался доверием, а это самое главное. Уже в 1382 году он был тем человеком, которому легко доверяли жемчуг и драгоценные камни и другие товары, на общую сумму 600 фунтов стерлингов, и, судя по всему, не требовали гарантий.
Он пользовался таким авторитетом, что в 1406 году его снова избрали мэром и еще раз в 1419-м (в четвертый раз, если считать его первоначальное назначение Ричардом II), и умер он в 1423 году, имея рыцарский титул и чуть ли не самую безупречную репутацию из всех деловых людей, живших до него и после. Он был банкир, по сути, ростовщик, а все равно его жизнь постоянно преподносят как героическую сагу про «победу над обстоятельствами» и «успех вопреки всему», короче — «из грязи в князи».
Тому, что сегодня образ Дика Уиттингтона окружен ореолом, есть простое объяснение: он делился, и делился он щедро, что совершенно чуждо культуре сегодняшней Британии, хотя в современной Америке это, пожалуй, присутствует.
Ко времени его смерти едва ли была хоть одна сфера жизни Лондона, не ощутившая его благодеяний. Он украшал и улучшал Гилдхолл. Он контролировал расходы на завершение строительства Вестминстерского аббатства. Он был настолько потрясен условиями в Ньюгетской тюрьме, где заключенные мерли как мухи от тюремной лихорадки, что открыл отдельную тюрьму для должников в Ладгейте. Он создал палату для матерей-одиночек в больнице Сент-Томас и дренажные системы для районов Биллингсгейт и Криплгейт.
Он перестроил свою собственную приходскую церковь Св. Михаила Патерностер Ройял и был настолько сердобольным, что обеспечил жилье своим ученикам в своем собственном доме и как мэр провел закон, запрещающий стирать шкуры животных в Темзе в холодную, влажную погоду, потому что многих учеников принуждали делать это и они умирали от переохлаждения. Он инициировал строительство одного из первых общественных питьевых фонтанов в Лондоне — возможно, самого первого; и он создал общественный туалет, возможно, первый с римских времен, в приходе святого Мартина в Винтри. Нельзя сказать, что этот туалет отличался высоким уровнем технического совершенства или санитарии — смывался он водами Темзы во время приливов, — но все-таки представлял собой скромный шаг вперед в деле улучшения средневековой гигиены, и о нем — о туалете — долго помнили как о «длинном доме Уиттингтона». Поток денег не прекратился и после его смерти, ручейки денег текут и сегодня. Уиттингтон женился на Алисе, дочери сэра Хью или сэра Джона (или даже сэра Иво) Фитцуоррена, но, похоже, у них не было детей, и в своем завещании он оставил 7000 фунтов на финансирование такого проекта, который обычно финансирует государство. На деньги Уиттингтона отремонтировали больницу Святого Варфоломея. В соответствии с его завещанием был создан траст, по-прежнему находящийся в ведении компании Mercers, которая ежегодно раздает деньги 300 беднякам, и по сей день — шесть сотен лет спустя — Дик Уиттингтон продолжает предоставлять места в богадельнях тем, кто оказался в затруднительном положении.
В селе Фелбридж вблизи Ист-Гринстед есть пятьдесят шесть квартир для одиноких женщин или семейных пар с низкими доходами. Зайдите на веб-сайт, и вы увидите, что это прекрасные квартиры, расположенные посреди розового сада. Среди них есть студии, квартиры с одной и двумя спальнями для тех, кому за шестьдесят и кто оказался в стесненных обстоятельствах. Там, правда, запрещено держать домашних животных — кстати, а почему в художественных книгах Уиттингтон имеет кота, но в исторических хрониках ни словом не упоминается о его четвероногом друге?
Некоторые говорят, что это связано с одним из изображений Уиттингтона, на котором его рука покоилась на черепе, пока изображение не сочли слишком мрачным и череп заменили кошкой. Некоторые говорят, что это отголосок сказки X века из Аравии, где рассказывается о бедном мальчике, все имущество которого состояло из кошки, которая ловила мышей, и который стал одним из великих людей королевства. Но ответ, конечно, очевиден.
То, что последующие поколения снабдили Дика Уиттингтона кошкой, объясняется тем, что это делало его образ еще добрее и мягче и человечнее. Это соответствовало его характеру, как его стала понимать лондонская публика. Он мог быть беден, но, как и многие бедные люди, не настолько беден, чтобы отказать себе в кошке; и, так как англичане необычайно любят животных, кот стал символом необычайной щедрости души Уиттингтона.
В этом смысле миф поэтизирует действительность. Лондону нужна была энергия и капиталистическая предприимчивость Уиттингтона. Сменяющим друг друга королям необходима была помощь в финансировании их затей. Азенкур, эта знаковая победа над французами, воспетая Шекспиром как критический момент в становлении английского духа, частично финансировалась Уиттингтоном. Он был крупным игроком в экономике и политике, но именно благотворительность позолотила его репутацию.
Он заслужил свою репутацию, и чем больше мы углубляемся в правду, стоящую за легендой, тем больше мы его уважаем. В 1569 году «Хроника» Ричарда Графтона заключает перечень его наследства и актов благотворительности таким увещеванием: «Зри сие, старейшины, ибо сие есть славное зерцало». В том же духе мы можем сказать сегодня: «Воззритесь на Дика Уиттингтона, банкиры и плутократы Лондона, ибо сие есть славный пример».
Для сравнения, стандартная басня про Дика Уиттингтона.
Давным-давно жил бедный мальчик, которого звали Дик Уиттингтон. Ни матери у него не было, ни отца, а часто и есть было нечего. Однажды он услышал про великий город Лондон, где, как все говорили, даже улицы были вымощены золотом. Дик решил поехать в Лондон, чтобы искать счастья.
Лондон был большой и шумный город, полный людей, богатых и бедных. Но Дик не нашел ни одной улицы, которая была бы вымощена золотом. Усталый, замерзший и голодный, он заснул на крыльце большого дома. Этот дом принадлежал мистеру Фитцуоррену, богатому купцу, который к тому же был хорошим и щедрым человеком. Он взял Дика в свой дом и дал ему работу судомойки.
У Дика была отдельная маленькая комната, где он мог бы быть очень счастлив, если бы не крысы. Они бегали по нему, когда он лежал ночью на постели, и не давали ему спать. Однажды Дик заработал один пенни, начистив туфли для джентльмена, и на него он купил кошку. После этого жизнь Дика стала легче, кот распугал всех крыс, и Дик мог спать спокойно по ночам.
Однажды мистер Фитцуоррен собрал вместе всех слуг дома. Один из его кораблей отправлялся в далекую землю с товарами для продажи. Мистер Фитцуоррен предложил слугам отправить что-нибудь из их вещей на этом корабле, если они того пожелают, — что-то такое, что можно обменять на золото или деньги. У Дика был только его кот, которого он мог отправить, что он и сделал с печальным сердцем.
Дик продолжал работать судомойкой у мистера Фитцуоррена, который был очень добр к нему. И все остальные были к нему добры, кроме повара, который так издевался над Диком, что однажды Дик решил бежать. Он уже почти вышел из города, когда услышал звон колоколов церкви Боу. «Вернись, Уиттингтон, трижды лорд-мэр Лондона», — прогудели колокола. Дик был поражен, но сделал так, как сказали колокола, и вернулся к мистеру Фитцуоррену.
Когда он вернулся, он обнаружил, что корабль мистера Фитцуоррена вернулся и что его кота продали за огромные деньги королю Берберии, дворец которого был полон мышей. Дик стал богатым человеком.
Он вскоре выучился ремеслу у мистера Фитцуоррена, женился на его дочери Алисе и со временем стал лорд-мэром Лондона три раза, как и сказали колокола.
Есть и еще одно, последнее, достижение Дика Уиттингтона, о котором следует упомянуть. Именно благодаря одному из его посмертных даров в 1423 году была открыта первая лондонская публичная библиотека.
Она была расположена рядом с Гилдхоллом, и идея заключалась в том, чтобы дать горожанам доступ к книгам, которые были доступны только духовенству или аристократии. До 1476 года библиотека пополнялась книгами, напечатанными Уильямом Кэкстоном на его замечательном новом станке, а затем произведениями, сошедшими с книгопечатных прессов Винкина де Ворде.
К последнему году своей жизни, 1535-му, Винкин опубликовал 800 книг, и этот прорыв в доступности печатного слова — как для чтения, так и для продажи — имел бесчисленные последствия для интеллектуальной и религиозной жизни Лондона. Это было началом массового рынка литературы всех видов.
В следующем году король Генрих VIII распустил монастыри — в истории правительств всех стран и народов это величайший ход в пользу развития деловой активности. Внезапно церковные земли и собственность стали доступны претендентам из торговых классов. Ценнейшее имущество стало доступным: налетай — подешевело!
За дело взялись гильдии. Кожевенники, например, захватили женский монастырь, а мясники забрали дом священника. Вскоре стали создаваться крупные торговые компании елизаветинской поры начиная с компании «Московия» в 1555-м. Это были акционерные предприятия, финансируемые опытными лондонскими банкирами.
Несмотря на неоднократные вспышки чумы, население выросло, Лондон обогнал Венецию и к 1580 году уже ненамного уступал Парижу. Город вырвался из древних границ, расползаясь радиальной тюдоровской застройкой.
В Ист-Энде была смесь жилых построек и малых промышленных концернов: по литью колоколов, изготовлению стекла, резьбе по слоновой кости и рогу, а затем по шелкоткачеству и изготовлению бумаги. В Вест-Энде богатые люди начали строить шикарные дома. Из бедных районов страны прибывали тысячи мигрантов, и Лондон начал аккумулировать все большую долю английской торговли и английского населения.
С появлением грамотной и процветающей буржуазии возник рынок развлечений, который дал работу тем, кто мог не только придумать хороший рассказ, но тонко, или не так уж и тонко, прославлять культуру и достижения елизаветинской Англии. Уиттингтон не только заплатил за Азенкур — он субсидировал литературную культуру Лондона, которая в конечном итоге прославит эту битву на высшем художественном уровне.
Вы думаете, что сливной туалет изобрел Томас Крэппер, не так ли? Ошибаетесь, друзья.
Если вы пойдете в Гладстонский музей керамики в Сток-он-Тренте, вы увидите модель очень занимательного и изобретательного устройства, которое первоначально предназначалось для размещения на нем ягодиц королевы-девственницы. Всего было изготовлено лишь два таких замечательных устройства — и одно из них находилось в Лондоне.
Оно было установлено в теперь разрушенном дворце королевы в Ричмонде около 1596 года и было изобретением сэра Джона Харингтона — ее крестника и одного из самых своенравных придворных.
«Большой Джек» Харингтон был немного темной личностью и тщеславным придворным, который однажды нарвался на неприятность, когда перевел с итальянского непристойные стишки и стал распространять их среди придворных дам.
Его несколько раз ссылали. Однажды вечером он томился в Уилтшире, в компании графа Саутгемптона, покровителя Шекспира, и разговор принял копрологический поворот.
Технические проблемы, которые они обсуждали, навеяли ему туалетный трактат под названием «Метаморфозы Аякса». Аякс — это был каламбур на «а jakes», как тогда называли туалет. Он послал результат своих трудов, дополненный чертежами, королеве.
Он ясно дал понять, что цели разработки нового сортира были социальные и политические — вернуть расположение королевы и «дать повод думать и говорить обо мне». Это ему удалось.
Королева, как ему сообщили, была довольна его усилиями, и новое изделие было установлено.
Модель в Стоке построена под его личным руководством и состоит из прямоугольной деревянной скамейки с круглым отверстием — концепция знакомая, по крайней мере, со времен Римской империи. Революция заключается в большом квадратном бачке сзади и овальной свинцовой емкости под скамейкой, заполненной водой на высоту около пятнадцати сантиметров. Овальная емкость имеет наклон к пробке, к которой прикреплен длинный стержень с ручкой на конце. Когда хочешь опустошить емкость, тянешь за ручку — и содержимое емкости сливается вниз через скрытый канал.
Затем пробку на конце емкости снова закрываешь и наполняешь ее водой, потянув за другой рычаг в бачке с пробкой на конце.
Гениально!
Если не считать, что ручек две, сливной туалет Харингтона в общем и целом похож на современный туалет и далеко ушел от «длинного дома Уиттингтона».
Увы, почему-то не прижился.
Хотя изобретение Харингтона было благожелательно встречено королевой (которая была чрезвычайно требовательна к своей личной гигиене и «всегда брала ванну раз в месяц, даже когда она в ней не нуждалась»), потребовалось еще двести лет, прежде чем что-нибудь подобное появилось для общего потребления.
Этот преждевременный прорыв, возможно, свидетельствует о растущем интересе к чистоте в период после Реформации, а также о том, на что готовы лондонские придворные, чтобы угодить своей королеве.
Некоторые писали ей эпические поэмы, некоторые — сонеты. Некоторые привозили ей культуры новых растений с новых континентов. Некоторые выступали перед ней целыми компаниями, а некоторые проектировали для нее новые туалеты, в надежде восстановить себя в ее глазах.
Это в честь Джона Харингтона (так, по крайней мере, иногда говорят) американцы называют современный сливной туалет «Джон».
Уильям Шекспир
…и как Лондон стал колыбелью современного театра
Незадолго до открытия реконструированного театра «Глобус» в Саутворке в 1997 году я отправился брать интервью у курносой звезды «Гарри Поттера» Зои Уанамейкер, покойный отец которой, Сэм, был тем самым выдумщиком, благодаря которому это все случилось.
Я не знал чего ждать от этого интервью и, может быть, поэтому не подготовился к нему со свойственным мне вниманием к деталям. Но, когда Зои и я вошли и остановились посередине деревянного овала, который задумывался как зрительный зал, должен признаться, я слегка оторопел.
«Вы хотите сказать, что тут не будет кресел?» — спросил я у Зои.
«Совершенно верно», — ответила она.
«И вы серьезно считаете, что люди придут и будут стоять часами и слушать Шекспира?»
«Конечно, будут», — сказала она с американской жизнерадостностью.
Сначала я подумал, что меня разыгрывают, но в ту пору я был слишком вежливым, чтобы это высказать. Если посмотреть на всю историю театра эпохи королевы Елизаветы, просто невероятно, на какие жертвы идут люди ради искусства.
Им приходилось выходить за пределы города и направляться в «места вольностей», запрещенные законом районы борделей, где были разрешены театры, в такие районы, как Саутворк, имевшие дурную репутацию — как места обитания проституток, травли медведей и воровства. Им приходилось зажимать носы, проходя мимо производств, вынесенных за городские стены, — по валянию шерсти, смердящих аммиаком, получаемым естественным образом — из мочи; по варке клея, при которой кости кипятят до полного растворения, пока от них не останется одна вонь. И если этого было мало, чтобы сбить вас с ног, то нужно было миновать еще и дубильщиков, которым нравилось размягчать шкуры, замачивая их — как бы выразиться поизящнее — в чанах с разжиженным собачьим дерьмом. А уж потом они попадали в театр, у которого не было крыши, где приходилось щуриться от солнца или, наоборот, можно было промокнуть.
Не было ни системы обогрева, ни системы охлаждения здания. Все сооружение подвергалось постоянному риску возгорания или обрушения, как это и случилось с театром на Сент-Джон-стрит, который рухнул, и там погибло тридцать или сорок человек и «две хорошие, красивые проститутки». Везде были карманники, и женщины все время боялись, что к ним под юбку полезут за деньгами. Не было туалетов, и некоторые театралы были вынуждены облегчаться на ноги впередистоящих, так что почва под ногами походила на перегной из разлитого пива и устричных раковин и других еще менее здоровых веществ.
Что касается собственно толпы — по этому поводу много дискутировали, но большинство сошлось на том, что она действительно состояла в основном из лондонской черни. Как с негодованием докладывал Тайный совет в 1597 году, это бродяги, люди без профессии, воры, казнокрады, сутенеры, ловцы кроликов, злоумышленники и прочие праздные и опасные личности. Когда они откидывали назад свои покрытые коростой головы и открывали рты с гнилыми зубами, чтобы посмеяться или завопить в один голос, актеры на сцене окунались в то, что драматург Томас Деккер называл «дыханием огромного зверя». Это были «дешевые вонючки», говорил он. За свои гроши они не получали грандиозных зрелищ.
Занавеса не было. Декораций было немного. Костюмы были небрежно сшиты из обносков богачей. Освещение было любительским, а для спецэффектов использовались в том или ином виде кровь и разные органы овец. Не было хорошеньких актрис, на которых можно было бы полюбоваться, потому что, исходя из каких-то чисто английских соображений, которые никто нигде в Европе не разделяет, все женские роли играли мужчины.
Действо могло продолжаться три-четыре часа и заканчивалось джигой — чудным танцем Елизаветинской эпохи, похожим на шуточную пьесу с участием хора сатиров после древнегреческой трагедии, но для нас немного загадочным. Если вы платили шиллинг, то могли сидеть на диване на месте для лордов; если платили шесть пенни, то могли рассчитывать на относительно удобное место для джентльменов; но подавляющее большинство было готово заплатить немалые деньги — достаточные для того, чтобы купить буханку хлеба весом в фунт… и стоять в условиях крайнего неудобства.
На такие условия никакая современная английская публика в жизни не согласится и на футбольном стадионе, не говоря уже о театре. А в Елизаветинскую эпоху публику все устраивало, и неделя за неделей она валила в театр огромными толпами. В любой день в театрах, если они не были закрыты из-за эпидемии чумы, шли две пьесы, каждую из которых смотрели две-три тысячи человек. Значит, в течение недели, из которой, допустим, пять дней шли спектакли, пятнадцать тысяч лондонцев платили за просмотр одной пьесы. Это шестьдесят тысяч зрителей в месяц — в городе с населением двести тысяч!
Более трети взрослого населения Лондона каждый месяц ходили на представление. Это были натуральные театральные фанаты. Чтобы удовлетворить их спрос, ставились сотни, если не тысячи пьес, а до нас дошла только жалкая часть, но почти четверть из тех, что дошли до нас, принадлежали авторству одного человека. По всеобщему мнению, был только один человек, который по-настоящему оправдывал жертвы, на которые шла публика елизаветинского периода. С помощью слова, которое было иногда странным и новым, но всегда завораживающим, неудобства зрителей оправдывал Уильям Шекспир.
Он преобразил и улучшил атмосферу «Глобуса». Он открыл для зрителей окно в такой мир и такую жизнь, о которых они даже не мечтали. Он превратил пустые подмостки в лагерные костры перед битвой при Азенкуре, в сцену смерти Клеопатры на берегах Нила, в населенные привидениями шотландские замки, в темные, неясные очертания зубчатых стен Эльсинора и в освещенный светом окна балкон в Вероне, где прекрасная молодая девушка (которую, гммм, играл мальчик) появлялась перед возлюбленным, видеться с которым ей было запрещено.
Его драмы приобрели мировую известность, с удивительной скоростью распространяясь за океанские просторы вместе с набирающим уверенность все более предприимчивым английским торговым флотом. В 1607 году — автору суждено было прожить еще девять лет — «Гамлета» и «Ричарда II» играли на борту корабля, отплывающего из Сьерра-Леоне. В 1608 году меланхоличный датчанин был представлен публике там, где сейчас находится Йемен. К 1609 году призрак отца Гамлета впервые появился на импровизированных зубчатых стенах где-то в Индонезии; а к 1626 году принца, помышляющего о самоубийстве, слушала публика Дрездена — спектакль шел на немецком.
Представление разыгрывалось труппой немцев, которые называли себя «английскими комедиантами» в знак уважения к источнику происхождения этого вида искусства. Дело в том, что именно Англия — или, точнее, Лондон, и никакой другой город, был инициатором экспорта коммерческого театра.
В течение семидесяти лет начиная с 1576 года, когда Джеймс Бёрбедж открыл свой первый театр, и до гнусного закрытия театров пуританами мы видим такой расцвет, которого не было ни до, ни после. Именно концепция коммерческого соревновательного театра — вы заставляете их смеяться, вы заставляете их плакать, и, главное, вы заставляете их платить — является прямым прародителем кино — величайшей формы массового искусства нашего времени, и начало ей было положено в Лондоне.
Да, в Испании был великий театр, но Siglo de Oro[5] пришел после эпохи королевы Елизаветы и его репертуарная палитра была ограниченной и сводилась в основном к противоречиям аграрного, феодального общества. Конечно же были театры и в Венеции, но опять-таки они появились позже и не могли сравниться по масштабу с театральной индустрией Лондона. Франция породила таких столпов, как Корнель, Мольер, Расин, но они творили на поколение, если не на столетие позже.
И именно Шекспир был главным божеством специфического лондонского жанра. Такого мирового почитания не достиг ни один другой писатель. В Библиотеке Конгресса имеется семь тысяч посвященных ему работ, а в Германии, Греции, Испании, Бельгии, Турции, Польше, Корее, Бразилии и Мексике проводится ежегодный шекспировский фестиваль. Он переведен на девяносто языков. Китайские профессора посвящают свою жизнь его работам. Онлайновая игра «Ромео и Джульетта» сегодня привлекает двадцать два миллиона игроков. На северо-востоке Индии живет племя, которое называется «мизо», и они регулярно ставят «Гамлета» и считают датского принца своим.
Я никогда не забуду, как во время поездки в брежневскую Москву в 1980-м я наблюдал, как сотни углубленных в свои проблемы русских потоком шли в какой-то мрачный грязный театр, чтобы послушать английского актера, читавшего монологи из Шекспира, включая конечно же и размышления Гамлета над дилеммой, убить ли ему себя или восстать против судьбы.
После спектакля затюканные товарищи вышли на ночную улицу молча, кроме одного тощего паренька в плоской кепке, заметившего группку английских школьников и решившего блеснуть: «Быть или не быть — вот в чем вопрос!» Он постучал по своему экземпляру полного собрания сочинений и пробудил мое юношеское воображение времен холодной войны. Сочувствовал ли он принцу, окруженному клаустрофобным лицемерием замка Эльсинор? Пытался ли он сказать нам, что что-то прогнило в государстве Российском? Был ли он очередным Сахаровым, вооруженным томиком Шекспира?
Или ему просто было приятно (а ему, конечно, было приятно) продемонстрировать свои поверхностные знания Шекспира? Но что бы там ни было, моя душа шестнадцатилетнего подростка гордилась тем, что он цитировал нашего парня.
Шекспир — величайший герой английского языка за всю его историю, его полномочный представитель. Он — наш самый значительный вклад в мировую культуру, наш ответ на Бетховена и Микеланджело, и ответ вполне достойный. Он — наш величайший источник слов, характеров и ситуаций. Его справедливо можно назвать универсальным автором. Он — наш Гомер.
О Шекспире мы знаем больше, чем о любом другом драматурге эпохи Елизаветы, и при этом мы не знаем почти ничего. Каждый факт или фактоид является хрупким крючком, на который вешается огромное пальто, набитое предположениями, с карманами, полными домыслов.
Мы знаем, что он родился в 1564 году, приблизительно в день святого Георгия, и его отец, Джон Шекспир, был видным человеком, заработавшим деньги как перчаточник или шорник на выделке кожи. Полагают, что Шекспир в юности бывал на бойне, и некоторые авторитеты прослеживают в его работах особые познания в области кровопролития, кровавой бойни и расчленения. Шекспир-старший был человеком ротарианского типа, выросшим от простого помощника пивовара до шерифа городка Стратфорд-на-Эйвоне — фактически мэра города.
Джон Шекспир был, вероятно, небезупречным человеком — в 1522 году его оштрафовали за незаконное хранение кучи навоза, а позже обвинили в ростовщичестве — очень серьезном преступлении. Но у него было достаточно денег, чтобы дать Уильяму прекрасное образование (так мы думаем) в местной средней школе, по окончании которой молодой человек, по крайней мере, знал латынь не хуже, чем современный выпускник университета по специальности классическая литература (что не значит хорошо). Мы знаем, что в 1582 году Уильям Шекспир женился на Анне Хэтэуэй, будучи совсем молодым человеком восемнадцати лет.
А поскольку ей было двадцать шесть и у них родилась дочь Сюзанна через шесть месяцев, мы можем сделать вывод, что это было делом обычным. Мы знаем, что через два года у них родились близнецы, девочка Джудит и мальчик Хемнет, умерший в детском возрасте. Мы знаем, что он покорял Лондон где-то между 1585 и 1592 годами, когда его впервые признают как публикуемого драматурга, но на главные вопросы у нас нет ответа. Мы не знаем, почему сын перчаточника стал актером и драматургом. Мы не знаем, почему он поехал в Лондон. Нам не на что опереться, кроме слухов. Может быть, его преследовали за браконьерскую охоту на оленей в Чарлекоут-парке в Оксфордшире. А может, он был тайным инакомыслящим, который искал работу в католической семье в Ланкашире. Он мог быть наемником во Фландрии или путешественником в Италии или отплыть в испанские колонии в Америке с Дрейком. У нас нет никаких реальных доказательств ни для одной из этих более или менее сумасбродных гипотез.
Но по той или иной причине — возможно, просто потому, что ему нужно было кормить семью, а это был самый лучший и приятный способ заработать деньги, — он и приехал в Лондон. В какой-то мере это был все тот же город, который открыл для себя Дик Уиттингтон. Старина собор Св. Павла все еще стоял на месте, хотя его шпиль, поврежденный молнией, сняли. Ратуша и биржа, как сообщалось, выглядели превосходно, и к тому времени было построено сто двадцать церквей. Уже стали есть картошку, кроме некоторых воздержавшихся, считавших это причудой, которая навряд ли приживется.
Любой, кто побывал в каком-нибудь городе современных Ближнего Востока или Индии, поймет, что происходило в Лондоне эпохи Елизаветы. Город начал бурно разрастаться беспорядочными застройками, возведение антисанитарных сборных доходных домов вытеснило все старые технологии вопреки запрету властей. С 1560 по 1600 год население Лондона удвоилось, и эта когда-то периферийная римская колония стала значительно больше, чем породивший ее город на Тибре. Население Лондона было больше любого другого европейского города за исключением, пожалуй, Парижа и Неаполя, и город все время рос. Это был самый большой торговый центр Европы, где торговали не только шерстью и сукном, которые экспортировались со времен Средневековья. Лондон был теперь перевалочным пунктом транзитных грузов, где купцы из Испании и Италии могли найти меха с побережья Балтики и соленую рыбу из Ньюфаундленда, и с ростом торговли здесь впервые в Европе появилась большая прослойка среднего класса.
По оценкам, 10 % населения имели право на пособие по бедности, двадцать пять — были достаточно богаты, чтобы платить королевские сборы (или налоги), но, как пишет один наблюдатель, «большая часть не слишком богата, но и не слишком бедна и живет посредственно». Чего же хотели люди, жившие посредственно? А хотели они того же, чего хотим и мы, люди среднего класса.
Они хотели пьянствовать. Между 1563 и 1620 годами импорт вина из Франции и Испании возрос в пять раз.
Они хотели секса. Около 40 % мужчин, живших в районе Клинк в Саутворке, были лодочниками и зарабатывали на жизнь, переправляя клиентов к проституткам.
И они хотели развлечений. После бесцветной чопорности эпохи Реформации, битья оконных витражей они хотели цвета и зрелищ и коллективного выброса эмоций. Конечно же были зрелища с варварскими сценами, в которых на медведей спускали собак или иногда импресарио потешал толпу, привязав к спине лошади обезьяну, на голове которой сидела собака. Но медведи были дороги, а человеку присуще желание видеть самого себя, видеть в зеркале свою собственную жизнь, и поэтому странствующие труппы разыгрывали скетчи и сценки во внутренних дворах гостиниц, где были балконы. Со временем импресарио сообразили, что такие зрелища могут приносить серьезные деньги, и в 1576 году актер по имени Джеймс Бёрбедж совершил прорыв.
Почему бы для этих целей не отвести постоянное место, как это сделали в древних Афинах, но на чисто коммерческой основе? Вскоре театры разрослись по периметру города, английские театры, больше похожие на харчевни, чем на Эпидавр. Чтобы понять, почему Шекспир появился в конце XVI века, нужно помнить, что это были коммерческие предприятия и играли в них конкурирующие труппы.
Такие люди, как Филипп Хенслоу, который владел театрами «Роза» и «Фортуна», платили авторам от трех до пяти фунтов и могли возвратить эти деньги за один вечер — если пьеса была ходовой. Так неожиданно возник стимул не только писать, но и стараться писать лучше всех. И если ты был таким человеком, как Хенслоу или Бёрбедж, то тебе было важно, чтобы задницы зрителей протирали сиденья твоего театра, и ты готов был платить таланту за нужный материал.
Шекспир был всего лишь одним из представителей этого цеха, где по крайней мере пятнадцать мужчин среднего класса занимались одним и тем же делом и где каждый из них состязался за то, чтобы его больше ценили, больше хвалили и чтобы поэтому ему больше платили, чем остальным. Это были Джордж Чапмен, Генри Четтл, Джон Дэй, Томас Деккер, Майкл Дрейтон, Ричард Хэтэуэй, Уильям Хотон, Томас Хейвуд, Бен Джонсон, Кристофер Марло, Джон Марстон, Энтони Мандей, Генри Портер, Роберт Уилсон и Уильям Шекспир. Они крали друг у друга идеи, они вдохновляли друг друга, они заставляли друг друга проявлять невиданное усердие. В этом и состоит смысл конкуренции среди определенной группы талантливых людей — так рождаются гении. Вспомните Лос-Аламос. Вспомните Блетчли. Там тоже правили ревность и зависть.
Широко известен случай, когда Ричард Бёрбедж, назначивший поклоннице тайную встречу у дверей сцены, пошел переодеться и обнаружил, что Шекспир опередил его, шутливо заметив, что «Уильям Завоеватель пришел раньше Ричарда». Иногда дело доходило до физического насилия. Марло убил человека и был убит сам во время загадочной ссоры в харчевне в Дептфорде. Бен Джонсон убил восходящую звезду по имени Габриэль Спенсер на дуэли и избежал виселицы только благодаря тому, что прочел первый стих 51-го псалма из Библии на латыни, воспользовавшись средневековой лазейкой в законе, дававшей возможность грамотным уйти от наказания. На большой палец ему поставили клеймо — букву «Т» — Тайберн, место, где казнили преступников, — а это значило, что за следующее преступление его повесят.
Естественно, что в атмосфере такой жестокой конкуренции актеры и драматурги применили систему страхования рисков и разделенной ответственности и сформировали компании — точно такие же, коммерческие, как те, что создаются для распределения рисков при отправке кораблей вокруг света. Вслед за созданной в 1555 году компанией «Московия» в 1581 году появилась турецкая компания, в 1583-м — компания «Венеция», в 1600 году — «Ист-Индия» и компания «Вирджиния» — в 1609 году. Как и коммерческие компании, театральные компании занимались поглощениями, охотой за головами, переманиванием и вечной борьбой за долю рынка.
Вспомните, как часто Шекспир сравнивает события с морскими приключениями или коммерческими сделками. Когда стало ясно, что Отелло имел секс с Дездемоной, Яго говорит Кассию: «На суше ночью он захватил галеру Когда законен приз — он будет счастлив». Или когда Брут говорит Кассию в «Юлии Цезаре», склоняя его к участию в убийстве: «Воспользоваться мы должны теченьем иль потеряем груз»[6].
Шекспировский театр был продуктом культуры периода морского предпринимательства, и, по некоторым оценкам, «акционер» или партнер компании King’s Men — кем Шекспир и был — мог получать дивиденды от 100 до 150 фунтов в год, а это вам не птичка чихнула. Лондон был открытым морем, деревянные заборы театров были бортами кораблей, а трофеем была публика, посещающая театр. И каким же образом каждая компания рассчитывала взять на борт максимальное количество клиентов? Изучая их вкусы и предлагая им то, чего им хочется.
Публика хотела романтики, сексуальных переживаний, а «медоточивый Шекспир» был известен тем, что умел мастерски вызывать эти чувства. Говорят, что молодые люди растащили «Ромео и Джульетту» на цитаты, которые использовали для знакомств с девушками. Они любили посмеяться, вот почему в пьесах Шекспира так много каламбуров и комических интермедий — одни быстро устарели, другие устаревали медленнее. Людям хотелось, чтобы в них разбудили чувства. Им хотелось открыть рот от изумления.
Они хотели, чтобы их будоражили скрытые смыслы и политическая злободневность. Шекспировский театр питался энергией двух центров власти в Лондоне: деньгами Сити и политикой из Вестминстера. Это купечество Сити зарабатывало деньги, которыми платили за часы досуга, проведенные лондонцами в театрах, и именно в головах купцов родилась идея антрепренерской акционерной театральной компании.
Именно столичная политика и интриги двора придавали пьесам остроту и актуальность, которая захватывала дух и заставляла зрителя быть в курсе столичных дел. Королева Елизавета отогнала Армаду в 1588 году, она уже казнила королеву Шотландии Марию и многих других. Ее секретная служба не знала пощады, а шпионы были повсюду. Но она была бездетной женщиной в возрасте, и вопрос о наследнике стоял очень остро.
Испанцы всегда могли возобновить свои наскоки. Все время ходили слухи, что они уже высадились на острове Уайт. Люди пытались понять, как эта несчастная слабая женщина выживала в окружении этих хищных придворных, а особенно ее «фаворита», этого честолюбивого и своенравного красавца с округлой бородкой, сочинителя сонетов, графа Эссекского.
Как написал в своей замечательной работе «Год из жизни Уильяма Шекспира. 1599» Джеймс Шапиро, шекспировские пьесы — не оторванные от жизни шедевры, оставленные в наследство человечеству каким-нибудь взъерошенным интеллигентом, запершимся на чердаке. Публика Елизаветинской эпохи требовала произведений, питающихся энергией своего времени и написанных на злобу дня. Драмы Шекспира затрагивают скрытые пласты невысказанной — зачастую невыразимой словами — тревоги о стабильности государства. Множество пьес изучают проблему преемственности власти и опасности, порожденные вмешательством в естественный ход вещей, — «Гамлет», «Макбет», «Юлий Цезарь», «Генрих II», «Генрих IV», «Король Лир» и так далее. Почти четверть его пьес развивают эту тему в той или иной степени.