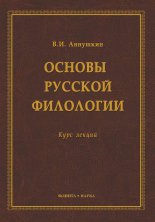Лондон по Джонсону. О людях, которые сделали город, который сделал мир Джонсон Борис

Ее пьяная мать продает ее бандерше за соверен, ее пьяному отцу наплевать. Ее приводят к акушерке, которая проверяет, что она virgo intacta — нетронутая девушка, и Стед сообщает, что юность и невинность девушки вызывают жалость у старой повитухи.
«Бедняжка! — восклицает она, обращаясь к корреспонденту. — У нее такая маленькая, ей будет очень больно. Надеюсь, вы не будете с ней слишком жестоки». Чтобы смягчить процедуру, она дает склянку хлороформа, за которую берет один фунт и десять шиллингов — намного больше реальной цены — и еще фунт и один шиллинг за свидетельство о целомудрии.
Девочку отводят в притон где-то в районе Риджент-стрит. Все тихо и спокойно, говорит Стед… а потом шокирует мир безобразной развязкой.
«Через несколько минут в спальню входит покупатель. Он закрывает за собой дверь и запирает на ключ. Ненадолго воцаряется тишина. И вдруг раздается дикий и жалобный вопль — не пронзительный визг, а беспомощный и растерянный крик, как блеяние испуганного ягненка. И слышно, как ребенок в страхе кричит: “В комнате мужчина! Отведите меня домой, а-а-а, отведите меня домой!” И потом все опять стихло».
Не знаю, удивит это вас или нет, но этот материал разошелся в Лондоне на ура. W. Н. Smith (розничная сеть магазинов книг и периодики) осудила содержание статьи и отказалась продавать газету, но у здания редакции Pall Mall Gazette выстроилась очередь распространителей в надежде, что тираж увеличат, они лихорадочно растаскивали связки газет, как только их подвозили.
Тираж Gazette взлетел до 13 000 экземпляров, мужчины читали ее украдкой, уединялись, чтобы прочитать, или прикрывали шляпой колени, когда читали в поезде. Это был самый большой триумф в головокружительной карьере 36-летнего Стеда.
Прародитель желтой прессы родился 5 июля 1849 года в деревне Эмблтон графства Нортумберленд в семье священника-конгрегационалиста. В пять лет он уже мог бегло читать на латыни. Выиграв конкурс на лучшее школьное сочинение о Кромвеле, он получил в награду сборник стихов американского поэта Джеймса Рассела Лоуэлла. Эти стихи в сочетании с глубоким религиозным чувством подростка породили в нем мессианскую веру в то, что ему суждено искоренить зло этого мира.
Лоуэлл писал, что миссия редактора — быть Моисеем общества: «найти новые скрижали Завета среди фабрик и городов» и «возглавить наш исход в Землю обетованную более справедливого социального устройства».
Это стало откровением, говорил Стед, и моим личным редакторским девизом. «Я чувствую святость власти, данной мне в руки, которую должен использовать во благо бедных, отверженных и угнетенных».
В возрасте двадцати двух лет он стал редактором Northern Echo и развернул свою первую полемическую кампанию против пассивного соглашательства Британии по отношению к зверствам в Болгарии — к резне 1876 года, когда 12 000 болгарских христиан были убиты турками, — после чего Гладстон возобновил свою карьеру.
В 1880 году неуемная энергия и талант привели его в Лондон, где, по его мнению, ежедневные газеты проявляли полную беспомощность. Они были плохо сверстаны, напечатаны мелким, подслеповатым шрифтом, и им удручающе не хватало жизни и огня. Это было «жалкое чтиво», говорил он, «без веса, влияния и собственного лица».
В 1883 году он повел мощнейшее наступление на трущобы, добиваясь принятия нового закона. На следующий год развернул кампанию под названием «Правда о военно-морском флоте» и так пристыдил правительство, что оно нашло 3,5 миллиона фунтов на модернизацию военных кораблей.
Не всем нравилась эта «новая журналистика», как ее называли. Поэт Алджернон Чарльз Суинберн назвал Pall Mall Gazette «Навозной газетой». Мэтью Арнольд называл Стеда «тронутым».
Опасно было то, что конкуренты завидовали ему. The Times провела независимое расследование трагической истории тринадцатилетней «Лили» и выяснила, что все происходило не совсем так, как описал Стед.
Как только эта история получила огласку, пресса и общественность подвергли парламент сильнейшему давлению, требуя повысить возраст согласия на внебрачный секс с тринадцати до шестнадцати лет — а именно этого Стед и добивался! Некоторые члены парламента сомневались, то ли из-за собственных предпочтений, то ли просто не желали, чтобы ими понукала пресса.
Министр внутренних дел сэр Уильям Харкорт умолял Стеда отступить. «Не отступлю, пока закон не будет принят», — сказал Стед и приказал запустить печатные станки. В среду 8 июля — всего через несколько дней после публикации рассказа о Лили — парламент вернулся к рассмотрению законопроекта, и 7 августа он стал законом.
Да, пресса сегодня сильна, да, она может давить политиков по вопросам секса и морали (на ум приходит таблоид News of the World с его атакой на педофилов). Но даже Ребекка Брукс в зените славы не сравнится со Стедом способностью подчинить правительство своей воле.
Но недолго музыка играла. С картинки про бедную малышку Лили и ее «изнасилование» стала облезать краска — прямо клочьями. Сначала, откуда ни возьмись, явилась ее мама и заявила, что слыхом не слыхала ничего о том, что ее дочку, которую в реальности звали Элиза Армстронг, хотели продать в бордель. А там и папа-выпивоха поведал ликующей прессе, что и его никто ни о чем не просил.
И наконец всплыло, что то исчадье ада — «покупатель» Элизы, тот самый мужлан, который в кульминационной сцене взгромоздился на испуганную девочку, был не кто иной (ну конечно же), как Стед. Убежденный трезвенник, он для храбрости, разумеется, хряпнул бутылочку шампанского, перед тем как идти в эту комнату.
Все это вызвало скандал, негодование и веселье. Дело не только в том, что Стед подтасовал факты, он нарушил тот самый закон, за который так успешно боролся. И хотя он не трогал Элизу (он просто хотел показать, что может случиться), его и остальных мистификаторов, включая акушерку и бандершу, обвинили в похищении малолетней девочки.
Героя кампании по борьбе с проституцией осудили за похищение и сводничество и приговорили к трем месяцам тюрьмы, которые он и отбыл — в основном в Холлоуэйской тюрьме. Позже он заявлял, что за решеткой продолжал редактировать свою газету и вообще прекрасно провел время. Но его карьера журналиста в общем-то пошла под уклон.
Он ушел из Pall Mall Gazette, которая вскоре пришла в упадок и в 1921 году превратилась в Evening Standard. Он основал и редактировал Review of Reviews, где первым стал печатать зарисовки про знаменитостей того времени. Там же появились и такие бессмертные заголовки, как «Убийство детей как капиталовложение» и «Следует ли замучить насмерть миссис Мэйбрук». В 1883 году он открыл собственную газету Daily Paper, но тут его репутация стала страдать из-за неприятия им Англо-бурской войны.
Его все больше и больше занимали спиритизм и борьба за мир во всем мире — за что его несколько раз номинировали на Нобелевскую премию, — и он стал терять свое тонкое чувство читательского пульса.
Если отбросить кое-какие нелепые промахи, а также прокол с «Невинными жертвами», в Стеде было что-то неотразимое. Он не был безразличным, он любил журналистику. Своим вниманием к интервью, краскам, цитате, личности и чувству он революционизировал и, на мой взгляд, усовершенствовал эту профессию.
Какой еще редактор может похвастать, что основал две газеты, как минимум трижды заставил правительство принять законы и привлек к своей работе в качестве обозревателей Оскара Уайльда и Джорджа Бернарда Шоу? Он работал с феноменальным упорством, он каждый день садился на поезд в Уимблдоне и ехал на работу к 8.20 утра. По дороге он успевал прочесть в газетах все, вплоть до результатов судмедэкспертизы трупов, хотя день его начинался задолго до этого на общем городском лугу, где он в домашнем халате катал каждого из своих маленьких детей на ослике.
Конечно же он был сладострастен — в классически викторианском стиле. Миссис Линн Линтон даже говорила, что его кожа источает сперму, — уж и не знаю, что она имела в виду. Не думаю, что проект «Невинные жертвы» был ошибкой.
Даже если его методы небезупречны, все равно в пользу Стеда говорит тот факт, что это была одна из первых в мире попыток журналистского расследования. Даже если историю маленькой Лили подтасовали, Стед использовал ее для того, чтобы разоблачить реальную жестокость и насилие, и в этом его заслуга перед обществом.
Жизнь Стеда закончилась 15 апреля 1912 года в результате события, которому суждено было навсегда остаться одним из главных новостных событий XX века. Не было нужды подделывать цитаты, не было нужды, чтобы кто-то исполнял роль по его заказу, не было нужды ставить мизансцены. События сами разыгрались перед его изумленным взором.
Единственное, о чем можно пожалеть, — Стед уже не мог превратить это в газетный номер. Он отправился в Нью-Йорк бороться за мир во всем мире (позже говорили, что за Нобелевской премией, которая его ждала) и каким-то образом умудрился купить билет на первый рейс «Титаника».
Словно демонстрируя свой прославленный дар предвидения, он уже публиковал статьи о том, что произойдет, если посреди Атлантического океана станет тонуть почтовый пароход, на котором слишком мало спасательных лодок, и о лайнере компании White Star, который спасал пассажиров корабля, налетевшего на айсберг. Филипп Мок, выживший пассажир «Титаника», рассказывал, что последний раз его видели в ледяной воде вместе с Джоном Джекобом Астором IV — они цеплялись за спасательный плот, пока не окоченели и не пошли на дно.
По другим свидетельствам, он сперва героически помогал женщинам и детям садиться в спасательные шлюпки. А потом пошел в курительную комнату первого класса, закурил сигару и стал читать книгу. Я предпочитаю верить, что его уговаривали — по примеру менее принципиальных мужчин — найти себе место в лодке. Но, как подобает величайшим из репортеров, он извинился — и остался.
Все, кто видел превосходный фильм Джеймса Кэмерона об этой катастрофе, помнят, что пассажиры «Титаника» жестко разделены на классы. Миллионеры в белых бабочках скользят со своими партнершами по паркету в танцевальном зале, а влюбленные пассажиры третьего класса, подпоясавшись бечевкой, притопывают в пляске и пиликают на скрипочках в дымном брюхе корабля.
В целом это точная модель того мира, которому осталось жить два года. В 1914 году лондонцев захватил водоворот первой из двух подряд мировых войн, которые — вместе взятые — стали катастрофой для Британии и ее коммерческого и политического господства над всем миром. Из одного только Лондона ушли на смерть 124 000 молодых людей, которые погибли в основном из-за идиотски глупой стратегии на Западном фронте. Был убит каждый десятый лондонский мужчина в возрасте от двадцати до тридцати лет. Едва ли найдется семья, которую не затронула эта катастрофа.
Это был удар, который ускорил — вынужденно — эмансипацию женщин и фатально подорвал старую культуру почитания и уважения. Довоенная классовая система не смогла пережить той кровавой бойни. Мира, знакомого нам по телесериалу «Аббатство Даунтон» (если он когда-то и существовал), больше не было. Уинстону Черчиллю во время Второй мировой войны довелось сделать для себя открытие: он узнал, что британские солдаты, которых генералы призывали умереть за свою страну, больше не считают своих генералов мудрыми и справедливыми.
Ну а в прочих отношениях Первая мировая война вообще-то пошла Лондону на пользу. Занятость населения была почти полная, тысячи женщин работали на заводах по производству боеприпасов. Что касается межвоенного периода, то это был просто золотой век. Вспомните элегические стихотворения Джона Бетжемена о Метроландии 1930-х. Или подумайте о сборнике рассказов «Просто Уильям», где маленький мальчик, растущий в лесном Эдеме, ловит в ручьях форель, гуляет с верным псом по кличке Джамбл и играет в обветшалом сарае. Это происходило в Бромли в период между двумя войнами — это был мир, где молодые девушки могли спокойно бродить по лесу, и, как говорится в старой шутке, бродяге ничего не угрожало.
Лондон все быстрее разрастался, он расползался во все стороны благодаря шикарным новеньким электрическим поездам метро, троллейбусам и большим красным омнибусам, урчащим дизелями по узким зеленым улицам. Жители пригородов обитали в просторных и спокойных городах-садах, в домиках на два хозяина, исполненных в псевдотюдоровском стиле или оштукатуренных каменной крошкой. Утром их быстро доставляли на работу в центр, где мощно кипела разнообразная деловая жизнь, а вечером — назад, домой.
В то время как большая часть Британии серьезно пострадала от депрессии 1930-х, Лондон оказался на удивление живучим: здесь производили все — от чипсов Smiths до пылесосов, винтовок и автомобилей. К 1939 году площадь города увеличилась в шесть раз по сравнению с 1880-м, а население достигло пика всех времен — более 8,7 миллиона человек, а это примерно на миллион больше, чем сегодня.
А потом история нанесла Лондону свой второй ошеломительный удар в XX веке. Первый удар город самортизировал и перенес совсем неплохо. Но второй пришелся ему прямо в лицо.
В 1900 году упитанный американец с серебристыми моржовыми усами стоял на холме Хэмпстед-Хит. Он видел дым над городом, жители которого рвались в пригород, но не знали, как туда добраться — транспорта не было. Он видел приятный, но все еще малонаселенный северный пригород Лондона. И он знал, что надо делать.
Чарльз Тайсон Йеркс — так звали этого человека — был финансистом шестидесяти трех лет, а сам себя называл «прохвост из Филадельфии». Он собирался переделать лондонскую подземку. К тому времени ей было почти сорок лет, и уже стали возникать проблемы.
Все началось с того, что лондонскому адвокату по имени Чарльз Пирсон пришла блестящая идея, пока он стоял в дорожной пробке. (Вообще-то многих светлые мысли посещали именно в лондонских пробках. В 1933 году венгерский физик Лео Силард застрял среди обездвиженных машин на Саутгемптон-роу в Блумсбери — и, пока стоял, сформулировал принцип цепной ядерной реакции.) Дорога была так забита конными экипажами, что этому Пирсону захотелось оказаться в поезде… и тут его осенило. «Поезд в трубе, о господи!» — воскликнул он.
К 1845 году идея создания поезда, идущего по трубе, созрела и вылилась в полномасштабный проект подземной железной дороги, связывающей главные лондонские вокзалы — Паддингтон, Юстон и Кингс-Кросс. Момент для этого был — лучше не придумаешь. Все следили за героическим продвижением под Темзой тоннеля Марка Брюнеля — первого тоннеля под рекой в столичном городе — между Ротерхитом и Уоппингом. Знаменитый инженер, отец еще более знаменитого инженера, только что опробовал свое свеженькое изобретение — новый горнопроходческий щит. По его прикидкам, как только пророют тоннель под Темзой, речь, само собой, должна идти о создании целой сети подземных железных дорог. Строительство тоннеля затянулось, и, когда в 1852 году парламент наконец принял закон о подземной железной дороге, решено было отказаться от глубокого бурения в пользу более простого метода — рыть открытые траншеи и накрывать их. Первую линию подземки — Метрополитен — закончили через восемь лет, и очень скоро она уже перевозила около 26 000 пассажиров в день.
Поезда были специально построены компанией Great Western Railway и состояли из парового локомотива, тянувшего открытый подвижной состав. Вскоре в строй вошли и другие линии: к началу XX века действовало восемь линий и шесть независимых компаний-операторов.
В теории подземка была триумфом. Свободный рынок отреагировал на возникший спрос — и Лондон получил новую общегородскую транспортную сеть. В реальности и операторы, и пассажиры считали, что система неудобна и экономически неэффективна. Людей бесила необходимость делать пересадки и покупать новые билеты на поезда других компаний, а операторов раздражали высокие затраты.
Для компаний выход был один — агрессивное расширение и модернизация. Протянув свои рельсы за город, они могли бросить вызов традиционной железной дороге в борьбе за пассажира, живущего в пригороде и работающего в Лондоне. Они могли положить начало созданию нового Лондона, который будет разрастаться вдоль линий Метроландии, по ее кольцам, петлям, завиткам и террасам. Они могли бы использовать замечательные новые электропоезда. Проблема была в одном: им не хватало капитала.
Лондон вступал в новое столетие, и началась гонка — кто шустрее и расторопнее, тот и будет строить Лондону транспортную систему XX века. Гонку выиграл Йеркс. Рисковый тип, смелый фантазер, очковтиратель, гангстер и бабник, Чарльз Йеркс — это олицетворение Америки в период от ковбоев до небоскребов. К сорока четырем годам он заработал и потерял огромное состояние, шантажировал политиков, сидел в тюрьме за хищение в особо крупных размерах и был помилован президентом. Он снова разбогател, финансируя транспортную систему Чикаго, — это и привело его к мысли, что вкладывать деньги в растущую сеть лондонской подземки выгодно.
Йеркс спустился с Хэмпстед-Хит — и уже к октябрю добился права на строительство линии Чаринг-Кросс — Юстон — Хэмпстед (сегодня сюда входит часть линии Нортерн), а к марту следующего года он фактически завладел линиями Дистрикт и Метрополитен. Потом приобрел линии Грейт-Нортерн и Стрэнд, а за ними вскоре, в марте 1902 года, последовали линии Бромптон и Пиккадилли-сёркус вместе с агонизирующей веткой Бейкер-стрит — Ватерлоо, которые теперь относятся к линии Пиккадилли.
На этом Йеркс не остановился, он продолжил покупать трамвайные и автобусные компании и в результате создал первую объединенную транспортную сеть Лондона. Размышляя о своей жизни, старый магнат сказал: «Мой секрет в том, чтобы купить старье, слегка подлатать — и сбагрить кому-нибудь».
Он умер в 1905 году, но компания его дожила до 1930-х, когда ее наконец «сбагрили» вновь созданной государственной корпорации «Транспорт Лондона».
Уинстон Черчилль
Невоспетый основатель государства всеобщего благоденствия и человек, который спас мир от тирании
Если вы еще не успели, я очень рекомендую немедленно (по прочтении этой книги) посетить бомбоубежище Кабинета. Я имею в виду тот бункер, у которого вход справа от Клайв-Степс, между Министерством иностранных дел и Казначейством. Вы, может, подсознательно избегали туда ходить: думали, что это обычная приманка для туристов — «святилище культа Уинстона Черчилля», где из вас просто тянут деньги. Но стоит нагнувшись войти в дверь, над которой мешки с песком в три наката, и спуститься по ступеням — и сразу видишь, что это не муляж.
Это тебе не аттракцион в стиле мадам Тюссо, где можно посмотреть на «живого» Черчилля. Нет, здесь все настоящее. Сразу переносишься на семьдесят лет назад, в то время, когда Лондон и Британия проходили величайшее испытание, испытание не на жизнь, а на смерть. И, когда глаза привыкнут к маломощному освещению бывшего командного пункта, постепенно начинаешь понимать, что это значило — быть лондонцем во время Второй мировой войны. И даже перестаешь замечать паломников со всего мира, приехавших поклониться Черчиллю, с их широко раскрытыми глазами и прижатыми к уху наушниками-аудио гидами, которым они внимают с религиозным почитанием.
Обстановку так тщательно сохраняют в неизменном состоянии, — просто веришь, что оказался в далеких 1940-х. Слышишь, как урчат диски огромных бакелитовых телефонов — красного, белого и зеленого, которые связывали эти проходные комнатушки с британскими войсками по всему миру. Слышишь негромкие голоса порученцев с поникшими от жары нафабренными усами, людей, которые втыкают в карту булавки с круглыми разноцветными головками: вот здесь потоплен еще один линейный корабль, там — еще один унизительный прорыв японцев.
Видишь, как расплываются темные пятна в подмышках нейлоновых блузок симпатичных машинисток-стенографисток, которые — тук-тук-тук — пытаются угнаться за пулеметными очередями тирад их главного клиента, отполированных хорошим виски, слышишь, как тяжело пыхтят технические новинки того времени, призванные обеспечить им прохладу, — настенные вентиляторы и новомодный кондиционер фирмы Frigidaire из красного дерева — подарок американцев.
Если повезет, Джерри Маккартни, директор-распорядитель, сделает для вас исключение и позволит зайти непосредственно в ту комнату, где заседал Военный кабинет, — кажется, можно пощупать клубы табачного дыма, который вдыхают-выдыхают черными от никотина легкими самые знаменитые здешние завсегдатаи: Иден, Бивербрук, пыхтящий трубкой Эттли и сам Черчилль, и перед каждым стоит своя квадратная металлическая пепельница.
Нигде и никогда не испытывал я такого явственного чувства присутствия исторического деятеля и его личности. Я почти физически ощущаю, как он неслышно проходит по коридору у нас за спиной в своем рыжем комбинезоне, требует секретаря или пол-литровую бутылку шампанского Pol Roger или наливает себе свой большой стакан виски с водой перед обращением к нации по радиопередатчику, который и сейчас стоит на столе.
Физически ощущаешь его присутствие и в спальне, где стоит маленькая казенная кровать с простым изголовьем и синим стеганым покрывалом, под ней — белый керамический горшок, на прикроватном столике в металлической коробке — сигары того времени Romeo у Julieta, естественно забавно усохшие от времени. Можно раздвинуть занавески на настенной карте, и увидишь то, что первым делом видел Черчилль, пробуждаясь от послеобеденной дремы, — подробный план британских оборонительных линий, их сильные и слабые места, удачные позиции, где легче отразить немецкий танковый прорыв, и уязвимые точки, где сделать это будет непросто.
И тут вдруг начинаешь понимать атмосферу, царившую здесь в те дни. Это не суматоха, и не волнение, и даже не напряженность. Это отчаяние.
Летом 1938 года, когда расположенный здесь мебельный склад начали переделывать в бункер, Лондон еще был центром самой могущественной империи за всю мировую историю. Прошло несколько месяцев, и все могущество и мощь съежились до нескольких тесных комнатушек с безвкусными коричневыми креслами и уродливыми портьерами, которые напомнили мне заметку в провинциальной газетенке о том, как муниципальные служащие вскрывают дверь в квартиру и находят там высохшие останки всеми забытого старика-пенсионера.
Отчаяние сквозит в примитивности информационных технологий: пожелтевшие папки и скоросшиватели, шифровальные устройства размером с холодильник, у Черчилля на столе — убогая баночка с клеем, от которого осталось маслянистое пятно. Клей он использовал по назначению — вырезал и вклеивал доклады и отчеты в нужном ему порядке. Отчаянием отдает деревянная табличка, которая информировала этих лишенных дневного света военных кротов о времени суток наверху. Ну и, конечно, понимаешь критичность ситуации и страх этих людей, когда узнаешь о бетонной плите над потолком толщиной от метра до трех.
Причина отчаяния проста и понятна. Лондон бомбили, бомбили с холодным садизмом, какого он еще не знал. Представляете, каково было слышать среди прочих звуков — ворчания Черчилля, урчания телефонов и гудения вентиляторов — вой фугасных бомб, падающих на Лондон, и пытаться работать, зная, что прямого попадания даже этот бункер не выдержит?!
Задумываясь о Второй мировой войне, четко видишь, что для Британии и ее статуса в мире она была катастрофой. Для нас, послевоенного поколения неженок, которые в жизни не видели ничего страшнее периодических акций Ирландской республиканской армии или Аль-Каиды, бомбежка Лондона — это ужас невообразимый. Эти бомбардировки были страшнее и смертоноснее, чем Большой пожар Лондона (в котором погибло — сколько? — правильно, восемь человек). Они продолжались целую вечность, ночь за ночью, месяц за месяцем, с осени 1940 года по весну 1941-го, а потом, после перерыва, в 1944 году, и закончились, словно чудовищная пародия на симфонию Бетховена, серией оглушительных ложных кульминаций.
Все знали, что это будет, бомбежек не избежать, а Лондон почти беззащитен. Когда Невилл Чемберлен в 1938 году вернулся из Мюнхена, он пытался оправдать свою тактику «умиротворения» Гитлера чувством страха, которое испытал, когда летел над Темзой в сторону Лондона и видел внизу тысячи беззащитных крыш — легких целей для бомбардировки. Воздушная угроза Лондону беспокоила Черчилля еще в 1934 году, когда Гитлер пришел к власти и начал в бешеном темпе наращивать мощь своей авиации. «Это же самая шикарная мишень в мире, — предупреждал он, — словно огромную, жирную, породистую корову привязали в лесу как приманку для хищника».
Он давал страшные прогнозы того, что случится, если к нему не прислушаются. От тридцати до сорока тысяч человек погибнут в течение недели или десяти дней интенсивных бомбардировок, а от трех до четырех миллионов охваченных паникой лондонцев будут вынуждены бежать за пределы Лондона. «От воздушной угрозы не убежишь. Надо признаться себе — отступать некуда. Мы не можем перевезти Лондон в другое место. Мы не сможем вывезти массу людей, вся жизнь которых связана с Темзой». К 1939 году из новостной кинохроники люди уже знали, что творилось, когда японцы разбомбили Шанхай. Они уже знали, что сделал с Герникой легион «Кондор» в 1937-м.
Страх, наверное, только усиливался оттого, что события развивались постепенно, как нарастает барабанная дробь. В 1939 году эвакуировали десятки тысяч детей, но тревога оказалась ложной, бомбежки не начались — и детей вернули назад. Многие из них — дети из рабочих семей Ист-Энда — были только рады покинуть чужие чопорные дома среднего класса, которые их приютили. Театры и кинозалы сначала закрылись, а потом опять открылись. И вот тогда-то, субботним вечером 7 сентября 1940 года, всерьез начались бомбардировки. Командование истребительной авиации и начальники штабов проспали, и 320 немецких бомбардировщиков при поддержке 600 истребителей, практически не встретив сопротивления, вышли к ключевым промышленным и хозяйственным объектам. Они бомбили Арсенал в Вулидже, газовое хозяйство в Бектоне, электростанцию в Вест-Хэме, они ударили по докам и трущобам Ист-Энда.
Вскоре полыхало в полнеба, и зарево пожаров служило удобным маяком для следующей группы — 250 немецких бомбардировщиков, которые прилетели продолжать начатое. Стивен Инвуд пишет, что к утру пылало около тысячи пожаров, вышли из строя три главных вокзала, погибло 430 человек, и 1600 было ранено. В районе доков бушевали особые пожары — горели товары, на импорте и экспорте которых поднялся Лондон.
Полыхали перечные пожары, от их дыма пожарным казалось, что они вдыхают чистый огонь. Бочки с ромом взрывались, как бомбы, краски горели стеной ослепительно-белого пламени. Поднимались удушающие черные тучи дыма от резины и сладкий, тошнотворный дым от горящего чая. Так продолжалось всю осень, а весной бомбежки усилились. 16 апреля 1941 года ночью с воем налетели «Юнкерсы-88». Бомбы пробили брешь в Адмиралтейской арке, и Черчилль с вызовом заявил, что теперь ему открылся лучший вид на Колонну Нельсона. В памяти запечатлелись бесчисленные кошмарные картинки — словно кадры фильма ужасов: любимый паствой викарий, убитый на ступенях церкви в тот момент, когда звал людей укрыться в ней, прорыв канализации на Флит-стрит — и жуткий смрад, от которого лондонцы за двести лет успели отвыкнуть, вековой давности труп, который взрывом выбросило из свинцового гроба — и голова запрыгала, как мячик, у людей на глазах.
Особенно сильно бомбили 10 мая 1941 года. К утру лондонцы проснулись (те, кто смог заснуть) и узнали, что пострадал Дом правосудия, лондонский Тауэр и Королевский монетный двор. Мосты были опущены, станции закрыты, в Британском музее сгорело 250 000 книг, горел Вестминстер-Холл, разрушена палата общин. Одна бомба даже повредила Биг-Бен — на циферблате остались выбоины и царапины. И хотя бомбежки стихли на два года, но потом последовала ужасная кульминация.
К 1944 году появилась новая реактивная ракетная технология, и Гитлер смог запустить «Фау-1» и «Фау-2», что вызвало такое паническое бегство из города, что некий остряк перефразировал известный афоризм доктора Джонсона и сказал: «Только тот, кто устал от жизни, предпочтет остаться в Лондоне». К концу войны городу был нанесен катастрофический и во многих случаях невосполнимый ущерб. Было разрушено восемнадцать городских церквей, в том числе четырнадцать построенных Реном, в руины превращены целые кварталы в Сити и Ист-Энде. Погибло почти 30 000 лондонцев, и еще 50 000 было ранено. Было разрушено 116 000 домов, а еще 228 000 нуждалось в капитальном ремонте. А миллион домов — половина всего жилого фонда — нуждался в ремонте в той или иной степени.
Бомбардировки были разрушительными не только в физическом смысле. Они нанесли психологический удар. Было бы приятно заявить, что все лондонцы в годину испытаний повели себя достойно, но ясно ведь, что были постыдные исключения. Мародеры, вспоминает Филип Зиглер, пробирались в залы разрушенных ночных клубов, рылись в сумочках, срывали кольца у мертвых и раненых, лежавших без сознания. Во время налетов банды мародеров выставляли наблюдателей и спешили попасть в разрушенные здания раньше пожарных и спасателей. По закону за мародерство в разбомбленных помещениях полагалась смертная казнь, но поначалу городские власти были очень снисходительны. К 1941 году мародеров так боялись, что приговоры по пять лет каторги стали обычным делом. Юных преступников секли розгами.
Скотланд-Ярд создал особое подразделение по борьбе с мародерством, а в 1941 году полицейские могли — без зазрения совести — отметелить вора так, что мало не покажется. Генри Грин видел одного подлеца, которого схватила полиция: «Одежда в лохмотьях, безжизненно волочатся ноги, все лицо в крови, полумертвый от побоев». Ей-богу, нет нужды долго объяснять, что сегодня — в соответствии с законом — наша полиция относится к мародерам совсем иначе.
И при всем при этом во второе пришествие бомбежек — в 1944 году — мародерства стало даже больше. В районе Вест-Хэмпстед бомба попала в магазин радиоприемников — и его полностью разграбили за двадцать минут. Житель улицы Агамемнон-роуд жаловался: «В ту ночь — это был просто ужас. Жена зеленщика потом нашла свою сумочку — в сумочке уже не было ни пенни». Под немецкими бомбами некоторые лондонцы даже подцепили вирус антисемитизма — тот самый предрассудок, который вовсю бушевал в нацистской Германии, словно бомбы вывернули содержимое подвалов и вывалили наружу споры древней заразы.
В войну лондонских евреев обвиняли в том, что они по-свински захватывают места в бомбоубежищах. Министерство внутренних дел не на шутку встревожили проявления антисемитизма, и оно распорядилось подавать еженедельные отчеты о таких случаях. Конечно же никаких свидетельств, что евреи «оккупируют» бомбоубежища, не было, но такой дотошный писатель, как Джордж Оруэлл, описывая очереди в укрытия, счел необходимым выразиться в таком стиле, что кто-то из его почитателей может и обидеться: «Что удручает в евреях — их и так видно за версту, так они еще и лезут на рожон».
Трагический случай произошел 3 марта 1943 года на станции метро «Бетнал-Грин». Люди стояли в очереди, чтобы войти на станцию, и тут неподалеку, в Виктория-парке, разорвалась очередь ракет. Одна женщина на верхней ступеньке лестницы споткнулась, в толпе возникла паника — и за несколько секунд в давке погибло 178 человек, они были раздавлены или задохнулись. Некоторые говорили, что это дело «пятой колонны», то есть немецких агентов, но большинство лондонцев — правда, не тех, кто жил у «Бетнал-Грин» и знал правду, — обвинили евреев. Это они так напугались, что устроили давку, — так об этом говорили в городе. Согласно одному из опросов того времени, доля тех, кто враждебно относился к евреям, выросла до 27 %.
Это было странно и очень неприятно. Ну а раз уж мы взялись рассматривать нелицеприятные аспекты поведения британцев во время войны, мы должны честно сказать еще и о том (хоть это и ужасно), что наши якобы героические британские вооруженные силы иногда не проявляли в бою должного мужества. И самым видным их критиком, выступавшим пусть не публично, а в частном порядке, был сам Уинстон Черчилль.
После своего возвращения в Адмиралтейство 16 января 1940 года он написал гневную записку лорду Адмиралтейства адмиралу Дадли Паунду. «Наши сухопутные войска на передовой — просто ничтожества, наша авиация безнадежно проигрывает немецкой». Эти слова были явно вызваны чередой каких-то событий. Из всех тактических приемов, которыми должна владеть армия, британцам лучше всего удавался отвод войск — а если называть вещи своими именами, позорное отступление и паническое бегство…
В мае 1940 года британские войска покинули норвежский порт Намсус, и это воистину унизительное отступление вознесло Черчилля на вершину власти — в кресло премьер-министра. Но и с ним у руля дела у них чего-то не ладились. Их — то есть нас — выгнали из Франции, и это просто невероятный самообман, что мы до сих пор считаем Дюнкерк триумфом, хотя на самом деле эта эвакуация была бегством, которое закончилось удачно только благодаря серьезному тактическому просчету немцев, которые остановили свои танковые корпуса и позволили британцам смыться. В мае 1941 года британцам серьезно накостыляли на Крите: немецкие парашютисты выкинули их с острова благодаря своей дерзости и мастерству — эту схватку с горечью и иронией описал и обессмертил Ивлин Во. Но все это — Норвегия, Дюнкерк и Крит — просто ничто по сравнению с катастрофой в Сингапуре.
10 февраля Черчилль послал радиограмму фельдмаршалу Уэйвеллу, большому любителю поэзии и главнокомандующему британскими войсками в Индии, и напомнил ему, что поставлено на карту. «Я считаю, вам следует знать, — писал Черчилль, — как мы в Лондоне видим ситуацию». Он отмечал, что в Сингапуре больше британских войск, чем японских на всем Малайском полуострове. «Вы должны сражаться до конца, чего бы это ни стоило. Восемнадцатая дивизия может навсегда прославить свое имя в истории. Командиры и старшие офицеры должны быть готовы умереть вместе со своими подразделениями. Речь идет о чести Британской империи и британской армии. Верю, что вы будете безжалостны к любым проявлениям слабости. Когда так храбро дерутся русские и американцы стойко держатся в Лусоне, от этого будет зависеть честь нашей страны и нации…»
Увы, генералы решили, что следовать призывам Черчилля необязательно. Имея выбор между смертью и бесчестьем, они с готовностью плюхнулись в лужу бесчестья. 15 февраля 1942 года Сингапур капитулировал, и это событие, похоже, подтвердило тайные опасения, которые давно зрели в сознании Черчилля: британский солдат — по сравнению с немецким или даже японским — небоеспособен. Это не давало ему покоя. «Наши солдаты не такие бойцы, какими были их отцы, — написал он Вайолет Бонем Картер. — В 1915 году наши воины принимали бой, имея один снаряд, под бешеным обстрелом. Теперь они боятся пикирующих бомбардировщиков. У нас столько войск в Сингапуре, столько войск… Они должны были драться!»
Алан Брук, начальник имперского генерального штаба, придерживался того же мнения. 18 февраля 1942 года он записал в своем дневнике: «Если армия не может сражаться лучше, чем сейчас, значит, мы заслуживаем того, чтобы потерять нашу империю». Кто-то скажет, что легко критиковать солдат, особенно если ты — сосущий бренди политик или генерал — тыловая крыса, но дело в том, что и японцы понимали, что победили в Сингапуре случайно. В 1992 году генерал Ямасита, выигравший то сражение, писал в своих мемуарах, что его наступление было блефом. «У меня было тридцать тысяч солдат — в три раза меньше, чем у противника. Я знал, что если я завязну в Сингапуре — мне конец…»
Если мягкотелость войск в Сингапуре привела Черчилля в смущение, то события в Тобруке привели его в ужас. Он как раз сидел с Рузвельтом в Овальном кабинете, и тут поступила новость, что в городе Тобрук в Ливии гарнизон численностью 35 000 человек капитулировал перед уступавшей в численности немецкой группировкой. «Одно дело — поражение, — размышлял он позже в своем дневнике, — а совсем другое — бесчестье». Но, пока Черчилль сомневался в силе духа и отваге британского солдата, другие начали сомневаться в Черчилле и его способности руководить.
Правящая партия стала проигрывать промежуточные выборы, и 25 июня в повестку дня палаты общин было внесено предложение о «недоверии общему руководству военными действиями». Во время обсуждения, которое состоялось в июле, на Черчилля набросились парламентарии от всех партий, включая лорда Винтертона (который был членом парламента Ирландии и поэтому имел право заседать в палате общин), который сказал: «Мы все больше сближаемся с интеллектуальной и моральной позицией немцев, которая заключается в том, что фюрер всегда прав… За тридцать семь лет, что я заседаю в этой палате, я еще ни разу не наблюдал такого единодушного желания лишить премьер-министра его функций».
Эньюрин Бивен заявил, что проблема вовсе не в боевом духе простого солдата. Дело в бездарном офицерском корпусе! Армия поражена классовыми предрассудками. «Если бы Роммель служил в британской армии, он до сих пор оставался бы сержантом!» — это гневное замечание упускало из виду, что Роммель окончил военное училище. Роммель был кадетом, но никогда не был сержантом.
В конце концов британские войска, конечно, убедительно реабилитировались в сражении при Эль-Аламейне. Монтгомери по всем правилам собрал группировку с двойным превосходством в живой силе и технике, наголову разбил фрицев и остановил немецкое наступление на Каир. Черчилль поздравил всех с этой победой («это еще не конец и не начало конца, но уже конец начала»), и я прекрасно помню, как еще в 1970-е славные люди, которые сами были ветеранами Второй мировой войны, учили нас, что эта победа и стала поворотным моментом войны.
А сегодня я в этом уже не уверен. По-настоящему поворотными моментами стали конечно же поражение немцев под Москвой, или вступление в войну американцев, или Сталинград. Под Эль-Аламейном Монтгомери противостояли три немецкие дивизии — русские под Сталинградом разбили не менее тринадцати немецких дивизий. Это события разного масштаба, и чем дольше шла война, тем меньшим становилось влияние на нее Черчилля — и вообще Британии.
Еще тогда, когда союзники готовили операцию «Оверлорд» и освобождение Европы, Черчилль стратегически явно «шел не в ногу» — он то и дело предлагал какие-то отвлекающие операции и обманные тактические маневры на второстепенных фронтах, в стиле Галлиполи, — словно боялся наступления по всему фронту. Сталин в разговорах с ним весьма иронично отзывался о «доблести» британского флота, а насколько обрушилось британское влияние, наглядно показал один случай. Два британских моряка устроили в Мурманске драку, а русские без всяких экивоков судили их и приговорили к о-о-очень длительным срокам заключения — конечно же в Сибири, — и Черчилль ничего не смог поделать.
Сталин и Рузвельт отпускали мрачные шутки — мол, надо бы взять и расстрелять вообще всех немецких офицеров, — а Черчилль только пыхтел и возмущался в кулуарах, а на совещании оставался лишним колесом в телеге. Это русские и американцы пожали друг другу руки на Эльбе, это им принадлежит решающая роль в разгроме Германии. Черчилль не мог быть сильнее, чем страна, которую он представляет, — а Британия уже выдохлась и Лондон стоял на коленях.
Индустриальная база города была разрушена, ее возможности сократились процентов на 40, и как промышленный центр Лондон больше никогда не вернется на довоенный уровень. Даже количество офисных площадей восстановилось только к 1954 году. Сильно пострадало школьное образование. Снизилась грамотность. Такие районы, как Бермондси, Финсбери и Саутворк потеряли 38 % своего населения. Поплар, Шордич и Сити потеряли 45 %, а Степни потерял половину. Пустыри на месте бомбежек поросли травой и кустарником. Как только кончилась война, американцы безжалостно прекратили поставки по ленд-лизу, и Британии с трудом удавалось платить проценты по долгам.
На банкете у лорда-мэра Сити 10 ноября 1942 года Черчилль сказал: «Я не для того стал первым министром короля, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи». И все же в первые послевоенные годы, во многом усилиями Америки, происходило именно это. Большую часть 1930-х годов, будучи вне правительства, Черчилль посвятил борьбе против Ганди и независимости Индии. В 1931 году в одной из своих речей, которая абсолютно не выдержала испытания временем, он уничижительно назвал Ганди мятежным адвокатом из лондонской школы барристеров и сказал, что ему становится «не по себе и просто тошнит, когда он видит, как этот факир полуголым шагает по ступеням дворца вице-короля, чтобы на равных говорить с представителями короля-императора». В случае обретения независимости он пророчил Индии массовую безработицу. Когда во время войны Индию поразил жестокий голод и Черчилля попросили перенаправить поставки продовольствия, он ответил очень грубо. Он написал: «Не может быть, чтобы все было настолько плохо, если Ганди еще жив».
За свою карьеру Черчилль отпустил множество хороших шуток, но эта была не из таких, и к 1948 году она ему «откликнулась». Индия получила независимость, и он ничего не мог с этим сделать, потому что в 1945-м его с треском выставили с должности.
Журнал Time 16 июля 1945 года опубликовал предвыборную зарисовку, автор которой, его репортер, сопровождал семидесятилетие го премьера на собачьи бега в Уолтемстоу. Он появился под одобрительные крики, за ним следовала Клементина, а потом началось освистывание. «Мы хотим Эттли!» — кричала толпа. «В такой свободной стране, как наша…» — начал было Черчилль, но, пишет Time, «свист и крики заглушили его».
Его освистали, когда он говорил о жилищном строительстве и увеличении производства продуктов питания, и всеобщее lese-majeste — «оскорбление величества» — продолжилось на следующий день, когда семнадцатилетний юнец швырнул ему в лицо зажженную петарду. Наверное, Черчилль убедил сам себя, что все эти крикуны были в меньшинстве — как оно и было, когда он посещал места бомбежек. Но, когда вскрыли урны для голосования, стало ясно, что это голос всей страны. Великий лидер военного времени проиграл с треском.
Критики Черчилля утверждают, что его политическую историю можно (да, наверное, и нужно) свести вот к чему: вся его неукротимая воинственность 1930-х годов имела целью не столько благо страны, сколько борьбу за высший пост. Он втянул Британию в необязательную войну с Германией и вел страну от поражения к поражению, а тем временем лондонцы, особенно бедные, подвергались безжалостным бомбардировкам. За шесть лет Британия так ослабла и обеднела, что у нее не осталось иного выхода, как спустить флаг, отказаться от империи и смириться с гораздо более скромной ролью в мире. Ничего удивительного, что после всех этих несчастий славная британская общественность решила выгнать Черчилля вон и он потерпел едва ли не самое сокрушительное фиаско на выборах в XX веке.
Не сомневаюсь, что ему выдвигают и другие обвинения: что он был расистом, и сексистом, и сторонником евгеники, или что он цинично допустил бомбардировку Ковентри, лишь бы не выдать, что Британии известны немецкие шифровальные коды (ложь!), или что он недостаточно сделал, чтобы остановить Холокост (опять ложь), и так далее, и тому подобное. Такие обвинения обычно выдвигают критики Черчилля — Чармли, Понтинг, Ирвинг, Бьюкенен и им подобные, но интересно отметить, как мало это его задевает. Мы все равно его любим — я люблю его — и инстинктивно понимаем, что все потуги этих ревизионистов — это хлопки детских пистолетиков, которые не оставят ни царапины на репутации этой суперколоссальной фигуры, масштаба тех, что высечены на горе Рашмор.
Как и все представители рода человеческого, британцы подсознательно стремятся разложить все по полочкам. Они желают выстроить иерархию событий и людей и любят поспорить об этом. Но по двум важным вопросам существует полное единодушие во всех пабах страны: писатель номер один — это Шекспир, а политик номер один — это Черчилль. В Британии около 430 дорог, проспектов, улиц и тупиков носят его имя. Мадам Тюссо сделала десять его восковых фигур.
Мы уже забыли, сколько сил вкладывал Черчилль в свои речи: иногда он писал их по четырнадцать часов, потом репетировал паузы и удачные места перед зеркалом. Но мы помним многое из того, что он говорил, — отчасти потому, что Черчилль чутко уловил: если хочешь достучаться до сердец англичан, надо говорить короткими англосаксонскими словами. «Никогда еще в сфере человеческих конфликтов столь многие не были столь многим обязаны столь немногим людям». Или: «Мне нечего вам предложить, только кровь, пот, труд и слезы». По моим подсчетам, в этих фразах три слова латинского происхождения приходятся на 27 англосаксонских. Поэтому эти фразы запоминаются. Или взять вот это: «Мы будем драться на берегу, драться в местах высадки, будем драться в полях и на улицах, будем драться в горах — и мы никогда не капитулируем». Здесь единственное слово с латинским корнем — разумеется, «капитулировать».
Причем, имея словарный запас в более чем шестьдесят тысяч слов, Черчилль мог сыграть что угодно, он умело сочетал короткие слова с цветистыми, хлесткие — с высокопарными. «Труд китайских кули в Трансваале, — заявил он в знаменитой тираде 1906 года, — не может быть классифицирован как рабство даже в широком смысле слова без риска терминологической ошибки». Вскоре это стало модным парламентским эвфемизмом для слова «ложь».
Он мобилизовал английский язык, сказал Джон Ф. Кеннеди (пытаясь как-то реабилитироваться за резкие высказывания о Черчилле своего отца), и бросил его в бой. В 1953 году ему присудили Нобелевскую премию — не премию мира, обычную побрякушку для политиков, а премию по литературе: «за мастерство исторического и биографического описания, а также за великолепные образцы ораторского искусства в защиту высших ценностей». Можно по-разному оценивать вкус членов Нобелевского комитета (они отклонили таких авторов, как У. X. Оден, Д. Г. Лоуренс, Ивлин Во, Эзра Паунд и т. д.), но думается мне, что такого достижения в обозримом будущем не сможет добиться ни один британский политик.
Его личность до сих пор настолько знакова для британской политики, что любую слабость и любое поведение можно оправдать, если докажешь, что это «по-черчиллевски». Однажды газеты подняли на смех за мягкотелость парламентария Боба Макленнана — заметили в слезах после того, как его лишили лидерства в партии социал-либеральных демократов, уже давно забытой центристской партии. А он удачно оправдался — сказал, что это у него «черчиллевская» привычка плакать. Когда кто-то говорит, что из вас уже сыплется песочек и идти в лидеры поздновато, всегда можно возразить, что Черчиллю было шестьдесят пять, когда он впервые стал премьер-министром. Если вы напились с утра, всегда можно напомнить, что Черчилль себя никак не ограничивал ни в шампанском, ни в виски, ни в бренди. Если хочется курить, критикам можно сказать, что Черчилль с сигарой не расставался. Если кто-то говорит, что нельзя сочетать политику и писательство, им можно напомнить, что Черчилль занимался журналистикой на протяжении всей своей карьеры и — черт возьми! — он продолжал писать «Историю англоязычных народов», когда Гитлер уже вторгся в Польшу, а ведь он командовал всем британским флотом.
Если отчебучишь какую-нибудь жуткую глупость, можно сказать: ну что ж, бывает, ведь и у Черчилля был разгром при Галлиполи — и ничего, пережил как-то. Если произносишь речь и вдруг теряешь нить и замолкаешь, всегда можно напомнить, как Черчилль однажды, выступая в палате общин, так запутался и забыл, о чем говорит, что просто сел и обхватил голову руками. Если над тобой смеются, надо вспомнить афоризм Роя Дженкинса о Черчилле (да и о нем самом, конечно, тоже), что во всех по-настоящему великих людях есть что-то комичное. Если кто-то в школе был болваном и не справлялся с математикой, не говоря уж о латыни, — так это просто копия Черчилля. Он всегдашний Руководитель Университета Жизни.
Черчилль остается уникально популярным у всех избирателей не только потому, что он руководил коалицией партий во время войны, а потому, что многолик и многогранен. В нем каждый может найти что-то для себя. Возьмите вечные дискуссии «о Европе». Британские евроскептики могут ссылаться на его речь 1930 года, где он настаивал, что Британия, как библейская женщина-сунамитянка, всегда будет оставаться в стороне от остальной Европы. Сторонники объединения с Европой, наоборот, приведут множество его послевоенных громких и пафосных заявлений о необходимости создать Соединенные Штаты Европы. Он поминает имя Божье («Я готов встретить своего Создателя, другое дело, готов ли Господь Всемогущий к такому испытанию, как встреча со мной»), но христианином его не назовешь.
Его суждения переменчивы. В начале 1930-х годов он заявлял, что Муссолини был «римский гений… величайший законодатель среди людей», что, конечно, уже не годилось для выступлений перед войсками в 1940-х. Он ненавидел советский коммунизм так же, как ненавидел фашизм, и однажды сказал, что пытался задушить Советский Союз в колыбели. Но на встрече в верхах в Москве он произнес тост за Сталина в тошнотворно-приторном тоне: «Я иду по миру с большей отвагой и надеждой, зная, что нахожусь в дружеских и доверительных отношениях с этим великим человеком, чья слава вознеслась не только над всей Россией, но и над всем миром». Он умеет стоять на разных сторонах политических водоразделов, уверен в своей непогрешимости и не испытывает ни малейшего неудобства.
Если вы зайдете в вестибюль палаты общин, то увидите великолепную статую Черчилля работы Оскара Немона, как раз в такой позе, с широко расставленными ногами, и вы заметите: что-то не так с носком его левого ботинка. Вся статуя исполнена в темных, коричнево-черных тонах, а носок левого ботинка — желтый, отполированный до золотого блеска, ведь этот носок то же самое, что блестящие шишки на воротах в Запретный город на площади Тяньаньмэнь или истертый камень под алтарем церкви Гроба Господня в Иерусалиме. Это священный объект, гладить который вошло в привычку у политиков всех партий, когда они идут в палату. Как будто надеются через прикосновение к этому ботинку заполучить частицу этого астрального гения и укрепить свою волю перед заявлением о Средствах, Выделяемых на Поддержку Образования, или о Пособиях на Жилье для Малоимущих, или о чем там им надо заявить.
Парламентский пристав просил членов парламента прекратить эту практику, потому что бронза стирается и становится тоньше. Но они все гладят и трут этот ботинок, парламентарии от всех партий. Либералы объявляют его своим, потому что в 1904 году он переметнулся из партии тори, заявив: «Я ненавижу партию тори, ее членов, их слова и методы, и я не разделяю их взглядов». Тори, конечно, тоже могут считать его своим, потому что позже он опять сбежал к ним, как крыса с корабля либералов, стал стойким консерватором и в 1920-х возглавил Казначейство. Он руководил страной как консерватор и умер консерватором. Маргарет Тэтчер так хотелось подчеркнуть свою близость к нему, что однажды она фамильярно назвала его «Уинстон», хотя нет никаких свидетельств, что они когда-либо встречались.
Лейбористы традиционно утверждают, что это голоса лейбористов привели его к власти в 1940 году и потому они могут с гордостью называться родителями его премьерства в военный период. Рой Дженкинс говорит, что это миф и что Эттли согласился бы и на Галифакса, который вполне мог договориться с Гитлером на каких-то условиях. Правда в том, что политика Черчилля — империалистическая, донкихотская, традиционалистская, но в основе своей человечная — не так уж сильно расходилась с социализмом Эттли, как иногда полагают.
Давайте вернемся к тому случаю на собачьих бегах накануне его унизительного поражения на выборах в 1945 году. Черчилля освистали по вопросу жилья и производства продуктов питания, и он, пытаясь спасти положение, делает главный выпад против лейбористов и социализма. «Все эти планы будут сведены на нет глупой междоусобной борьбой из-за их идиотских идеологий и философских мечтаний об абсурдных утопических мирах, которых никак иначе не построить, кроме как совершенствуя человеческие души и сердца и развивая человеческие умы». Последовал взрыв смеха, писал журнал Time, и Черчилль сказал: «Извините, если кого-то обидел».
Из статьи непонятно, что вызвало смех. Возможно, смеялись его сторонники-тори — от облегчения и радости, что снова услыхали его прежнюю хлесткую риторику Наверное, им нравилось, что он задал трепку левым. А может быть, кто-то решил, что он откровенно смешон и отстал от жизни. В той толпе были люди, которые помнили безработицу 1930-х, они, возможно, хотели дать лейбористам шанс попытаться построить утопический мир — что бы ни говорил об этом Черчилль.
Нападки на лейбористов были вариацией его пресловутой речи про «гестапо» за месяц до того. Его критика сводилась к тому (и сегодня звучат те же аргументы), что лейбористы имеют неверное представление о человеческой природе, поэтому, чтобы достичь своих целей, им потребуется мощный бюрократический аппарат. Другими словами, это старая песня о «патерналистском государстве», но в устах Черчилля это, честно говоря, звучало довольно лицемерно.
Последние пять лет он усиленно насаждал «вертикаль власти», какой в этой стране прежде не знали, во главе с самим собой. Вспомните знаменитую карикатуру Лоу, на которой за ним маршируют сомкнутые ряды людей, закатывающих рукава, и подпись: «Веди нас, Уинстон». Речь шла не о том, чтобы «вместе идти вперед, объединив усилия». Нет, речь шла о мелочной опеке: выключайте свет, переплавляйте рельсы, сдавайте книги на макулатуру, а бананы — нет, у нас нет бананов.
А. Дж. П. Тейлор начинает свою великолепную историю Британии с 1914 по 1945 год заявлением, что до 1914 года вменяемый, законопослушный англичанин мог прожить жизнь и даже не заметить существования государства, если не считать полиции и почты. А к 1945 году лондонцы привыкли жить в мире, где им четко говорили, что носить, что следует есть, как это нужно готовить и о чем они должны говорить на публике. Когда в 1944 году в районе Чизик упала первая ракета «Фау-2», правительство пыталось выдать это за взрыв газа.
Кое-кто пытается утверждать, что Черчилль дистанцировался от расширения функций государства, и упоминают его любовь к выпивке или его фальстафианскую записку лорду Вултону, министру продовольствия. Вултон пытался справиться с нехваткой мяса, убеждая людей не есть его и предлагая попробовать пирожок без мяса, известный как «пирог Вултона». А Черчилль ему написал: «Почти все любители поесть, которых я знал, умерли молодыми после долгого периода старческого увядания. Думаю, прав британский солдат, а не ученые. Все, что ему нужно, это говядина. Я не понимаю, откуда взялись эти трудности с продовольствием, учитывая объемы нашего импорта. Если хотите проиграть войну — попытайтесь заставить британскую публику перейти на диету из молока, овсянки, картофеля, и т. д., плюс немного лимонного сока по торжественным случаям».
Это все неплохие увертки, но вообще-то в коалиционном правительстве царил натуральный патернализм. Обе стороны — и лейбористов и тори — устраивало в те годы делать вид, что коалиция — это вынужденное ярмо и совмещение двух противоположностей, их устраивал Черчилль как яркое воинственное прикрытие для левой власти в стране — консервативный панцирь социалистического моллюска. Здесь не учитываются инстинкты Черчилля и его послужной список. Эттли говорит, что он «сочувствовал, невероятно глубоко сочувствовал всем простым людям во всем мире». Такого же мнения и Эндрю Робертс, самый видный исследователь Черчилля сегодня, который пишет, что «он был стойким левым либералом всю свою жизнь».
В 1908 году он был одним из первых британских политиков, кто призывал установить минимальный размер заработной платы. В 1910 году он отказался выдвигать войска против восставших в Тонипенди. В 1911 году он выступал за референдум (среди мужчин-избирателей, разумеется) по вопросу избирательных прав для женщин, но с этим не согласился премьер Асквит. Абсолютно неверно думать, что Черчилль не участвовал в зарождении государства всеобщего благоденствия в те военные годы. В своем радиообращении 21 марта 1943 года, которое называлось «После войны», он говорил о будущем четырехлетием плане послевоенного восстановления, «который бы охватывал пять-шесть крупных задач практического характера».
В их число должны были войти «национальная программа обязательного страхования на все случаи для всех классов, от колыбели до могилы», ликвидация безработицы через государственную политику, «которая будет оказывать регулирующее воздействие и будет задействоваться по обстоятельствам», «расширение поля деятельности для государственной собственности и госпредприятий», строительство нового жилья, серьезная реформа образования, серьезное расширение услуг здравоохранения и социального обеспечения.
Вот вам и пожалуйста, в самый разгар войны Черчилль набрасывает контуры того самого Нового Иерусалима, создавать который предстояло Эттли и компания, вплоть до самой широкой национализации. Неудивительно, что в ходе избирательной кампании в парламент многих разочаровали его предсказания социалистического «гестапо» с огромным бюрократическим аппаратом государственных служащих — «слуг народа», которые уже не будут слугами и явно не будут народными. Это сильно противоречило его главному обещанию — объединить народ вокруг общих целей. Наверное, он нарочно так отчаянно запугивал ужасами госконтроля, чтобы отмежеваться и дистанцироваться от лейбористов.
Но эти залпы не достигли цели, потому что он говорил как партийный агитатор, а люди привыкли, что он выступает как Pater patriae — отец народа и спаситель страны. Кем он, собственно, и был. То, что Черчилль и сегодня остается властителем дум общества и политиков, можно отнести на счет двух огромных и взаимосвязанных достижений.
Он возглавил Британию, когда она переживала эпоху трансформаций в горниле Второй мировой войны, в годину смертельных испытаний, когда барьеры между классами и полами (и, в какой-то степени, между расами) рушились быстрее и решительнее, чем когда бы то ни было, и люди увидели, что государство способно создавать рабочие места. И потому Черчилль стал одним из главных творцов современной эпохи — именно в его премьерство появились наметки послевоенного устройства: государство всеобщего благоденствия, Национальная служба здравоохранения, доступное всеобщее среднее образование. Какой-нибудь консерватор мог бы заметить, что изначальный план Бевериджа предполагал систему страхования, которая исключала бы зависимость от социальных выплат и скатывание в нищету Но это просто придирки.
Да, Черчилль заложил основы послевоенной Британии, но что еще важнее, он добился, чтобы у Британии вообще было послевоенное будущее. Он добился победы Британии в войне. Если бы Уинстон Черчилль не возглавил страну в 1940 году, все действительно могло закончиться по-другому.
Сегодня не все помнят, какими мрачными выглядели перспективы. Британия была одна. Русские повели себя цинично — вместе с немцами разделили Польшу, продолжали поставки продовольствия в нацистскую Германию. Головокружительно быстро «слилась» Франция. То же случилось с Данией, Норвегией, Голландией, Бельгией, вся континентальная Европа так или иначе оказалась под нацистским сапогом, а некоторые практически лизали этот сапог.
Посол Америки в Лондоне, Джозеф П. Кеннеди, выступил с ободряющим прогнозом, что демократии в Британии настал конец. Чем больше Черчилль узнавал о состоянии обороны летом того года, тем более отчаянным казалось положение. Британские начальники штабов считали, что все зависит от королевских ВВС и, если они уступят небо люфтваффе, вовсе не факт, что Британия устоит.
Задним числом может показаться, что Британии, чтобы выжить, требовалось всего-то ничего — продержаться, пока американцы наконец сделают то, что нужно (перепробовав все прочее), и придут таскать из огня каштаны за нас. Летом 1940 года никто не мог знать, что японцы совершат ошибку и разбомбят Перл-Харбор, или что немцы тогда же объявят войну Америке, или что Гитлер окажется настолько ненормальным, чтобы напасть на Россию. В Лондоне были люди, которые помнили страшные потери Первой мировой войны, они выступали зато, чтобы по возможности договориться с Гитлером — может быть, используя Муссолини как посредника. При этом делались намеки, что в обмен на мир можно поступиться чем-нибудь из британских владений в Средиземноморье и Африке.
Черчилль и слышать об этом не хотел. И сейчас еще есть историки, которые убеждены, что его «момент славы» был на самом деле катастрофой для Британии. Но не требуется большого воображения, чтобы увидеть, что альтернативное развитие истории, при котором, скажем, Галифакс запросил бы мира в 1940-м, обернулось бы полным политическим и моральным затмением, погружением во мрак, как для Британии, так и для всего мира.
Да, Британия могла бы подольше цепляться за кое-какие части своей империи. Но, честно говоря, непонятно, с чего бы это Ганди и его сторонники вдруг прекратили бы борьбу за независимость, увидев малодушную капитуляцию Британии перед Германией. Что еще страшнее, потерян был бы весь европейский континент, он оказался бы в лапах варварской нацистской системы, а Британия превратилась бы в жалкую дрожащую тварь, которая целиком и полностью зависит от торговли с мерзопакостным фашистским режимом. Черчилль осознал эту угрозу лучше всех, и уже давно.
Он был прав, когда настаивал на перевооружении в 1930-х, когда партия лейбористов была насквозь пацифистской. Он был прав, когда выступил против умиротворения Гитлера, а большинство консерваторов, наоборот, было за. Кстати, за свою позицию ему пришлось поплатиться. Одна местная шишка организовала общественное мнение в его избирательном округе и инициировала его отзыв из парламента.
Черчилль умел находить правильные слова, которые вселяли отвагу в народ Британии. Если он говорил «драться до конца», то все верили, что он, Черчилль, будет драться до конца. Его храбрость была заразительна, и, что важно, те, кто интересовался его прошлым, точно знали, что жизнь его полна примеров отчаянной отваги. Первый раз он попал под обстрел в 1896 году на Кубе, где приобрел привычку к сигарам и сиестам. В 1897 году он множество раз участвовал в боях на северо-западных границах Индии, где его чуть не убили, когда он скакал вдоль линии фронта на своей серой лошадке. В 1898-м он принимал участие в последней кавалерийской атаке британской армии в Омдурмане, в Судане, после которой написал матери: «Я убил пятерых точно и еще двух под вопросом. У меня ни один мускул не дрогнул. Я убил тех, кто на меня напал».
В 1899 году он — корреспондент газеты на Англо-бурской войне, но не обычный журналист, а такой, которому суждено стать героем газетных материалов. Его поезд попал в засаду и сошел с рельсов, он героически организует контратаку, его берут в плен, он бежит из тюрьмы, прыгает с товарного поезда, прячется в лесу, а потом в Дурбане его встречают ликующие толпы. Когда дело шло к Первой мировой войне, он не просто выступал за развитие авиации — хотя самолет был изобретен совсем недавно и все его ужасно боялись, — он сам поднимался в воздух 140 раз и должен был уже получить пилотскую лицензию, но уступил мольбам Клементины.
Оказавшись среди виноватых в катастрофе в Дарданеллах, он с лихвой искупил свою вину: оставил должность, поехал на Западный фронт, возглавил 6-й Королевский шотландский минерный батальон и совершил более сотни вылазок на нейтральную полосу, двигаясь ночью ползком среди колючей проволоки и трупов. Всю войну этот человек, которому было далеко за шестьдесят, проявлял просто невероятную энергию и отвагу. Он проехал и пролетел 177000 км в своих отчаянных миссиях челночной дипломатии между Сталиным и Рузвельтом и другими, зачастую в скотских условиях, в тряске и холоде. В 1943 году он провел 173 дня за пределами страны. Самолеты, на которых он летал, сбивали, корабли, с которых он сошел, потом тонули.
Как ветеран Западного фронта, он, возможно, побаивался фронтального наступления на оккупированную фашистами Европу, но, когда настал день «D» — день высадки в Нормандии, — его величество король Георг VI был вынужден лично писать ему и просить отказаться от личного участия в десанте. Наверное, понять источники такого ненасытного влечения к риску и саморекламе было бы интересно для психологов. Можно подумать, что он пытался компенсировать какие-то свои страхи. Ведь откуда-то взялось это странное и оскорбительное обвинение (выдвинутое одним недалеким либеральным парламентарием и журналистом по имени Генри Лабушер), что молодым офицером он вступил в интимную связь с другим младшим офицером.
Хоть обвинение и было ложным, его растиражировали, и Черчилль вместе с мамой — Дженни — подали в суд, требуя опровержения и компенсации 20000 фунтов — сумму по тем временам крупную. Может быть, он отправился на Кубу и в прочие свои мачо-приключения для того, чтобы отмыться от этой лжи раз и навсегда? А может быть, это было подсознательное стремление ублажить тень отца?
Но скорее всего, он просто был так устроен. Масштабом личности он был крупнее и величественнее, чем мы, сегодняшние. Не забывайте — он стал членом парламента, когда на троне еще была Виктория. Он принес с собой в XX век викторианскую уверенность в себе и аристократическую жажду славы максимально возможного масштаба.
Лондонцам передавалась его уверенность, между ведущим и ведомыми была какая-то сверхъестественная связь. Как показал Филип Зиглер, мифа про лондонский блиц — бомбежки Лондона — не было. Это был не миф, это действительно было замечательное время в жизни города. Люди действительно чувствовали себя более живыми, особыми, иногда более «неженатыми», как выразилась романистка Элизабет Боуэн, и тогда они совершали бесчисленное количество добрых поступков по отношению к своим соседям. Когда рвались бомбы, большинство лондонцев не паниковали и не мародерствовали.
Один доктор-венгр был в бомбоубежище на станции метро «Банк», когда туда попала бомба. «Вы, англичане, просто не понимаете, какая выдержка у ваших людей, — говорил он. — Я не видел ни одной истерики, ни один раненый не кричал. В других странах не так». В городе была создана сеть психиатрических клиник для обслуживания неврозов, вызванных бомбардировками. Все они были закрыты — из-за отсутствия пациентов. Даже в сложных ситуациях лондонцы вели себя стоически хладнокровно. Один мужчина стал избивать ногами пойманного немецкого пилота, и толпа не останавливала его. Но, когда он захотел схватить пистолет этого летчика и застрелить его, тут толпа вмешалась и держала обоих, пока не приехала полиция.
Постоянная опасность и угроза смерти придавали всему оттенок величественности — и событиям, и людям. То же случилось и с Черчиллем, и тогда он выразил дух своего народа: «Я не лев, — сказал он позже, — но мне выпала честь зарычать». К концу его карьеры стало казаться, что черты его характера стали чертами всей страны. Энох Пауэлл позже сказал об этом так: «К 1955 году Уинстону Черчиллю выпало стать олицетворением страны и воплотить всю ее историю в одной — в своей — личности… он прожил огромную жизнь со своим народом и в конце ее стал символом Британии».
Совсем как собачка и хозяин — трудно сказать, кто на кого похож.
Вы только взгляните на него: нос картошкой, одутловатые щеки, выдающийся подбородок, крупные губы. Да это просто толстяк на пивной кружке! Типичный англичанин — Джон Булль. С мозгами в сто лошадиных сил (так о нем сказал современник, когда сто лошадиных сил было еще много), но — не интеллектуал. Долгий и счастливый брак с женой Клементиной, четверо детей, а в отношениях с симпатичными стенографистками — ни намека на скандал, что очень отвечает нашему британскому подходу: ради бога, никакого секса.
Он стал символом страны и символом города, который защищал, — величественный, эксцентричный, верный традиции, но одержимый техническим прогрессом, а более всего — стойкий, и потому очень даже кстати в 1955 году, при выходе его на пенсию, королева предложила ему титул герцога Лондонского. Обидно, правда, что личный секретарь ее величества, как оказалось, предварительно убедился, что Черчилль откажется принять его.
И правильно сделает — не только потому, что титул перешел бы к Рэндольфу Черчиллю, его наследникам и потомкам. Как бы искренне лондонцы ни любили Черчилля, я не знаю, как бы они восприняли, если б он стал их герцогом. Многие, наверное, с энтузиазмом — но явно не все. Бомбежки изменили Лондон, они изменили и лондонцев — и Черчилль это прекрасно понимал.
В бункере Кабинета министров я разговаривал с Джерри Маккартни — стоя за спинкой стула, на котором во время войны сидел секретарь Кабинета сэр Эдвард Бриджес. Я пытался представить себе, каково это было — быть здесь, когда под бомбами гибло столько сокровищ этого города, гибло столько людей, что хотя бы часть пострадавших и обездоленных должны были обвинить во всем Черчилля. Я думал, каково это было — сидеть здесь по утрам, когда приносили отчеты о жертвах и разрушениях, и ждать, когда же они проснутся, там, в Вашингтоне, чтобы ты мог подойти к шифровальному устройству и узнать, скоро ли они уже начнут выручать.
Вдруг я понял, что я должен сделать. «Мы обычно не разрешаем посетителям… — начал Джерри. — Семья Черчиллей возражает…» Но было поздно. Я уже сидел в кресле, из которого он руководил войной, мои локти полировали те самые подлокотники, которые семьдесят лет назад полировали рукава Черчилля. Я хотел бы ощутить прилив его энергии или его остроумия, чтобы прохрипеть какой-нибудь великолепный образчик несгибаемого мужества. Боюсь, я не почувствовал ничего, кроме собственного ничтожества и страха, что кто-то из туристов сейчас щелкнет меня на камерофон через стеклянную перегородку и выложит свидетельство моего тщеславия в Твиттер. Я поспешил встать. Могу только сказать, что кресло и стол очень маленькие и слишком заурядные для человека, который спас мир от тирании — но это как раз не противоречит его борьбе за равенство в послевоенном мире.
30 января 1965 года сэр Уинстон Черчилль осуществил свою последнюю крупную операцию. Он очень тщательно ее продумал, каждую мелочь — вплоть до псалмов, которые надлежало петь. Называлась эта операция «Оставь надежду». В течение трех дней гроб с его телом стоял в Вестминстер-Холле, а мимо нескончаемой чередой шли люди — всего 321 360 человек пришло, чтобы отдать дань уважения величайшему англичанину XX века.
Потом гроб поставили на орудийный лафет и мимо огромных толп народа повезли в собор Св. Павла на отпевание. У лондонского Тауэра гроб погрузили на катер «Хейвенгор», который прошел под Лондонским мостом и направился вверх по течению в Ватерлоо, а оттуда специальный поезд с паровым локомотивом доставил покойного лидера к месту захоронения в Блейдоне, графство Оксфордшир.
Люди стояли молча, иногда плакали. Когда небольшой катер пошел вверх по реке, над Лондоном пронеслось авиазвено из шестнадцати самолетов English Electric «Лайтнинг». Но, пожалуй, самым трогательным жестом прощания стало то, что портовые краны опустили стрелы, когда катер проходил через Лондонский Пул — на отрезке между Тауэром и Лондонским мостом.
Через десять лет почти все эти краны исчезнут. Доков не станет. Просуществовав девятнадцать веков — с того момента, как Авл Плавт первым заложил в этом месте порт, — этот порт больше не мог выдерживать конкуренции.
Прошли 1960-е и 1970-е, и стало ясно, что Лондон вступил в период стагнации, или упадка. Исчезали целые отрасли промышленности, уменьшалось население. Униженная Америкой в Суэце, отвергнутая де Голлем при попытке войти в Общий рынок, Британия вступала в полосу невезения.
Но Лондон еще мог дать миру многое. Когда я внимательно просматриваю те кадры, где люди наблюдают за похоронами Черчилля, я вижу, что в чем-то они кажутся людьми другой эпохи — не моей. Мужчины у собора Св. Павла стоят в цилиндрах. Люди приподнимают шляпы-котелки и стоически смотрят в камеру, стараясь не мигать.
Но, когда я изучаю женщин, я вижу по их одежде — ботам, пальто до колен, — что 1960-е в полном разгаре. Они выглядят так же, как моя мама на ранних фотографиях. К тому времени, когда умер Уинстон Черчилль, Beatles уже покорили Америку, а спустя четыре месяца после его похорон Rolling Stones выпустили песню, которая пришла в голову Киту Ричардсу посреди ночи и заняла первую строчку в мировых рейтингах. Она называлась «(I can’t get no) Satisfaction».
Для любого общества нет лучшей инвестиции, чем вкладывать молоко в младенцев.
Уинстон Черчилль. Из радиотрансляции 1943 года
Когда лондонский департамент транспорта в 2005 году объявил, что принято окончательное решение убрать с улиц двухэтажные автобусы — даблдекеры, над городом вознесся скорбный плач и стенания. Как будто из Тауэра убирали воронов. В защиту довольно древней уже машины писались петиции и ученые памфлеты.
Последний такой автобус сошел с конвейера завода в Чизике в 1968 году, а те, что еще оставались на улицах, раскачивались и натужно ревели в потоке автомобилей, как раненые боевые слоны. В них не было кондиционера, и Брюссель приговорил эти автобусы — они никак не отвечали современным требованиям по здоровью и безопасности.
Но их любили. Они не просто были символом Лондона XX века. Достаточно было такому автобусу мелькнуть в каком-нибудь фильме, и все понимали, какой это город. Это было единственное яркое пятно в сером послевоенном мире, и, такой нарядный, он продержался еще пятьдесят лет — по очень важной причине. Это был последний автобус на улицах Лондона, построенный лондонцами в Лондоне для лондонцев и с учетом специфических потребностей лондонских пассажиров.
История двухэтажного автобуса «рутмастер» началась в 1947 году, когда Британия замышляла целый ряд популярных проектов — например, создание государственной Национальной службы здравоохранения. В военное время производственные мощности завода в Чизике отдали под выпуск бомбардировщиков «Галифакс» фирмы Handley Page — и тут возникла идея извлечь какую-то пользу из этого опыта. Решили, что это возможно. Было решено, что департамент транспорта обобщит и использует весь свой многолетний опыт эксплуатации автобусов и изучения пассажирского спроса, чтобы создать суперавтобус, — редкая самоуверенность для послевоенного времени. На это ушли годы исследований, проектирования и планирования — честно говоря, русским потребовалось меньше времени, чтобы запустить в космос свой спутник, — но к 1956 году автобус был готов. За основу взяли клепаный алюминиевый фюзеляж военного самолета и создали автобус, который можно было собирать и разбирать, как конструктор «Лего».
Там была специальная новая будочка, где мог стоять кондуктор, чтобы не мешать пассажирам запрыгивать на открытую платформу и спрыгивать с нее. Имелась и система отопления — очень передовое решение для того времени, — и независимая подвеска каждого колеса, а для более плавного хода применили полностью автоматическую коробку передач. Но главное — он стал шедевром городского дизайна.
Легендарный директор лондонского департамента транспорта Фрэнк Пик умер в 1941 году, но перед смертью издал приказ, по которому автобусам полагалось выглядеть эстетично. Они должны стать «мебелью городских улиц», говорил он. Как шлемы полисменов или телефонные будки Джайлса Гилберта Скотта, они должны были притягивать взгляд. А Дуглас Скотт, который создал также котлы Potterton и радиоприемники Rediffusion, дал новому автобусу его покатую крышу и симпатичные скругленные окна. Он определил «темно-красные панели обивки, светло-зеленое обрамление окон, светло-желтые потолки» интерьера. Он создал рисунок ткани для сидений в красно-желтую клетку, а департамент транспорта потратил массу интеллектуальных сил и энергии на дизайн — потому что хотел привлечь побольше задниц на эти сиденья.
Автобусы сталкивались с усиливающейся конкуренцией со стороны личных авто, число которых в Лондоне увеличилось с 1945 по 1960 год в два раза. Чтобы дать место автомобилям, с улиц убрали (к сожалению) троллейбусы — экологически чистый и популярный вид транспорта, и «рутмастер» сочли заменой троллейбусам.
Он имел огромный успех. С 1954 по 1968 год выпустили 2875 этих автобусов, и возникла нехватка водителей и кондукторов. Лондонский департамент транспорта активно привлекал их с Барбадоса, Ямайки и Тринидада. Да, «рутмастер» сыграл свою роль в росте иммиграции из стран Карибского бассейна, которая изменила лицо Лондона и придала ему новые черты. Так они и пыхтели и в 1970-х, и в 1980-х, и даже в 1990-х, хотя их оставалось только 600, они все еще были достопримечательностью Лондона. И, как сказал Трэвис Элборо, каждый такой красный великан был словно громадный гвардеец-бифитер на дизельном ходу, который стал символом Лондона.
Что в конечном итоге обрекло их на погибель в 2005 году — это было роковое решение правительства еще в 1960-м о вливании денег в производство автобусов компанией British Leyland в надежде поддержать на плаву эту гиблую затею — вместо того чтобы инвестировать в развитие собственного лондонского автобуса.
В результате сегодня по нашим улицам ходят автобусы с двигателями и коробкой передач грузовиков — честно говоря, такие больше подходят для перевозки 32 тонн гравия, а не штатного количества пассажиров. Поэтому очень правильно, что новый автобус для Лондона спроектирован как автобус для городских улиц, с применением чистых, экологичных технологий, и что он воскрешает открытую платформу, на которую так приятно запрыгивать, за что все так и любили «рутмастер».
Кит Ричардс
Человек, который на пару с сэром Миком подарил миру рок
Древним было знакомо понятие вакханалии. Они знали, что случится, если соединить музыку и алкоголь. Еврипид описывает, как группа в общем благонравных женщин превращается в орду исступленных, сексуально озабоченных фанаток, которые поймали парня по имени Пенфей и просто порвали его на части.
Они распустили волосы, позабыли обо всем на свете, похерили правила приличия и скромность и стали вести себя очень, очень плохо — но я не поверю, что среди читателей есть хоть один, с которым этого никогда случалось.
Конечно, для этого надо выпить правильное количество алкоголя, чтобы сохранять какое-то примитивное чувство ритма. Еще нужна правильная музыка. Как-то юношей я пошел в гости в студенческую общагу (не стану называть это место — и сегодня боюсь расправы), и кто-то поставил запись с песней «Start Me Up» группы Rolling Stones.
Я уже слышу, как вы ржете.
Я отлично знаю, что интеллигентные люди думают о первых трех резких нестройных аккордах. Мой старый друг Джеймс Делингпоул однажды написал довольно по верхи остную статью о песне «Start Me Up» — о том, что она грубая и примитивная. Но я вам скажу, что звуки, которые рвались из раздолбанного кассетника, просто разорвали мне грудь. Что-то щелкнуло у меня где-то в эндокринной системе — эндокринная железа, гипофиз, гипоталамус, не знаю что, и — бум! я почувствовал, как я преображаюсь, и я уже не застенчивый прыщавый ботаник, который целых полчаса безуспешно пытается поддержать разговор с несчастной девушкой, сидящей рядом…
А потом меня накрыл второй аккорд, такой же ударный электрический токсин из трех нот — и в ту же секунду я был просто Джекил и Хайд. Супермен в телефонной будке. Что я сделал — вскочил на ноги и бил себя в грудь, взял девушку за руку, — не знаю. Этого нельзя исключать — честно говоря, я не помню подробностей, помню только, что все мы танцевали на каких-то комодах и ломали стулья. Помню только это чувство — психический шок от музыки.
Даже сегодня, стоит мне услышать этот начальный пассаж Кита Ричардса, это чувство возвращается вновь. То же самое чувствуют миллиарды человеческих существ. Сотни обрывков мелодий рок/поп-музыки хранятся в айподах наших голов, обогащая наше восприятие и становясь звуковым сопровождением нашей жизни.
Я могу поспорить — нет, тут не о чем спорить, я утверждаю и не жду никаких возражений, — что рок/поп стал самой популярной формой искусства XX века и продолжает оставаться ею и сегодня. У него нет серьезных соперников среди визуальных, пластических, поэтических или литературных видов искусства, и он гораздо убедительнее кино. Поэтому красивый и психоделический расцвет рок/поп-музыки в середине 1960-х именно в Лондоне — это один из величайших триумфов британской культуры.
На первый взгляд этот триумф удивляет. Мы уже знаем, что Лондон дал миру величайших поэтов, драматургов, романистов, художников, архитекторов, ученых, вольнодумцев, ораторов и составителей словарей. Но за почти двухтысячелетнюю историю города совсем не много было случаев, когда лондонцев признавали мировыми лидерами в музыке. Множество людей приезжали в Лондон исполнять свою музыку — здесь они находили деньги и покровительство. Но их имена звучали как-то по-иностранному: Гайдн или Гендель.
Но во второй половине XX века музыкальный мир Лондона стал напоминать циклотрон театральных талантов XVI века, который породил Уильяма Шекспира. Произошло по меньшей мере две вспышки, два взрыва сверхновых звезд, заметных из любой точки мира. Это были Beatles, музыкально самая влиятельная группа за последнюю сотню лет (окей, окей, они были из Ливерпуля, но почти все свои песни записали в Лондоне и имя себе сделали в Лондоне). А еще были их чуть более энергичные соперники — Rolling Stones, — совершившие самый грандиозный и успешный тур в истории.
Да, было еще множество созвездий, которые загорелись в пригородах Лондона и прославились на весь мир. Но, думаю, мы не ошибемся, если скажем просто: битлы и роллинги — ярче всех.
В какой-то степени это, конечно, дело вкуса. Кое-кто со мной не согласится, а кое-кто станет спорить, кто лучше — Beatles, или Rolling Stones, или кто-то конкретно из этих групп. Поклонники Stones средних лет делятся на тех, кто предпочитает Мика Джаггера (Тони Блэр, например), или тех, кто считает по-настоящему крутым Кифа[10]. Я с самых младых лет был твердо уверен, что Киф круче.
Когда я был в трудном подростковом возрасте, кто-то заявил мне тоном, не терпящим возражений, что Мик — это «витрина», очаровывающий Орфей, а Кит — лучше как музыкант. Не кто иной, как он, написал трогательные, пронзительные, медленные вещи, такие как «Angie, Fool to Cry». Но и возвышенные, быстрые, хоровые вещи ему тоже удавались — такие как «You Can’t Always Get What You Want». И конечно, он был просто незаменим для вулканических вступлений, пассажей из двойных-тройных аккордов, от которых глаза лезут на лоб, губы зеленеют, а дрожащие руки тянутся… хватать и бить стулья.
Вспомните артиллерийский залп в начале «Satisfaction», или «Brown Sugar», или «Jumpin’ Jack Flash». Мне говорили, все это — Кит. Это он умел: начать с землетрясения и довести до кульминации — полного апофеоза. Именно ему я пытался подражать, когда мне было шестнадцать — жалкие потуги! — купил облегающие красные вельветовые штаны (когда я пишу это, на лбу у меня выступает холодная испарина) и своими толстыми неповоротливыми пальцами пытался сбренчать «Satisfaction» на одолженной гитаре. Я с треском провалился и не стал рок-звездой, но от этого стал только сильнее обожать своего кумира.
Насколько я понимаю суть отношений Мик — Кит, в этой парочке «Блестящих Близнецов» гением был Кит, это он годами удерживал первое место в рейтинге «Рок-звезды, которые умрут раньше всех» журнала New Musical Express — и тем не менее умудрился переспать с самыми экзотическими женщинами Западного мира: Уши Обермайер, Анитой Палленберг, Патти Хансен и множеством других.
Кит десятилетиями нюхал, кололся и курил такое неимоверное количество химических веществ, что кажется, мумифицировался при жизни — стал похож на мумию инков, — но все это время выдавал произведения в таких количествах и такие оригинальные, что просто преобразил рок-музыку — так же радикально, как свою внешность.
Он крупно разбогател. С 1989 по 2003 год, например, вместе с Rolling Stones он заработал 1,23 миллиарда фунтов. При этом в своем возрасте за шестьдесят он до сих пор кипит такой энергией, что Джонни Депп решил позаимствовать его хипповатый неопрятный стиль — с множеством колец во всех местах — для своего блокбастера «Пираты Карибского моря». Сейчас, когда я это пишу, он обдумывает новый тур. Если бы не его жутко потасканный вид, возник бы соблазн использовать его портрет для рекламы чистого героина и кокаина как средств оздоровления организма.
За те годы, что я обдумывал эту главу, я посетил все места Лондона, где бывал Ричардс. Однажды я попал на открытие прибрежного парка в Туикенеме и любовался коттеджами и плавучими домами у острова Ил-Пай. Я разглядывал топкие илистые низины и пытался представить себе, как выглядели эти места до того, как таинственно сгорел дотла знаменитый отель Eel Pie Island — в те волшебные вечера шестидесятых годов, когда в воздухе висели завывания гитары Кита и запах марихуаны и пачули, а девушки в сетчатых платьях с ярким узором скакали на отмелях. Я был и в «100» на Оксфорд-стрит, и даже включился в борьбу против закрытия этого клуба.
Я побывал в заплеванном жвачкой переулке на Илинг-Бродвей, где был знаменитый клуб Алексиса Корнера, в котором пятьдесят лет назад, 12 июля 1962 года, Мик и Кит впервые играли с Брайаном Джонсом, и где фактически родилась группа Rolling Stones. Я множество раз проехал на велосипеде по Эдит-гроув в Челси в поисках дома номер 102 и кухонного окна квартиры, которую Кит в ранние годы делил с Брайаном Джонсом. Там был такой бардак, что они в конце концов не выдержали — всю кухонную утварь свалили горой в раковину, заклеили входную дверь изолентой и сбежали.
Я годами шел по следу Кита, но ни разу не сталкивался с ним самим, а совсем недавно судьба послала мне невероятную удачу.
Я попал на церемонию в Ковент-Гардене, где надо было сказать короткую речь в честь благородного ученого лорда Коэ и вручить ему подарок.
Когда я добрался до здания Королевской оперы, дорога была запружена огромными лимузинами, блестящими черными «бентли» и «майбахами». Было уже около И вечера, но толпы охотников за автографами все еще не расходились и криками приветствовали всех, кто шел через толпу.
В здании Оперы проходил самый торжественный и таинственный ритуал национального культа славы. Я вошел во внутренний дворик, напоминающий огромную арочную теплицу, и смотрел, как ослепительные прожектора рыщут по одетой в смокинги толпе.
Это была не просто толпа знаменитостей — это была толпа звезд первой величины. Типичнейший трюк организаторов — льстить самолюбию всех, кто хочет повысить свой рейтинг: вы говорите людям Боно, что там будет Стинг, а людям Стинга вы говорите, что будет Боно, и — опля! — являются оба, и вы получаете шумное сборище знаменитостей, где все друг друга поздравляют, где Салман Рушди рассказывает свой следующий сюжет Кайли Миноуг, у Билла Клинтона на коленях сидит Мадонна, а мать Тереза из Калькутты шепчет ему на ушко непристойный анекдот — ну, в общем, вы поняли. Остальные же — те, кто проходит по спискам второго, третьего и четвертого разряда, — ощущают безумную, как при вдыхании гелия, радость просто от того, что нам позволено дышать тем же воздухом или осушить бокал модного вина «Jacob’s Creek» из той же священной чаши, которой касались губы богов.
Такими были мои чувства, когда я нашел свое место и приветствовал политика из списка звезд первого разряда Джорджа Осборна, и такого же звездного театрального импресарио Тревора Нанна, и их роскошных звездных женщин.
«Прошу прощения за опоздание», — задыхаясь сказал я невероятно высокой, худой и при этом каким-то чудом фигуристой распорядительнице мероприятия, которая оказалась рядом со мной.
«Ничего, — сказала она, — Стивен Фрай говорил так долго, что мы немного выбились из графика».
«Ну и отлично, — сказал я. — Когда моя очередь?»
«Уже скоро. Вы выступаете после Писателя года, а это у нас Кит Ричардс. Вон он, вон там», — сказала она, отвечая на мое недоверчивое хриплое восклицание.
«Где?» — Я пялился изо всех сил.
«Вон там — впереди», — и она указала на копну седых волос, которую ни с чем невозможно было перепутать.
Следующие несколько минут я не сводил глаз с моей жертвы, пока он не повернулся, явив мне свой знаменитый профиль, величественный римский профиль. Римский профиль? Стоп: это не Киф. Это сэр Том Стоппард, еще один человек с седой копной на голове.
А где же Киф? Девушка уже ушла, и, пока я пытался вычислить Кифа, я лихорадочно думал, как быть. Я по опыту знал, как тяжело мне даются импровизированные интервью со сверхзвездами. Как-то я потратил три дня, преследуя Жака Ширака по всей Франции, после того как один из членов его штаба заверил меня, что он даст мне интервью в «кулуарах» одной из предвыборных поездок. После ряда неудач мне удалось пересечься с ним, когда он мчался с митинга к своему огромному «ситроену».
«Президент Ширак! — закричал я, протягивая руку. — Борис Джонсон, из Лондона!» На какую-то наносекунду он задержался, пожал мне руку, просиял… «Жак Ширак, из Парижа!» — был ответ, и тут я вдруг почувствовал себя как нападающий в американском футболе — телохранители сжали меня с двух сторон и прервали нашу беседу, Ширак исчез. Я пробовал и так, и этак, но ничего из этой реплики выжать не смог.
Поэтому я точно знал: чтобы использовать отведенное мне время по максимуму, лучше сконцентрироваться на одном покрывающем все вопросе. Церемония награждения затягивалась, а я все размышлял: что я уже знаю о нем, а что только хочу узнать?
Я внимательно изучил «Жизнь» — автобиографию, за которую Кит получил награду как писатель. Перечитывая ее снова и снова, думаю, я все понял. Rolling Stones — это столпы нашей культуры, солидные, маститые, закаленные на семи ветрах, как львы на Трафальгарской площади, без них историю современного Лондона и представить себе нельзя.
Как я уже сказал, они все еще играют рок, в возрасте под семьдесят, хотя Билл Уаймен в последнее время немного сачкует. Они сгенерировали многомиллиардные потоки всевозможных доходов (из которых, благодаря искусному планированию, лишь очень небольшая часть попадет в руки британского налогоплательщика). Их вываленный язык в рекламном бизнесе считается одним из самых ярких брендов страны. Я не шучу. Я бывал на презентациях, где этого толстогубого называли символом и «мощнейшим ресурсом компании под названием «Великобритания, Ltd.».
Что еще важнее, они создали нетленную антологию великих рок/поп-песен, а так много создавать на протяжении стольких лет — это просто невозможно без какой-то особой мании, заставляющей постоянно творить. Ясное дело, этой плодовитостью мы обязаны Мику Джаггеру и Киту Ричардсу и их знаменитой «любви-ненависти» друг к другу. Чтобы понять, как началась эта дружба, придется вернуться более чем на полвека назад, во времена еще до их выступления 1962 года в клубе Ealing Алексиса Корнера и до их исторической встречи в декабре 1961 года на железнодорожной станции «Сидкап», где Кит увидел Мика, который ехал на учебу в Лондонскую школу экономики со стопкой пластинок Чака Берри и Мадди Уотерса под мышкой.
Чтобы понять, что происходит между Миком и Китом, нужно вернуться далеко назад — в начальную школу в Вентворте, что совсем рядом с лондонским пригородом Дартфорд, и к тому, что случилось, когда им обоим исполнилось одиннадцать лет. Все дело в том, что Мик Джаггер успешно сдал экзамен «11+» и пошел учиться дальше в классическую среднюю школу (grammar school), откуда ему открывалась прямая дорога в университет. А Кит экзамен завалил и должен был идти в школу с профессиональным уклоном, если бы не способности к рисованию и музыке.
Поэтому он пошел в техническую школу в городе Дартфорд, но и там его успехи никто не оценил: все было так плохо, что его оставили на второй год, и он был в ярости. Достаточно посмотреть его интервью или прочесть его книгу «Жизнь», чтобы понять, что Кит очень вдумчивый и умный человек и не только входит в десятку лучших гитаристов в истории (как утверждает журнал Rolling Stone), но он еще и любитель военной истории и прилежный читатель, имеющий приличную библиотеку в Коннектикуте. Но в нежном одиннадцатилетнем возрасте британская система образования дала ему понять, что мозги у него сделаны из другого теста по сравнению с его дружком и соседом.